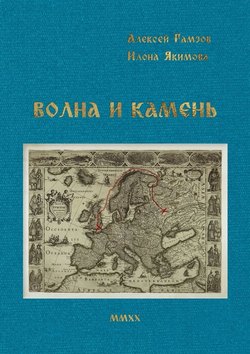Читать книгу Волна и камень - Илона Якимова - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ЧАСТЬ 1. ИСХОД
Глава 5. В Соловки!
ОглавлениеОт сотворения мира лето 7050-е
(от Рождества Христова 1542-е), мая месяца 20-й день,
Соловецкий монастырь
Как у орла ромейского, что к нам символом великодержавности перешёл, две головы, так и у монастырей – две ипостаси, две власти, два назначения. Русский, завидев вдалеке обитель, на что внимание обратит? На купола серебристые или же золотистые, на кресты осьмиконечные. И скажет: «Вот оно, жилище мужей праведных». А чужой человек что увидит прежде всего? Да вот же: стены белокаменные десяти сажен высотой, да претолстые, башни часто выставленные, жерла пушек из бойниц торчащие, военные стяги. А вступив под сень укреплений, наверняка застанет более или менее многочисленное сборище людей в длинных кафтанах. Через плечо у них перевязи с пороховыми кисетами, у поясов мешочки с пулями, кровожадные кривые сабли позвякивают, встречаясь со щеголеватым голенищем остроносого сапога. Лихого вида бороды и шельмоватые глаза, сверкающие из-под островерхой шапки с отворотом, завершают внушительный образ. В пестрой картине людского разнородья русских городов и поселений эти молодцы отличаются редкостным единообразием. Славные воины, основа государства, покой обывателям…
Как же получилось так? А просто. Где большой монастырь – там многия богатства, слава Богу. Богатства надо оборонить, вот тебе и стены. А раз иноки привыкли ставить обители свои в уединении, вдалеке от центров – стало быть, и от границ недалеко. Вот тебе и укрепление в пограничье оказалось, ставь гарнизон – и готово! Издавна так и повелось: государь монастыри привечает, строит стены, а заодно и на храмы даёт. А монастыри не устают государю осанну распевать.
Возможно ли не обитать воинам в крупных монастырях, каждый из которых – крепость? Это даже красиво. Долгой северной зимой обладатель глаз, наметанных на прекрасное, мог бы засесть на угловой башне, оборотиться к монастырским дворам и наблюдать, как по девственно белым снегам туда-сюда снуют черные фигурки монахов и красные – воинов… Совершенство!
По причине мирного времени на Соловках служивых было десятка три всего лишь, и то половина – пушкари. За железным имуществом нужен постоянный уход, это запускать никак нельзя! В полном соответствии с «двуглавой» нашей сущностью, «красные» и «черные» и живут отдельно, и общаются меж собой с экивоками, и начальники свои у каждого. Монахам – игумен указ, бойцам – сотник-голова. Игуменом на Соловках был преподобный Алексий, а сотника звали очень подходяще для такого молодца – Волк.
Имя это тянулось в роду испокон веку и передавалось от первенца к первенцу. Волк-отец служил Василию Третьему, Волк-дед – с Третьим Иваном стоял на Угре, выжимал с нашей земли татар, и так дальше. Вплоть до того Волка, что проявил себя геройски на поле Куликовом и благодаря геройству своему даже упомянут в летописи. Волк Волков-сын гордился и отцом, и дедом, и каждым из пращуров, о ком сохранились сведения. Горд был и собой. И хваток, и ловок, и силен, и дослужился до хорошей должности. Передавшаяся по наследству верность государю давала ценное сознание нравственной правоты. Служи себе, куда пошлют, радуйся жизни и будь готов защитить великого князя!
И вот что было думать служаке, когда гарнизонная лодка с большой земли, из Кеми, прибыла с секретным посланием? Оное сообщало о прибытии великого князя Иоанна, князя Бельского и сопровождающих лиц, указывало на необходимость содержать малолетнего повелителя под стражей, предписывало до поры игумена в известность не ставить, поступить в распоряжение головы вновь прибывшего отряда и обеспечить все условия, дабы избежать прискорбных неожиданностей.
Послание пропутешествовало сюда из Москвы, подписано было Шуйским и явно свидетельствовало: борьба за власть в столице зашла чересчур далеко. Читавший это письмо поневоле чувствовал себя между молотом и наковальней. Иоанну Васильевичу присягал, а с другой стороны – приказы начальства не обсуждают. Но всегда ли это справедливо? Хорошее будет дельце, если человека, которому поклялся в верности перед лицом божьим, при твоём же участии сгноят в темнице или того хуже!
Волк был не дурак и малый честный, сложил два и два, подумал и отправился в келью к игумену. Была тому визиту и еще одна причина, личная, но сотник рассудил, что это не игуменова ума дело, а только его, Волка, да Бельского Ивана Федоровича.
А назавтра рано утром в море показался поморский коч под военным знаменем…
***
Иисусова пустынь, большая проплешина на густо заросшем лесом острове, звенела тишиной.
Человек, пришедший сюда сегодня, определил это место для безмолвных молитв. Хрусткий ледок под подолом давно подтаял, промочил рясу, холодом схватил ноги, но коленопреклоненный чернец ничего не замечал. Глаза его, глубоко засевшие под надвинутым по самые брови клобуком, были закрыты. Ветерок холодил высокие скулы, обтекал красиво выточенный нос, пошевеливал волосы и бурую, мягкую, как трава вокруг, бороду. Нет, инок Филипп не спал, но, Бог не уберег – и не молился.
День, и так почти бесконечный об эту пору на Соловецких островах, монастырские обитатели трудами своими делали, казалось, еще длиннее. Филипп сегодня, как обычно, первым пришел к заутрене, потом носил воду для трапезной из прозрачного, как небо, омута, потом было главное послушание: кузня. Монахи поначалу удивлялись: откуда у боярского сына этот дар – сильно и точно бить пудовым молотом часы напролёт? И радовались – дал Господь послушника как раз вовремя. После бедственного пожара обитель Савватия и Зосимы, сиречь монастырь Соловецкий, собирали по бревнышку, по гвоздочку, и игумен Алексий быстро пристроил неофита к делу.
Было это несколько лет назад. А до того тянулась у инока Филиппа совсем другая жизнь, и звали его Фёдор Колычев, был он из сильных мира сего. Владел он золотом, мягкой рухлядью, тягловыми людьми и прочим богатством и обитал не где-нибудь, а прямо в московском Детинце, при дворе великого князя Василия. Не сокольничим был, не постельничим – особое дело определил ему князь. Быть товарищем своего долгожданного первенца, Иоанна Васильевича.
Двадцать вторую весну справил тогда боярин Колычев, статен стал, широк в плечах, важен, а приставлен был деревянных лошадок катать с младенцем! Иные смотрели насмешливо, язвлено, но Феодор не серчал. Размахивать саблей и сечь врагов от ключицы к поясу он был не охотник, да и другого способа побеждать врагов – плести пересуды да наушничать – не любил. А вот наследник боярину пришёлся по душе.
Потому от всего сердца горевал он, когда трёхлетний Иоанн остался без отца. Грузом навалилась на мальчонку утрата, погасила на время извечные угольки в глазах. И еще большим грузом на плечи юнца – и как не затрещали? – легла Держава.
Потому монах Филипп и не молился сейчас. Мысли против воли утекли от божественного к земному, расшевелилась память. Вспомнился малолетний князь, и всё, что творилось при дворе по смерти его батюшки. И как бросали в холодный сруб, умаривали голодом дядьёв Иоанна Васильевича, и как Колычевых – одного за одним – давили ремнями, высылали в медвежьи углы. И как эта, накажи ее Бог, развратница Глинская, Иоаннова мать, чуть не на глазах у челяди нежилась с полюбовником своим, Телепнёвым-Оболенским. Как грызли глотки Шуйские – Бельским, Бельские – Глинским, Глинские – Шуйским, и каждый – каждому, кто только дотянуться мог. Недаром говорят: малый летами правитель – большое несчастье…
Дальнейшего – как отравили наконец мать царевича, убили ее полюбовника, ходили стенка на стенку, бросали в драку войско – Феодор Колычев предпочёл не видеть. Позже он рассказывал монахам о причине своего появления так: «Явился мне в церкви, во время воскресной литургии, голос Спасителя, и рёк: „Никтоже может двема господинома работати“. Поднялся я и ушел, в чем был, по Божьему промыслу». Так было или нет, инок и сам себе теперь не признавался. Но из Москвы он действительно ушел, бросив всё: и богатство, и положение.
Проще говоря – сбежал.
Бежал до самой Онеги, до деревеньки Хижи. Там прикинулся простолюдином, жил, как они, работал, как они – чтобы не сыскали, не напали на след. Потом двинулся дальше на Север и однажды постучался в ворота обители, где твердо намерен был провести остаток земных дней. Кто таков не сказался, только проговорился, что высокого сословия. Старец Иона, которого приставили к послушнику, сыну знаменитых и славных родителей, белой кости, горлатной шапке – спуску не давал. Бывший белоручка таскал мешки с мельницы, месил тесто в хлебне, ловил в студеном море селёдку, рубил дрова и – молился, молился, молился. Вот и слетела со временем вся шелуха…
Вся, да не вся! Отзвуки каменных кликал с монастырской колокольни заставили Филиппа вздрогнуть и очнуться от мыслей. «Грешен, Господи», – пробормотал он, часто творя крестное знамение, поднялся с колен и оборотился к видневшимся в двух верстах монастырским стенам. Оттуда, мелькая посохом, удивительно споро ковылял старец Иона.
– Брат Филипп, поспешай! – голос ссохшегося и скрюченного старика, противу ожиданий, напоминал иерихонскую трубу, – К берегу пристал коч! Послал Создатель нам горькое испытание!
– Что случилось, что?! – Филипп побежал навстречу, подхватил запыхавшегося наставника под локоть.
– Прибыл великий князь Иоанн Васильевич. – Иона хватал воздух, хрипел. – С малой свитой… и… под охраной… Ступай скорее к игумену.
– О Господи, Господи… Зачем ему я?
Иона вдруг стих и посмотрел Филиппу прямо в глаза – пронзительно и остро.
– Не прикидывайся квочкой, Колычев. Игумен всё про тебя знает, и давно. А ты знаешь, что он знает! Иди, брат. Иди, сынок. Ты нам всем сейчас нужен.
Ох, неспроста мысли загуляли сегодня не туда, подумал Колычев. Иона прав. Беда…
***
Говорят – стукнуло столько-то годков, но чем стукнуло, куда стукнуло, о том ни слова. А вот Неждана шестнадцатая весна приложила будто бы по-настоящему. Рос он под присмотром монастырских медленно, но верно. Вроде бы вчера еще гонял хворостиной гусей, закатав портки чуть не до самой задницы, чтоб росой не промочило. Еще недавно Фома-переписчик дразнил его «от лавки на полглавки». Надысь вроде бы ещё с дворовыми псинами играл, не нагибаясь. А смотрите на него теперь – вздулся, как тесто, распахнул плечи, перестучал крутым лбом все монастырские притолоки! Обозначился второй подбородок – куда обширнее первого, да весь уже пошел щетиной, как у порося. Живот хоть и пополз уж за ремень, да все одно терялся под плечами. Кулаки свисали, будто левая и правая голова Змея Горыныча – с башкой нашего молодца размера одного. Ходячая нелепица, большущий щенок, у которого одни части обогнали в росте другие! Настоятель обмолвился как-то, назвал вместо Неждана – Дубиной. Теперь все горазды дразниться, приклеилось прозвище, как лист в парилке. Дубинушка…
Определили отрока на кузню, помогать иноку Филиппу. Там и стало его основное послушание. Игумен рассудил справедливо: там, в кузне, мальцу самое место, всё вокруг железное, разломать трудно. А неуклюжим Дубинушка стал – страсть каким. Из-за величины своей да недотумканности.
Приложила шестнадцатая весна по-настоящему и вот еще как: затомился здоровенный медведь Неждан, как малый котейка. И день и ночь думал он одну нехитрую мысль. Мысль была такова: «Девку бы».
Казалось бы, чего проще? Статью Господь не обидел. На такие бока да на ручищи какая бы не засмотрелась? Да и живи Дубинушка по сю пору в деревне, давно бы уже ходил венчанный, что ни день хозяйствовал бы хозяйство, да наминал бы жену что ни вечер. Глядишь, уже и дите какое из притолочной люльки бы попискивало…
Только где это всё взять-то, если ты сирота-сиротинушка и воспитали тебя в самой что ни на есть строгости, в самом что ни на есть суровом монастыре на краю света? И не сбежишь. Во-первых, совестно, во-вторых, куда сбежишь-то с острова. Вплавь, что ли? Впрочем, плавать Неждан не сподобился как-то научиться – холодно, да и водяных боялся. И не только их. Опасался и леших, в овин к овиннику без наговора не заходил, а под лавкой, где спал, всегда держал блюдечко с молоком для домового. Дубинушка и есть, сажень без вершка росту, а ума не нажил, как приговаривал остроязыкий Фома, вставая на цыпочки, чтобы угостить Нежданку привычным подзатыльником.
И то верно, не нажил пока. Когда прибыли в обитель высокие гости да прилетели вперед гостей дурные вести – как вся братия полошилась, как игумен Алексий морщил и без того испещренный бороздами лоб, какая беготня поднялась, как все крестились наперебой! Вот въехали верховые на подворье. Братья, понятное дело, таращили глаза на опального великого князя. Когда еще увидишь правителя Земли Русской, хоть и отрока, хоть и ссыльного – на расстоянии руки? А Неждану только одно. Притаился у ворот, высматривает – нет ли бабенки какой среди прибывших. Ладно, дворянка, тут уж место своё знаем, а ну девка, кухарка или иная прислужница? Как назло, не оказалось ни кухарки, ни иной прислужницы. Даже дворянки!
Приставили Дубинушку к гостям. Первым делом в оборот его взял спокойный и очень внушительный дядька средних лет, в бедрах широкий, в плечах покатый, руками суховатый, ногами кривоватый. Этот соломеннобородый в добротных и носких одеждах серого цвета всему маленькому княжескому двору, считай, оказался распорядитель. Подошел он, воздел очи горе (а как еще на этакого увальня посмотришь?) и сказал:
– Слушаться будешь меня. Что скажу, всё надо делать. Великому князю только попробуй не угодить. Буду давать поручения. Если что, скажешь – Истома Безобразов велел. Спросить чего хочешь, так спрашивай.
А Неждан возьми и ляпни первое, что в голове лежало, без обиняков:
– А правду говорят, что в Москве самые красивые на всем белом свете бабы? Вот бы посмотреть, коли так!
«Ой, дернул черт за язык – успел подумать Неждан. – Попал прямиком впросак, нашел о чем спрашивать, дурачина!» А солидный Безобразов вдруг грянул хохотом, да так, что поднаторевший в арифметике Дубинушка успел помимо воли посчитать все его зубы.
– Да, холопчик, несладки тебе, видать, щи монастырские, – смахнув слезу, выдохнул Истома. – Ну что тебе сказать, болезный. Такие там есть девки, что как месяц, а есть такие, что и как солнышко. Да пока не про твою душу. А ну бегом за посудой, дубина, смехом господ не накормишь!
«И этот дубиной назвал. Сговорились они все, что ли, или сам догадался?» – обиженно подумал Неждан на бегу…
***
День, столь богатый событиями, не склонился еще к вечеру. Иван отведен в предназначенные ему покои, если словом «покои» можно назвать не очень-то и большую скромно обставленную келью с решетчатым окном. Пока венценосный отрок ходит там из угла в угол, переваривая впечатления от первый раз в жизни увиденного моря, стрелецкий сотник Волк официально принимает пленников у воеводы Кемского гарнизона. Вояки обнимаются на прощанье, и ратники с большой земли, что едва успели наскоро пообедать нехитрым монастырским угощением, дробно топочут по сходням. Коч неуклюже отваливает от причала и уходит восвояси. Воевода торопится в Кемь: нужно как можно скорее отправить гонцов на перекладных, доложить о том, что все исполнено в точности. Дело спешное, а ночь на море об эту пору не страшна. Какая она в этих краях в мае? Жиденькая!
Узники отныне – под надзором соловецкого гарнизона. Для сотника Волка это означает большую власть. И воспользовался он ею немедля, приказав вести боярина Бельского к себе.
Небольшой дом с подклетом и полисадом, островерхая крыша, аккуратное крыльцо: военачальник, чай, не рядовой, ему в общих помещениях спать не положено. Сюда, подальше от любопытных ушей, к крепостной стене и прибыл Бельский, сопровождаемый под руки двумя рослыми краснокафтанными молодцами.
Хозяин встретил в сенях.
– Пошли вон, – сухо бросил он провожатым. – Сидеть за оградой. Надобны будете – свистну.
Протянул Бельскому руку:
– Здрав будь, Иван Федорович. Почитай, с утра не виделись. Милости прошу на землю Соловецкую, как говорится. Дозволь, провожу в горницу. Квас будешь?
Бельский сжал зубы:
– Переживу без кваса. Давай-ка к сути.
– Садись, Иван Федорович, вот лавка, сюда, за стол, пожалуй. Дай-ка я всё же кваску плесну, у самого в горле сухо, а в одиночку, того, пить невежливо.
Волк разлил пенный напиток по большим кружкам, пододвинул поближе к Бельскому блюдо с вяленой рыбкой и сухарями, наконец, сел. Бельский смотрел на него пристально, отметив между делом, что сотник явно взволновался. Не совсем обычно для хозяина положения…
– Ну так что, голова, давай поговорим, что ли. Если так, познакомиться решил, то я боярин Бельский, за квас спасибо, пойду восвояси. Да попроси своих красных девиц, что у забора притулились, меня проводить, а то темнеет рано!
Боярин, как это часто с ним бывало, употребил свое неповторимое чувство юмора. Смешило оно немногих, а вот взбесить могло кого угодно. Военачальник, однако, беситься не стал. Вместо этого повел речь о весьма неожиданных для Бельского вещах:
– Так ты хочешь к сути, боярин? Добро. Ты, позволь напомнить, на острове, здесь расположен Соловецкий монастырь, он же крепость. Имеется отряд стрельцов числом 35 человек, под моим началом. Нам велено охранять Великого Князя, который никакой на самом деле не князь, и великого воеводу боярина Бельского, который на самом деле не великий и не воевода, а самый большой смутьян на Руси. Это всё я узнал из послания, подписанного Иваном Васильевичем Шуйским. И почему-то – а почему, то другой разговор – я подумал: а не дурость ли всё это? По мне, так дело выглядит так: наследника престола обманом лишили власти и передали сюда, на северную окраину, под охрану. Приказа умертвить вас я пока не получал. Возможно, получу вскоре, либо для сего черного дела прибудут люди особые, лютые. Вот так подумалось мне, грешному. Однако, дума думой, а что делать? Погонял я в голове мыслишки – да к игумену. Все как на духу и выложил. Поддержал он меня, так-то!
– Поддержал – это за подмышки что ли, чтобы не шатало? Не иначе, пьян приходил, с такими-то мыслишками! – Бельский осклабился.
– Подожди, боярин, слушай дальше да внимательно. Мои люди будут делать то, что я прикажу. Тем более, что приказывать я ничего против их воли не буду. Всего лишь скажу, что законного наследника надо вернуть. Предлагаю: Соловецкий монастырь сей же час сделать опорой истинной великокняжеской власти. Я сам отправлюсь в Кемь, обсужу наши дела с тамошним сотником. Товарищи мы старые, и убедить его мне по силам. Глядишь, силы наши умножатся. Далее мы будем продвигаться на юг, а верные слову воины будут не воевать с нами, а к нам переходить! Ведь есть Иван Федорович Бельский, истинный радетель за землю Русскую, кому, как не ему, защитить великого князя? А вора-Шуйского, глядишь, все прихвостни покинут, вот он, бери тепленького, как уже бывало. Сим победишь, Иван Федорович, да и жив при том останешься. Вот тебе суть – ежели в двух словах, как просил. И важно мне услышать, что ты, боярин, на это скажешь. Головой рискую, сказав сие! Так что думай, не торопись с ответом.
Мысли Бельского закрутились. «Да, прав служивый, застал меня врасплох. Почему все это выложил? Думай, от этого многое зависит, ой многое!
Как дела обстоят? Стрельцы, которые вели нас сюда от самой Москвы, отбыли. Своих не оставили. Здесь отряд другой, но у сотника есть все указания от Шуйского. И теперь этот, как его, Волк затаскивает меня к себе в логово, и ты погляди, что предлагает! Как кусок сала для крысы. Либо сотник дурак, ни уха ни рыла не смыслит, и при виде Великого Князя готов встать на задние лапки и трижды тявкнуть. Но для дурака довольно смело мыслит, да и с виду не скажешь, что дурак. К тому же здесь нету никого, кто был бы лично предан Шуйскому или чем-то ему обязан. А что, ежели сотник замыслил недоброе? Подзуживает на бунт, чтобы потом оборотиться из друга во врага и расправиться со мной, и, главное, с Иваном. Что ж, умно. Но и глупо. Ведь куда как проще нас прирезать, тела бездыханные на крыльцо выбросить и объявить, мол, так и так, пытались убежать, да не убежали! Почему Волку так не сделать? Боится монахов, что они узнают, увидят, разгласят, распустят слухи? И вообще: какой смысл этому сотнику нам помогать? Что он на самом деле за человек?»
Размышления вылились в незамысловатый, но насущный вопрос. И Бельский его тут же задал:
– Почему же, щучий ты сын, я должен тебе доверять?
– Потому что такой недалёкий рубака, как я, хитрости плести не умеет, Иван Федорович.
– Шутишь.
– Отчего не пошутить со старым знакомым, боярин?
– Облезлый волк тебе знакомый, не я!
– Да мы оба шутить горазды! – хмыкнул в усы Волк. – Ну, хватит. Второй твой казанский поход помнишь? На Леонида Мученика дело было. Западный подступ, татарская вылазка.
– Да мало было их? Не юли, дело веди, – Бельский заинтересованно зыркнул на собеседника.
– Эту должен помнить, Иван Федорович. Ты тогда уже большим воеводой был, все больше назади войска, на возвышеньице. А тут передовую сторожу подъехал проведать. Откуда ни возьмись – конница, так? Спорим на рубль, это была первая твоя сшибка за пару лет!
– Дай догадаюсь, служивый. Ты, конечно же, там был. Ну ясно, втирайся дальше. Кто надоумил только, потом не забудь рассказать, дюже мне любопытно.
Волк сплюнул:
– Ну это ж надо, до чего склочен человек, что мне жизнь спас! Вот скажи мне, скольких ты в той стычке зарубил?
Бельский недовольно поморщился:
– Жизнь спас? Ишь ты, как поёшь славно. Чего пытаешь? Ну, одного. Всего-то. Да доблести и нету никакой. Как началось дело, жахнул из самопала в белый свет как в копейку – лошадь оступилась, крючок и нажал случайно. Миг спустя куда уже стрелять: вот они, супостаты, бери рукой! Рынды молодцы, конечно, бросились, прикрыли. Два бусурмана округ меня только было круг заложили, они сабельками вжик – оп, седла пустые, – Бельский раздухарился, вспоминая былое, плечи развернул, выпучил глаза. – Я-то гляжу, в порядке, а передовых-то наших, сторожевых, вовсю топчут. Я туда. За мной, кричу! Татарва тут и получила на орехи, как мы навалились. Врубаюсь в толпу – а первый из этих как раз ко мне спиной, наклонился с коня и кого-то тащит за вихры. Ну, ты знаешь, как они, ироды, делают: саблей чирк (Бельский манул рукой, показывая, как именно «чирк»), башку долой, а потом эта башка у них с продранными ушами на верви под конским хвостом катается, пока не завоняет. А я ему, татарину этому…
– Саблей прямо по руке, та на рукаве отрубленная повисла, а следующим ударом, с оттягом, снизу вверх – так, что у татарина конец клинка вошел прямо под челюсть и рассек до самой маковки, как спелую тыкву. Это моя, моя голова должна была у конской задницы болтаться, Иван Федорович! Я человек маленький, ты большой. Поэтому меня и не помнишь. Но ты мне жизнь спас, а я тебе нет. Поэтому я-то тебя помню. И век не забуду. А сейчас я, боярин, могу долг вернуть, и мешать мне не надо.
Бельский почесал в бороде, встал, прошел к окну. Опрокинул в себя остатки кваса, стукнул кружку о подоконник.
– Давай представим, что верю я тебе. Ты, сотник, не обижайся, я не из доверчивых, потому и жив до сих пор. Правдиво брешешь. Ладно. Но кто тебе напел, что Иоанн действительно не ублюдок жены великого князя Василия? Ну? Я, может, и спас тебе жизнь, но я не святой. Что, если я дул в свою дуду, плел пересуды, наушничал, пригрел ненастоящего наследника, а Шуйский-правдолюбец окорот мне дал? И вот мы здесь, а ты хочешь встать на нашу неправедную сторону?
Волк глянул на Бельского устало, как матушка, бывает, глядит на исшалившееся дитя.
– А я, Иван Федорович, не малейшего понятия и не имею о том, настоящий наследник Князь Великий Иоанн или нет. То мне без интереса. Присягал я именно ему. Мать его хоть с конюхом греши, но если я присягнул сыну конюха – то это все равно будет слово, а оно у служивого должно быть нерушимым. Тебе ли не знать, боярин. А еще вот что. Никто тут не верит, что Иван не настоящий наш князь. Я всех стрельцов спросил, чтобы ведать, какие у подчиненных настроения. А игумен Алексий, с которым у нас намедни замечательные, надо сказать, посиделки были, то же самое сказывает и о монахах. Ну и третью причину, Иван Федорович, мы уж обсудили. Когда я тебе жизнь спасу, мне коротать век будет веселее. Долг красен платежом.
Бельский улыбнулся:
– Ну хорошо, будь по-твоему. Я бы еще походил по округе, поспрашивал, может, у кого-то предложения получше. Но, подозреваю, только зря ноги натружу, верно разумею?
– Воистину так, Иван Федорович. Слава Богу, что не пришлось тебя связывать, дабы помочь насильно. Вот крест, уж думал, что так и придется делать! – рассмеялся сотник. – Не беспокойся, боярин, я тут хозяин и могу на первых порах поручиться за успех. Конечно, до тех пор, пока я здесь хозяин…
– Все понятно. Твой отряд на нашей стороне, игумен тоже, монахи нам – будто архангелы, осталось обрадовать великого князя. Только поверь, Волк, я наследника знаю. Его, ха-ха, убедить будет посложнее меня. Не то, чтобы он глупый, но зато упрямый, ой, упрямый!
– А пойдем, боярин, в покои к настоятелю. Игумен уж знает, кого послать к Ивану, коли мы договоримся. Есть у него инок Филипп, так рассказывают, что тот некогда звался Федором и пестовал Ивана с малолетства. А потом неизвестными путями всплыл прямо тут, на Соловках.
Бельский вытаращил глаза, грохнулся на лавку, развел руками и закачал буйной головушкой:
– Матерь Божья, Святой Егорий и все апостолы! Есть в этом монастыре вообще люди, которых я не знал раньше? О, Колычев! О, щучий сын!
***
Желание броситься этому человеку на шею и зарыдать было внезапным и достаточно сильным, чтобы Иоанн сделал шаг вперед – прежде чем усилием воли осадил себя.
– Почему за окном так светло? Подсади, я не вижу.
– Там идет снег. Наступила, стало быть, зима.
– А почему когда тепло, всё дождь и дождь, а нонче снег?
– Бог его посылает землю укрыть, чтобы не мерзла, матушка.
– Чудак дядя! Как же земля мёрзнет?
– Вот как выйдем гулять, откопаю тебе землицы, увидишь, какая твердая стала. Так и мерзнет.
– А мне какая польза от снега? У Бога и для меня должна быть польза!
– А вот возьмут тебя на охоту, как подрастешь, так на снегу все будет написано – каков зверь, куда схоронился, здоров ли, силен, не ранен… А ты его настигнешь и убьешь из лука. Будут тебя славить и аллилуйи воспевать.
– И еще снежки! Снег – для снежков! Вели во двор меня собирать, засыплю тебе за шиворот, будешь знать!
Это было второе, что Иоанн помнил из раннего детства. А самое первое воспоминание было такое. Его несут на руках, разбуженного, в накинутом на плечи кафтанчике, с ногами в одеяльце (оно красное, а строчка на нем желтой нитью, крест-накрест, крест-накрест). Близко над головой плывут потолочные балки. Мало света, приглушенный говор, и чувство, что случилось необычное. Потом комната, в ней монахи и на кровати отец – страшный-престрашный, как водяной, как упырь. Он открывает глаза и тянется, тянется руками, хочет взять, стиснуть… А на полу – таз, и там кровь, и что-то плавает!
Второе воспоминание Иоанну нравилось больше. И другие из того времени. Отца-то уже не было. Матушка призывала ввечеру благословить сон да спросить, хороши ли дела – и тем обычно ограничивалась. А кто же был рядом с самого утра, кто частенько спал в ногах не по размеру большой кровати маленького князя, кто таскал его на плечах, отвечал на тьмы вопросов, вытирал нос, шугал нянек?
Тот, кто стоял сейчас перед великим князем. Дядька Фёдор. Фёдор… по батюшке? – да, Колычев. Который потом исчез, сбежал, бросил – чтобы обнаружиться вот так, на краю земли, в монастырской келье. Зашел, приклонил книзу голову и замер: в рясе, с бородой вдвое более длинной, но почти не постаревший. И что делать? Одна половина сознания желала пнуть, поколотить, злобно крикнуть: «Иуда! И ты, ты тоже меня бросил! Чуть ли не первый! Ты как все!». А другая – повиснуть на шее. Будто тебе опять четыре годка, и в тебе не десять пядей росту, а едва возвышаешься ты над сафьяновыми сапогами придворных. Чтобы дядька защитил от обид и напастей, от всех сразу!
Вот и застыл Иоанн на месте от противоречивых желаний. И еще от удивления. О боже, неисповедимы твои пути: сводишь ты людей, казалось, навсегда расставшихся, в таком месте и времени, что менее всего ожидаемы!
А потом ноги Иоанна сами сделали шаг вперед, а руки заключили монаха в цепкие объятия. И великий князь заплакал…
***
Время течет неравномерно, это каждый знает. Обычно ведь в жизни ничего особенного не происходит. Год тянется за годом, дни проходят в рутинных делах, ни горестей, ни радостей, ни опасностей. Так она, эта жизнь человеческая, устроена. Если ее не расшатывать, не теребить, не вмешиваться в ее плавный ход – так и пройдет, тихо и мирно. Родился, крестился, детишек завел, опочил…
Но иногда время будто пускается в галоп. Все начинает меняться с головокружительной быстротой. Тогда и за целый вечер не переберешь того, что произошло за день. На вопрос «как сам поживаешь?», заданный встречным, можно отвечать битый час. В иные годы вся летопись целого княжества или государства уляжется в страницу, а в иные даже самое интересное приходится опускать за недостатком места.
На Востоке это называют «превратность», а на Руси обозначают поговоркой «не было ни гроша – да вдруг алтын». Тысячи событий приходят в движение, подобно камнепаду, и угадать, какой камушек всему виной, никак невозможно. Десятки лет во всем, что касалось великокняжеской власти, соблюдалась хотя бы видимость какого-никакого, а порядка. И вот за ничтожный супротив вечности миг всё по Божьей воле меняется, и выходит совсем уж не то, что раньше. Еще в полдень ты молишься на Иисусовой пустыни, как многие годы делал и как собирался делать еще многие годы. А теперь сидишь, приобняв за плечи человека, с которым закон и обычай запрещают обращаться вот этак запросто. Но важен ли закон и обычай, когда не князь перед тобой, а обычный ребенок – и он нуждается в тепле и утешении?
Колычев и Иоанн сидели на некрашеной монастырской лавке, глядели через полукруглое окно с решеткой и молчали. О своих похождениях инок Филипп рассказал в двух словах, да Иван особо и не выпытывал, а про то, что Ивана привело на Соловки, Колычеву стало известно на встрече у игумена в подробностях больших, чем знал даже сам малолетний Князь.
А Князь наш малолетний думал в этот миг о том же самом: о превратностях и неожиданностях. Только, конечно, не такими умными словами, как Колычев, на свой лад. И тоже не испытывал ни малейшей неловкости по поводу того, что прилип к человеку, которого не видел много лет, который неизмеримо ниже по положению и вообще – беглец. Еще с полгода назад ему и в голову бы это не пришло! Но за последние месяцы мир вокруг изменился и исподволь, поначалу незаметно стал менять и самого Иоанна. И важнее того, что инок правителю не ровня – то, что он попросту его друг детства. Он – за тебя. Душа подсказывала, что ему надо верить. Вот ты, вот друзья, вот враги – как это волнует, как это просто, страшно и интересно!
Что было раньше? Иоанна год за годом, что ни день, поднимали с постели. Одевали, отводили молиться, потчевали, ахали, охали, причитали, наряжали, пичкали изречениями древних и откровениями столпов Церкви православной, учили, как говорить с иностранным государем, послом, послом похуже, послом враждебной державы, купеческой делегацией из далеких земель, с татарами-друзьями и татарами-врагами, как и что приказывать, как ходить, сидеть, куда девать руки на пиру… А как случалось торжество – сиди часами неподвижен, жди, пока взрослые исполнят, ради чего собрались да соблюдут обряды. Ни привстать, ни размять ноги, ни почесаться, ни отлучиться заради сцания! Пей, что дают, ешь, что дают, терпи, государь, такова планида. На охоту не возят, в город не выйти, одни и те же рожи, которые так и думают, как бы власть захапать. Вывезут раз в год на богомолье – то-то радость…
А потом случилась превратность! И вот Иоанн, хоть и Князь, но пленник во дворце своем. Что будет завтра? Казнят, бросят в темницу, или сторонники твои огнем и мечом восстановят справедливость? Каждый день живешь полной жизнью, потому что не знаешь, последний ли он, этот день.
Опять превратность! И вот везут Иоанна лихо, в составе санного внушительного поезда, всадники гарцуют взад-вперед, видны из окошечка в борту флажки на пиках, сабли, чешуйчатые брони и зерцала. Отряд марширует, песни поёт. Монастыри, постоялые дворы, палаты во встречных городах, каждый вечер новое ложе, новые яства. И всё-то ясно: вот друзья, вот враги, а раньше не разберешь, не угадаешь! Ну вот насколько проще стало!
Едешь-едешь, снежок отступающий догоняешь, солнышко светит, а кровососы лесные, комары да слепни, еще не проснулись – самое время для путешествия! А что под охраной – так это мы еще посмотрим, кто кого охранять будет, когда Иоанна-то спасут добрые подданные! Не забыть тогда тут же приказать выдрать как следует вдоль спины гниду-Шуйского. Вон он, впереди, тащит меня, Рюриковича, на Белое озеро! Погорюет князь, покручинится, инда даже всплакнет, забившись в угол возка своего, а потом опять нос высунет да красотами любуется. Мальчишка! Многие ли прынцы заморские такое видали, сидючи в замках своих?
Ну, а как от Белоозера отправились в Кемь и дальше к монастырю Соловецкому, вообще замечательно стало! Шуйский свой старый зад утащил в Москву – ужо тебе, радуйся напоследок, мешок ты с нечистотами! Половину войска забрал. Зато Иван Бельский теперь к процессии присоединился. Это хорошо, он друг.
Поход дело долгое, места вокруг пустынные, а воины – тоже люди, не без сочувствия. У сотника самого сыновья вон вровень такие же, что Иоанн. Вот уже и возок запирать снаружи перестали, вот можно уже и верхом иногда кататься, а не сидеть на лавке в тягловом ящике, как девка или старикашка.
Прошла едва ли неделя – и вот уже и Иоанн, и Бельский запросто сидят вечером на привале у большого костра. Рядом шумит мерзлая северная речка (уж которая по счету?), а боец из старослужащих, какой-нибудь Прохор или Феофил, рассказывает собравшимся очередную диковинную историю, которой – клянусь, мол, Николаем Угодником и статью моей Маруси! – сам был свидетелем. А какой-нибудь Петька или Севка, молодой и безбородый, понукаемый пожилыми, помешивает в котле что-то вкусное, с только что выловленной рыбкой, с нежными первыми ростками дикого щавелька, с ломтиками репки… И ведь прекрасно понимает Иван, что люди эти не друзья ему, и что везут, может быть, на погибель, и что прикажут им – поднимется рука зарезать-пристрелить. А все равно трудно отроку, двенадцатое лето всего лишь живущему, избавиться от чувства, что все вокруг: и вечер, и костер, и забористая история с крепким словцом, и котел, источающий вкуснющий запах – ему нра-вит-ся…
И вот еще чудо из чудес: настоящий народ. До того какой народ видел Иоанн? Шапки ломающий. Кверху хребтом стоящий. Славословящий. Даже слуги все, почитай – из дворян. Как тот же Безобразов Истома, которого Шуйский, так и быть, оставил Иоанну, «чтобы было кому соплю выродку подбирать».
А как пленником поехал государь по Руси – будто волшебное покрывало надел. Прибывает поезд в городок. Народу интересно, приходят, смотрят. Живя в северном поселении, ведь редко что новое увидишь, путешествовать без особой надобности тут не принято – больно концы большие закладывать приходится, да и погоды не способствуют. Ну, а местным кто ж расскажет, что государя везут, хоть и бывшего. Кто надо, знает, а это ох, мало кто. А тут селянин видит: парубок. Одет богато, но, видать, провинился, вот и везут в острог. Поклонился селянин, да и пошел себе дальше. А то нет-нет да перекинется парой фраз, коли не струхнет. Так мол и так, да то, да сё. Разве раньше Иоанн мог на такое рассчитывать? Да он за эти недели больше про людей-то обычных узнал, чем отец или дед за всю жизнь! Мысль, конечно, дерзкая, но Иоанна она не раз посещала, грешного. Тешила самолюбие…
А уж потом, как в Кеми сели в коч и отправились по волнам, по волнам, соленые брызги в лицо – ух! Вот где про всё забыть можно! Вот это да – море! Первый раз в жизни Иоанн его увидел, и так, можно сказать, получилось, что первая любовь Великого Князя не девице досталась красной, а вот этому самому морю синему. Сколько не читаешь про море в книгах, да хоть бы про Иону библейского, а пока не увидишь, не поймешь, какая это замечательная Божья придумка – солёная вода без края…
– Знаешь, что думаю, Колычев, – говорит Иван, – этот год дороже мне, чем вся жизнь моя, что раньше была. Неужто Господь перед гибелью моей являет мне, какова может быть эта жизнь?
– Не печалься, чадо, – отвечает монах, глядя тому в глаза. – Поверь, то ли еще будет. Что бы ни случилось, ты только не удивляйся и будь готов. Игумен, вся братия и аз грешный за тебя молимся, и не только молимся. И ты молись. А за узильщиков твоих не беспокойся. Нет среди них согласия, и вот увидишь, как все обернется. Только пока не пытай меня, не спрашивай. Будешь ты на престоле в ореоле славы. Почивай покамест сладко. Жизнь впереди у тебя долгая, счастливая…
Пригладил инок князя по волосам и пошел вон из горницы, растрогавшись от возвышенности минуты. Слезы готовы были хлынуть из глаз его, но вместо этого вдруг из распахнувшейся двери хлынул поток воды, окатив Филиппа с головы до ног. В комнату влетел ушат, а за ним со страшным грохотом на пол шмякнулся здоровенный детина. При этаких обстоятельствах великий князь Иоанн впервые увидел местную диковинку по имени Неждан.