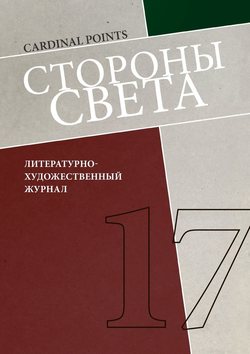Читать книгу Стороны света - Ирина Машинская - Страница 12
Проза
Виктор Коваль
Не тот Валерий
ОглавлениеСтружки небесные
Купил десять сирийских карандашей 3В. По нашему – 3М. Золотом по синему фону латинские буквы: «Syria». Десять копеек каждый. Мне нужны или очень мягкие, или очень твердые. Я не максималист, специфика такая. Очень мягких у нас нет, 6В не достать. Только, если кто куда поедет. Но никто, как говорится, не обязан. У каждого свои недостатки. А тут – 3В, не ахти какая мягкость, но, если «Сирия», то значит не «Сакко и Ванцетти», должны быть получше, помягче.
Так думаю и чиню.
Чиню.
Древесина розовая, пахнет приятно, должна как по маслу. Нет, крошится. Крошится, как хлеб, а потом вдруг каменеет. Наконец, вроде, очинил – кривой такой, неотесанный конус получился, и из него кусок грифеля выпал, как мышкин кал. Чиню дальше, думаю, дальше будет лучше, нет, и там выпал. Чиню еще дальше, думаю, что этот сирийский карандаш был ощупан при таможенном досмотре на турецко-советской границе и от этого у него в двух местах грифель преломился, нет, черт подери, теперь в трех, оказывается. Думаю, Сирия, деревяшка поганая. А какая еще там может быть деревяшка в пустыне-то? Только саксаул. Зачем же я его тут, в умеренной полосе, строгаю?
Думаю, нет, это ливанский кедр, там президент христианин. Чиню его дальше, а он уже до надписи «Сирия» укоротился, едва в руке помещается, думаю, не может быть, чтобы он весь состоял из кусочков на выброс, президент не позволит, Дамаск не допустит. Нет, сволочь, опять допустил. Ну и катись он к черту, швырнул карандаш.
Думаю, так нельзя. Это ведь проверка на вшивость, очинка такая. Мне чинятся обыкновенные житейские препятствия в виде этих басурманских карандашей, и я должен их очинить, то есть преодолеть своим трудом, терпением и остро наточенным скальпелем. А? Острым ли? Пробую скальпель. Туп.
Значит, вот брусочек, плюнь и круговыми движениями вжиг-вжиг – так думаю и скальпель правлю. Главное, нервы при себе держать. Тьфу. Вжиг-вжиг. Тьфу, вжиг-вжиг. Беру другой карандаш, чиню и думаю.
Думаю.
Вот он уже другой, а такой же, как первый. Трудно строгаемый. Вот и грифель выпал, здрасьте. Спокойно. Выпал, туда ему и дорога. Кому он нужен, такой дискретный? Чиню дальше, думаю, вот сейчас появится новый грифелек и выпадет. Вот он уже появился и не выпадает. Что это с ним? Что это он себе думает? А сам думаю: держись, браток, не шатайся, еще немного осталось, крепись. Нет. Выпал. Ну что ж, не беда, чиню дальше, думаю: тяжелые испытания для того и существуют, чтобы не замечать легких и относиться к тяжелейшим, как к легким. Тяжело в бою, зато учения воспринимаются как отдых. Опять выпал. Думаю, стоп! – не надо думать. В том-то вся и беда, что я слишком крепко думаю и держу карандаш также крепко – вон пальцы даже побелели и ногти в ладонь вонзились, и лицо, чувствую, окаменело – со сведенными бровями и прикушенной губой. Надо расслабиться, снять окаменелость и не думать, что вот я чиню уже третий карандаш и должен сохранять при этом неискреннее спокойствие. Отсюда и судорожная хватка, и давление на карандаш, и грифелёчки эти выпадающие, и синие стружки по всему столу. Сгребаю стружки со стола в одно место. Так, правильно. Ссыпаю их в большую пепельницу. Теперь только туда, и не думать. Беру четвертый карандаш – с третьим явно новую жизнь уже не начнешь —продолжаю чинить, но иначе – механически, как бы между делом, не думая.
Не думаю.
Не думаю.
Не думаю.
Индия обвинила Пакистан. Ничего, так можно. Пакистан разрабатывает ядерное оружие. Вот, вот, очень хорошо. Плюс доля взаимной подозрительности. Понятно, а сикхи? Сидят в золотом храме – до зубов. Беру пятый, первые монастыри появились в Египте. Не нравится мне этот район. Без малых радостей жизни легко любить бога. Любить бога тяжело. Меняют одни тяготы на другие. Предвзятые представления. Бенедиктинцы и кармелиты. Веселые женщины. Монастыри не благотворительная организация. Они должны сами себя. Тракторы. Выпечка хлеба. Продажа свечей. Несложная работа, чтобы во время молитвы голова была свободна. Монахи молятся за весь мир. А вот Афон. Седьмой пошел. Десять веков не ступала нога дамы, кошки, курицы. Захотел увидеть чуждый мир – две мухи в фасолевом супе. Гигиенический и физиологический уровень ужасный. Кожа воспалилась, лоб пошел волдырями. Мне они не нужны, они не мои друзья. Иногда следует делать то, что тебе не нравится. Надо уметь ходить с другими. Восьмой готов. У него нет выбора, если бог хочет, чтобы он пошел в монастырь. Если бог захочет, то и веник выстрелит. Закурил – запахло воском. Нет, неврастеники им не нужны. Хотят, чтобы туда шли лучшие. Восьмой дошел до половины. Период послушания 5—10 лет. По выбору, а не по слабости. Предполагает крайнюю концентрацию эго. Эго в монастыре должно быть размагничено. Ты молишься не за себя, за весь мир. А вот и десятый. Не унижайся до ненависти к ним. Поддержать бастующих мусорщиков. Зарезали белого аспиранта и задавили негра велосипедом. 99 лет тюрьмы. Бросают крошки голодным в Эфиопии и птицам повсюду. Едва достал до полицейского на красивой лошади в яблоках и нажал. Думать можно, выдумывать грешно. Сибирь – источник корейского шаманизма. Красноярска тогда не было. Церемония бракосочетания между духами умерших, сбитых в южно-корейском боинге. Ну, готово. Все десять.
Слава богу, все десять сирийских карандашей преодолены, и оструганы до упора – до золотой по синему надписи «Sirius». Как? Была же «Syria». Нет, «Сириус». Все десять – «Сириусов». Выходит, что я обманулся, предположив лучшее. «Сириус» – это никакая не Сирия, а родная «Сакко и Ванцетти». Думаю, экспортный вариант, может быть, для той же Сирии, или Никарагуа, партия только явно бракованная. Для внутреннего пользования. А я-то всю дорогу на Сирию грешил. Тьфу!
От громко выдохнутого «Тьфу!» стружки десяти «Сириусов» вылетели из пепельницы и, повиснув в воздухе неизвестно на какую долю секунды, остались там висеть в неведении до сих пор.
Взгляд на очки
Что такое очки? На мой субъективный взгляд – некое подобие намордника. Так я подумал об очках, сразу после того, как окулист приговорил меня к их пожизненному ношению.
Позже я заметил, что очки не в последнюю очередь нужны
а) чтобы поправлять их на носу всякий раз, когда мысль носителя очков вдруг куда-то от него улетучивается, а он желает вернуть ее на место. Тут можно обойтись и без рук: достаточно легкого кивка снизу вверх;
б) чтобы сосредоточенно вдавливать их перемычку (седелку) пальцем в переносицу, не дозволяя таким образом фонтанирующей мысли растекаться по древу. Кстати, сначала я думал, что это стихотворение перевел Маршак;
в) чтобы тщательно протирать их линзы, даже тогда, когда они абсолютно чисты. Это занятие отвлекает носителя очков от иных действий, многие из которых, возможно, окажутся для него нежелательными. Какие именно? Об этом стоит задуматься, вдавливая седелку очков в переносицу.
Очки разделяют человечество на близоруких и дальнозорких. И тем, и другим очки нужны также для того, чтобы ковырять их дужками в ухе, – привычка, может быть дурная и не массовая, но не будь ее, Маяковский никогда бы не сказал устами Керенского в своей знаменитой поэме «Хорошо»: «Не слышу без очков».
Я и раньше, глядя со стороны, воспринимал очки (так же как и часы) в качестве некоего актерского атрибута, постоянно требующего от его обладателя совместного с ним игрового общения. Классический случай такого общения – игра в прятки между «бедной старушкой» и ее очками, затаившимися у нее на лбу, из стихотворения Ю. Тувима (в переводе С. Михалкова, а не С. Маршака).
Об очках часто говорят иносказательно: они и «велосипед», и «блюдечки», а их носитель – «четырехглазый». Сделавшись недавно четырехглазым, я, конечно, воспринимаю очки уже иначе, по-свойски, но все равно не могу смириться с тем, что на моей физиономии закрепился какой-то оптический прибор – пусть даже для моего же блага.
Некоторые очки (солнцезащитные в первую очередь) используются очкариками в качестве маски, скрывающей от посторонних глаз фингалы под их глазами или хмельное помутнение в глазах.
Увы, об очках надо постоянно думать, вовремя их надевать и снимать, укладывая их сначала в футляр, а не сразу в карман, где они могут поцарапаться о расческу или авторучку. Напоминаю, что в обязательном порядке снимать очки надо перед дракой, а перед поцелуем, даже самым страстным, как показывает телевизор, их можно оставлять надетыми. Мыться под душем в них нельзя, но лежать в них в ванной допускается. Не рекомендуется лежать в них на массажной тахте. Никогда не забуду, как одного такого умника застрелили в «Крестном отце» – прямо в левую линзу его очков.
Используют очки и фотографы – для оживления позирующего лица. Лицу предлагается надеть очки на кончик носа и глядеть поверх очков с «нестандартным выражением глаз». Такие фотопортреты (авторов) предваряют многие их журнальные и газетные публикации. Пробовали в таком виде фотографировать и меня. Взгляд получался затравленным – из-за очков, конечно.
Когда я вынимаю из кармана носовой платок, очки вываливаются на пол. И даже если я случайно раздавлю их ботинком, то вместо них вскоре неизбежно появятся такие же. Ясно, что очки – это очередная, но уже на всю жизнь обуза (не скажу – угроза) моему существованию.
Согласен, что без очков мировая историко-культурная портретная галерея выглядела бы иначе, может быть, хуже. Представьте: Грибоедов, Анжела Дэвис, Гарри Трумэн, Гарри Поттер, моя бабушка Анна Петровна (она видела генерала Брусилова), Джон Леннон – и без очков?! Известно, что и Пушкин лорнировал, и Онегин лорнировал. А как вам без пенсне Чехов, Берия и Коровьев – без треснувшего?
Справедливо и обратное: Гомера в очках вы представляете? Или меня – до недавнего времени?
– Все дело привычки, – убеждали меня мои «четырехглазые со стажем» друзья, не разделяя моих переживаний насчет очков: – Отнесись к ним как к украшению. В очках ты симпатичнее!
Я решил проверить – действительно ли? Встал перед зеркалом, в некотором от него удалении, и что я увидел? Расплывчатую фигуру со смазанным лицом и с едва заметными очками. «Для чтения! – вспомнил я слова окулиста, – а не для глядения вдаль!»
Да. Для дали должны быть другие очки. А для телевизора – третьи. Знаю, что этимологически «телевизор» – это и есть «дальнозоркий».
Тут (заметьте, что я сосредоточенно вдавливаю седелку в переносицу) мне вспоминается эпизод из недавнего прошлого. Пришел я на «автопилоте» с какой-то вечеринки домой, включил свет, а вокруг – мрак! – только не абсолютный, потому что лампа все-таки кое-как светила, но – каким-то тусклым, потусторонним светом, и силуэты все-таки какие-то проглядывались, но – чуждой мне обстановки.
Хорошо, что я, шаря по столу, наткнулся на недоеденный мной арбуз с ложкой внутри. Это был знак моего бесспорного тут проживания.
Добрел я на ощупь к дивану, рухнул лицом вниз на подушку и сразу же понял причину своей слепоты: черные очки!
Когда я их надел – не помню. Наверное, поэтому и забыл их снять. Снял – боже мой! – подумал я, оглядываясь вокруг, – какая красота! Конечно, ничего нового рядом с собой я не обнаружил. Лампа, диван… Просто раньше эту красоту я не воспринимал в силу ее очевидной обыденности. А тут вдруг – воспринял и прочувствовал! Подчеркиваю – благодаря очкам!
Вот такой у меня взгляд на очки, в целом – объективный.
Экзотика общения
Разговор был такой: один собеседник утверждал, что в нашем повседневном общении на улице, дома и на работе есть своеобразная экзотика, а другой ему возражал, что никакой экзотики нет, но есть неустроенность и глупость и что он в гробу видал такую экзотику. «Значит, таковая все-таки существует!» – поймал его на слове первый, а я задумался о некоторых частностях обыденной жизни.
Вот еду я в электричке, читаю книгу. Рядом сидит старичок, заглядывает мне через плечо. «Читаете, да?» – спрашивает он так, будто не видит, чем я занят, и не знает, как это называется. – «Читаю». Едем дальше. Старичок снова обращается ко мне: «А чего читаете – сами-то хоть понимаете?»
Ну, хочется человеку выговориться, и не всегда ему известно, как это сделать правильно. Сужу по себе. Как-то по пути в Восточный еще Берлин вышел я в польском городе Познань на перрон. Погода пасмурная, вокруг ни одного поляка. А ведь мне так хотелось поговорить по-польски. Вижу, идет железнодорожник с белым орлом на фуражке. Я у него спрашиваю как можно более приветливо и радушно: «Цо так хмарно в Познаню?» – «К сожалению, я по-русски не разговариваю», – ответил он мне без улыбки.
Печально, что иной раз общение, желаемое для одних, оказывается нежелательным для других. Расцвет нежелательного, но вынужденного для всех общения относится к периоду антиалкогольной компании.
Помню, отстоял я в «Новоарбатском» за бутылкой два часа. И вот, радостный, сбегаю с Нового Арбата на Старый – по лестничке с железными перилами и – о, ужас! – задеваю об эти перила пакетом с бутылкой. Неужели треснула? Вынул я бутылку, а она своей нижней частью обрушилась мне на пальто. Сразу же собрался народ. Нет, не с сочувствием, но с матерной укоризной. Ведь я, допустив преступную небрежность, фактически надругался над продуктом, из-за которого люди до смерти давятся в очередях! Таким я, наверное, выглядел жалким и униженным, что один мужик, самый возмущенный, вдруг сказал: «Ладно! Ты особенно-то не убивайся. Хочешь, я свою долбану?» Достал свою бутылку, замахнулся. Было видно, что такой – сейчас долбанет. Об те же вредоносные перила. Странно: подарить мне бутылку взамен разбитой – слабо, а вот разбить свою, чтобы мне не было так обидно, – пожалуйста. Какая-то не та гуманность – ритуальная.
Сожалею, что тогда мы его удержали, отговорили. Долбанул бы – хорошая к рассказу получилась концовка.
Зелёные горы, белая панамка
Вспоминаю лето, проведенное мной на Зелёных горах, у двоюродной тетки Елизаветы. Может быть, она ничего такого и не говорила про лес, просто сказала: – Зелёные горы, – а мы подумали: – поросшие лесом.
– У нас, на Варшавском шоссе, – говорила Елизавета моим родителям, – такая же дача, как и где-нибудь в Загорянке – простор, природа, птицы поют. Пусть Виктор поживет у меня месяц-другой, а я уж за ним присмотрю – будьте уверены.
Неважно, что хвалёный лес оказался редкой берёзовой рощей, дом 10 по улице Зелёные горы – бараком, а пели тут в основном электрички подольского направления. Главное – рядом с домом располагалась большая поляна с самодельными футбольными воротами (на одних воротах даже была натянута сетка – рыболовная, за неимением настоящей).
К поляне примыкала гуталинная фабрика, куда местные пацаны лазили тырить гуталин, уже расфасованный в круглых железных баночках, похожих на хоккейные шайбы и годных для игры в хоккей. Но тема моего рассказа – футбол.
В футболе, как и во всякой другой игре, многое делать запрещается – согласно условиям игры. Мне, например, запрещалось (тёткой Елизаветой) играть в футбол без постылой панамки – во избежание солнечного удара.
Целое лето я играл в панамке, но однажды мне пришлось её снять и спрятать. Случилось это, когда взрослые ребята вдруг пригласили меня сыграть за их команду. Неловко мне было в такой «девчачьей» панамке позориться перед взрослыми.
У них тогда не хватило одного игрока до комплекта, да и в воротах стоять никому из них не хотелось. Вот и поставили они меня вратарём – всё лучше, чем пустое место.
А в нападении у противника играл Гусь – дылда в настоящих футбольных гетрах со щитками, хотя в таких щитках нуждался, конечно, не он, а все те, против кого он играл.
Вспоминаю, прорвавшись сквозь нашу защиту, прокинул Гусь себе на ход и понесётся вперёд, как лось. Вот я и бросился ему не в мяч, а в ноги, резко всем корпусом – прямо под удар, чтоб он рухнул. И дальше не двигался.
Чувствую, Гусь действительно рухнул, слышу, крикнул он, что у него что-то вывихнулось, думаю: «Вот и щитки тебе не помогли…»
Потом меня, также как и Гуся, унесли с поля. Нет, не на носилках, а просто оттащили к стене гуталинной фабрики. Правильно говорила Елизавета: «Снимешь панамку – удар получишь!»
Рёбра у меня оказались всего лишь крепко ушибленными, а большой палец на ноге только треснул. И всё остальное – слава Богу, особенно не поломалось. Стыдно мне было потом возвращаться на эту поляну. Мало того, что я от неумения сыграл непозволительно грязно, но ещё – каким-то для себя бездарно жертвенным образом!
Через год я снова пришёл на поляну на Зелёных горах. Думал, всё позабылось.
– Нет, – сказали пацаны с уважением, – мы о тебе помним, – если это действительно был ты, кто тогда в белой панамке Гуся завалил!
Далась им эта панамка!
Странное сочетание
Этот рыжий кот кормился при столовке школы №1411 с английским уклоном. По пути к метро «Отрадное» я замечал его спящим возле дверей школы или крадущимся вдоль ее железной ограды. Однажды я увидел его висящим на дереве.
Помню, тогда я торопился на встречу с незнакомым мне Валерием Валентиновичем. Валерий Валентинович (по описанию – немолодой человек среднего роста в велюровой шляпе и кожаном пальто) ожидал меня на станции «Домодедовская» для передачи ему некой посылочки.
Вокруг дерева с котом стояла толпа. Рядом с котом на ветках сидели вороны. Нет, кота никто не повесил. Наверное, он так разжирел от школьных котлет, что сам застрял в развилке между ветвей. Отчаявшись выбраться оттуда, кот, живой и невредимый, но плененный, спокойно дремал, поглядывая вокруг одним полуприкрытым глазом, как будто бы он по-прежнему лежал у дверей своей школы.
Вороны же были явно возбуждены. Их карканье публика комментировала по-разному:
– Это они так приглашают к столу. Мол, друзья, кушать подано!
– Нет, это они так насмехаются над котом: дескать, гонял ты нас почем зря, а теперь висишь, как мешок с говном.
– Нет, это они кричат: «Люди, помогите животному, оно же страдает!»
Я решил, что мне пора сделать сегодня доброе дело. Положил я посылочку туда, где почище, да и полез на дерево.
Мое появление кот встретил враждебно. Он зашипел, ощерился. Когда я попытался вытащить его из развилки, он чуть было не полоснул мне по щеке своей веснушчатой лапой. Я увернулся. Его задние конечности работали, как у львицы из «Мира животных», когда та, по телевизору, раздирала ими живот у зебры.
Хуже – вороны. Они взлетели и затем дружно спикировли на меня, целя в глаз. От таких не увернешься – сидя-то на дереве. При этом вороны издавали истошные «карки», но уже другой тональности. Публика их понимала так:
– Уйди! Это наша закуска!
– Уйди! Здесь хозяева – мы!
– Уйди! Не мучай животное!
«Вот твари, – думал я, торопливо слезая с дерева, – не ведают, что творят!». Наверное, доброе дело сегодня само не захотело сделаться.
Конечно, на встречу с Валерием Валентиновичем в метро «Домодедовская» я опоздал. Да и нашел я его не сразу, потому что велюровым оказалось пальто, а не шляпа. Нам обоим было жутко обидно, что из-за сумбурности происходящего посылочка так и осталась лежать у дерева с котом. Мою оправдательную историю с подробностями насчет ворон Валерий Валентинович слушать не стал – заканчивалась регистрация на его самолет в Волгоград. Больше с ним я не встречался. А кота я увидел в тот же вечер – крадущимся вдоль школьной ограды.
Мораль такая: когда делаешь одно доброе дело, не отвлекайся на иные, как тебе кажется, добрые дела – не заставляй Валерия Валентиновича напрасно ждать. Странное, однако, сочетание— кожаная шляпа и велюровое пальто. Должно быть наоборот.
Да и Валерий Валентинович – звучит как-то не так. Хотя наоборот – еще хуже.
Собеседники у «Льдинки»
Есть люди, которые любят разговаривать сами с собой, например – мастер Юра, этим летом неспешно ремонтировавший мою ванную.
Бывало, из-за приоткрытой двери до меня доносился его уверенный голос: «Отлично! Мы сделали это!» Но ему возражал другой его голос, сомневающийся: «Сделать-то сделали, а как заделывать будем?»
Насчет своих разговоров с самим собой Юра спросил у меня: «Думаете, это какое-нибудь отклонение?» Я его успокоил: – Всё в порядке, со мной тоже иной раз происходит что-то в этом духе, особенно, когда я занимаюсь сочинительством. Увы, литературные занятия неизбежно связаны с внутренним разговором, который, естественно, иногда прорывается наружу.
Однажды я сочинил сложное по ритму стихотворение – с репликами на разные голоса и притоптыванием – для того, чтобы не выбиться из ритма. Нужные интонации и слова сочинялись в процессе репетиций, когда, разумеется, у меня дома никого, кроме меня, не было. Но была тетя Тоня, соседка снизу. Сначала она раздраженно стучала ложкой по трубе парового отопления, а потом вызвала милицию. «У вас тут что? – все перепились и передрались? – спросили менты за дверью.
«Это значит, – сказал я в заключение мастеру Юре, – что наши с вами разговоры с самим собой вызваны профессиональной деятельностью, а не отклонением!»
Другое дело – «наш Вова», человек хороший, но с очевидным психическим изъяном. Не занятый какой-либо профессиональной деятельностью, он целыми днями разговаривал сам с собой, стоя на улице Бестужевых возле магазина «Льдинка» – вполголоса и подолгу задумываясь над сказанным.
Сюда специально для общения с Вовой приезжал Игорь, подобно Вове также обреченный на говорение с самим собой. В отличие от нашего Вовы залетный Игорь был говоруном истерического типа. Любые слова в его исполнении звучали как ругань; замолкнув, он продолжал угрожающе жестикулировать.
Не знаю, можно ли их общение назвать разговором, если и тот, и другой были самодостаточными собеседниками. В случае плохой погоды они заходили внутрь «Льдинки» и продолжали беседовать там.
Конечно, Вова мог разговаривать и с нормальными людьми, например, со мной. «Как дела?» – спрашивал Вова. Я всегда отвечал ему коротко: «Все в порядке!», но однажды ответил распространенно: «Все в порядке, Ворошилов на лошадке!» Вове очень понравилось сказанное. Он пообещал запомнить эту поговорку и отвечать всем именно так.
Через несколько дней на мой проверочный вопрос: «Как дела?» Вова ответил: «Все в порядке!» «А Ворошилов? Где Ворошилов?!» – спросил я. Боже мой, какая мука изобразилась на его бесстрастном лице! Как трудно он вспоминал и, наконец, с какой радостью вспомнил: «Ворошилов – на коне!»
Правильная с точки зрения рифмы, но инфантильная лошадка, уступила место ошибочному, но монументальному коню – для пущего пафоса и оптимизма. Эту поправку я принял к сведению и теперь на вопрос моих друзей и знакомых «как дела?» отвечаю именно так, как научил меня Вова: – Всё в порядке! Ворошилов – на коне!
И затем рассказываю всем про Вову, который любит говорить сам с собой возле «Льдинки» и про его товарища Игоря, и про первоначальную лошадку, фольклорную. Вне этого контекста «Ворошилов на коне» выглядит не вполне убедительно. Вместо него может быть и Македонский, как персонаж наиболее подходящий для самоободрения.
Забавно, что некоторые мои собеседники воспринимали Ворошилова исключительно как ведущего телевизионной программы «Что, где, когда?» – потому что там тоже какая-то лошадь ржет, когда рулетка начинает крутиться.
О травматической погоде
Васька да Венька пришли – с приобретением. Новости: ногу на днях Вениамин поломал, поскользнувшись на нашей дорожке к универсаму «Седьмой континент» (Декабристов, 15). Все мы на этой дорожке скользили и падали, но без увечий. Мне не повезло, потому что я разучился правильно ходить.
– Передвигался – только на автомобиле, – сказал Вениамин. Вот он, в своём автомобиле, по травматической погоде и разбился – на пересечении Севастопольского проспекта с Волгоградским. «Жигули» – всмятку, а у Вениамина – ни царапины. Повезло.
– А не повезло, повторяю, – сказал Вениамин, – позже, когда, собираясь идти к нашему «Седьмому континенту», я забыл перчатки в прихожей, а потом, уже идя по дорожке, засунул замерзшие руки в карманы – накладные, глубокие. Тут-то я и грохнулся. Подумал – руку или затылок. Нет – ногу.
– Уж лучше бы ты эту ногу в автомобиле сломал, – сказала Василиса, – понятное дело – катастрофа. А тут – как-то обидно – на дорожке, как будто ты – новичок в этой жизни. Да. Это – цинизм. Но – напускной! Непонятно, почему эта простая история в твоем пересказе вдруг оказалась такой занудной и запутанной?
– Потому что в ней много такого нужного, которое нам кажется лишним, – сказал я, умник. -Хорошо! – согласился Вениамин (анаграмма слова «внимание»), – выделяю главное: «Как-то в машине разбился я где-то у МКАД. И – не поранился. А по нашей дорожке пошел – в гипсе нога! Всё!
– Ибо руки в карманах держал неразумно, как идиот, – Василиса сказала, царица по-гречески.
– Холодно было рукам, а перчатки дома оставил – ну как не добавить по правде? – Толя сказал, баянист. Толя когда-то в Звёздном служил городке – мастером при испытательных стендах и центрифуге ЦФ-18.
– Эх, помню, как в Звёздном.., – скажет Толя, бывало, да и рванёт на баяне «Брызги шампанского». Или «В парке Чаир», как сейчас попросила Васятка.
– Северный ветер поёт надо мной, – подпеваем. В общем, сидим, обмываем костыль. Смеёмся: – Ну, как не добавить по правде?! А кто побежит?..
Мафиози в Лондоне
В Лондоне меня поселили к сотрудницам Ай-Си-Эй (Института Современного Искусства) – двум девушкам левых убеждений: Маргарет Тэтчер они называли змеёй, а про плохих людей говорили: «эти капиталистические свиньи». Мне они строго сказали: – Оставь это себе! – когда я как благодарный гость (в Москве научили) подарил им баночку с красной икрой, – это же – рыбьи яйца! Как мне показалось – с брезгливостью сказали, в смысле «змеиные». Потом сообразил – вегетарианки. Воинствующие.
Так что, в отличие от некоторых моих коллег, спавших на аристократических перинах, мне пришлось спать на «демократической» раскладушке. И – в районе, имевшем, по словам местных англичан, мафиозную репутацию. Не с простыми бандитами, а с настоящими мафиози – сицилийскими. Их я мог видеть в сицилийском – судя по названию – ресторанчике прямо у дверей моего английского дома. Обыкновенные люди, сидят, тихо разговаривают. Я подумал: ты их не тронешь – и они тебя не тронут.
В день отъезда пришлось мне крепко понервничать. Как обычно: времени в обрез, но молнии на чемодане лопаются именно в это время. Хозяек нет, ушли в Ай-Си-Эй. Прощаясь, сказали: – Запрёшь обе двери, а ключи повесишь в потайное место (показали). Так, а где эти ключи сейчас? И носки! Надо не забыть носки под раскладушкой. Некрасиво получится, если останутся. В общем, обычная предотъездная лихорадка.
Вдруг звонок в дверь – баптисты! Точнее – иеговисты. Пришли с религиозной литературой и с разговорами о Боге. Всё – некстати и не вовремя! – Эти книги пусть останутся у вас, – сказали баптисты, – это наш подарок! Вот обрадовали! Ну, а как к такому подарку отнесутся мои хозяйки – атеистки? Воинствующие! Это же ведь хуже носков. Я им, баптистам, объясняю, что я человек тут случайный, мол, не при ваших делах, живу не здесь, а там – далеко, за многие тысячи километров отсюда! – А какое это имеет значение? – возразили мне баптисты, вполне разумно и доброжелательно. Думаю, что же им такое сказать, чтобы они убрались со своей литературой? Что Бога нет? Нельзя – начнутся разговоры, агитация. Вот я и сказал им, что я – ортодокс, не терпящий никакого сектантства! Что тут началось!.. Конечно, некрасиво получилось, но – результативно.
Хорошо, первая дверь заперлась без труда, но вторая – решетчатая, с двумя запорами – с верхним и нижним – ни в какую. Ну, никак не запирается – ни тут, ни там. И главное – как же я потом эти ключи в потайное место повешу – если меня из своего ресторана мафиози просекают – сидят, развалясь, покуривают, краем глаза наблюдают, как я у двери карячусь.
Наконец, один из них подошёл ко мне: – Дай-ка сюда (give me the kies), – взял у меня ключи, ловко запер ими дверь на оба запора и повесил ключи в потайное место.
Ну, что ты тут скажешь? Не было у меня времени на разговоры – как это всё понимать. -Чао! – сказал – и побежал.
Риск
Угораздило меня как-то оказаться в центре уличных беспорядков в Гетеборге. Сначала эти беспорядки имели характер национальной розни – между шведской молодежью и турецкой, а потом они переросли во всеобщий вандализм: битье витрин, сокрушение торговых точек и т. д.
Мое положение усугублялось тем, что в этой буче я потерял своих соотечественников, точно знающих, как добраться до места нашего проживания (базы). Меня особенно беспокоила судьба осетина Тимура. А вдруг шведские погромщики заподозрят в нем турка? Подозрение – абсурдное и оскорбительное для осетина, но с точки зрения непросвещенного шведа – естественное.
Итак, добираться как-то надо. Но как? Расспрашивать об этом бесноватую толпу и выдавать в себе иностранца равносильно самоубийству. На турка я не похож, но неизвестно, может быть, русский для шведов – хуже турка – по причине всплытия нашей подводной лодки у шведских берегов. Наши говорили, что она – не русская, и вообще – нет такой подлодки. Но вся Швеция на ушах стояла – русские приплыли! Конечно, меня мог выручить полицейский. Так ведь ни одного!
Ну что ж, если нет другого выхода, тогда надо рисковать – обращаться к прохожим. Глядишь, за голландца какого-нибудь и сойду! – у шведов с голландцами вроде бы нет никаких серьезных проблем, таких, как, например, с датчанами и поляками. Датчане – соседи, с ними всегда бывают какие-то свары, а поляки незаконно заселяют Швецию, пересекая на моторках Балтийское море.
Выбрал я мужика вне толпы (он отстал от своей кодлы, ботинок завязывал), спрашиваю, как добраться туда-то и туда-то. А он, оказывается, не ботинок завязывал, а выворачивал из мостовой булыжник, оружие пролетариата. Поднял – швырнул в витрину. Та только треснула, выстояла. Наверное, делают их тут с учетом булыжника.
«А почему ты со мной по-английски говоришь?» – недовольно спросил мужик. «Голландец? Поляк?»
Скажу голландец, а он вдруг со мной по-голландски? Как я ему отвечу? Получается так, что и истина, и обман одинаково чреваты для меня нежелательными последствиями. Но обман к тому же еще и унизителен. Надо сознаваться. «Русский, – говорю я, – рашен». – «Рашен? – крикнул мужик. И еще громче, в сторону своей кодлы: Риск, риск! – так я воспринял сказанное им по-шведски слово «русский».
Подвалила кодла, все – разномастные, в том числе и белокурые бестии, поддатые и свирепые. «Тут мне и крышка», – подумал я ошибочно.
Шведы дружески хлопали меня по плечу, пожимали руку, девушки – обнимали: «Риск, риск!», радуясь моей русскости, как своей собственной. Так оно в действительности и было: «Мы – русские!» – говорили они и затем, перебивая друг друга, попытались растолковать мне некоторые темные для меня места из шведской истории. История сводилась к тому, что они – первоначально русские, а мы – уже потом, но – тоже русские!
Мимо проезжал трамвай. Мы его остановили, встав поперек рельсов. Иных, кроме нас, желающих садиться в такой трамвай не было. Поэтому ехали мы без остановок, точно до нужного мне места, наблюдая из окон городскую панораму. За окнами что-то горело, по-моему, не автомобили. (Это с ними случится потом, в том же Гетеборге, во время выступлений антиглобалистов в знаменитой серии Гетеборг – Прага – Генуя.)
Мои любезные провожатые, «русские шведы», пели песни народов мира, пили пиво из баночек. Разумеется, от угощения я не отказывался. Когда спели «Yellow submarine», мы заговорили о нашей подводной лодке. «Вся эта возня – всего лишь игры милитаристов между собой. Нас с тобой эти игры не колышат», – примерно так сказали мои попутчики. Другие говорили иначе: это – неопозннный летающий, то есть плавающий (swimming) объект! USO! В результате я в таком дружеском сопровождении добрался до нашей базы целым и невредимым.
Тимур сказал, что никаких беспорядков в городе они не заметили. Возможно, из-за того, что ехали в такси с затемненными окнами, дремали. И на мое отсутствие они также не обратили внимания: «Свободный человек – решил погулять в одиночестве».
Переплетённые линии
Приснилось мне, что я оказался в районе сербскохорватских боевых действий, на стороне сербов. Возмущенный идиотизмом братоубийственной войны, я предложил сербам миротворческие услуги. Особая радость сна: чтобы быть понятым, мне не надо говорить по-английски.
– Эскалация боевых действий привела к тому, – говорю я сербам, – что ни одна из воюющих сторон не желает первой идти на мировую. Тупик. Дайте мне депешу, я отнесу её хорватам. В ответ хорваты дадут мне свою депешу – так завяжутся переговоры, а это – первый шаг на пути к миру!
Сербы отнеслись к моим словам с суровым непониманием: какую такую депешу? И что такое есть депеша вообще?
С точки зрения моего сна, депеша – это то, что не требует никаких объяснений.
– Ладно, – сказали сербы, – вот тебе депеша, иди!
Размахивая депешей над головой как белым флагом парламентёра, вышел я из сербских окопов и пошел через поле боя к окопам хорватским.
Не дойдя до них, я был сбит пластунами и отволочен куда-то в таком же пластунском виде. – Это делается для вашей же безопасности, – сказали мне хорваты по-английски. Я вручил им депешу, и они, посовещавшись, решили отправить меня домой через Австрию.
– При чем тут Австрия? Мне нужна ваша депеша для передачи сербам!
– Мы сожалеем (It is a pity), но вы, наверное, не знаете, что содержится в депеше.
– Разумеется, сэр!
Они показали мне депешу. Там было написано: «Подателя сего – расстрелять!»
В этой истории переплелись две кровавые линии: гамлетовская – казнить подателей двух грамот и корлеоневская: – Кто первый предложит мириться с врагом – тот и предатель. Так говорил Крёстный отец в одноимённом фильме. Проснулся в муках: как сказать по-английски «При чем тут Австрия?»
Слова запоздалые
В первый раз я встретился с Юрием Васильевичем Яковлевым в 1958 году на съёмках фильма «Необыкновенное лето» по К. Федину (реж. В. Басов). Юрий Васильевич играл поручика Дибича. При мне поручик Дибич падал в обморок, как впоследствии – через год – упадёт и князь Мышкин, в исполнении того же Юрия Васильевича в фильме «Идиот» Пырьева. Они похожи – если вглядеться: поручик и князь. Я был сыном купца.
В следующий раз я встретился с Юрием Васильевичем, когда он уже отснялся в «Идиоте» – на телевизионной постановке по мотивам Василенко «Волшебная шкатулка». Юрий Васильевич играл весёлого бродягу, а я – трактирного слугу. Бывало, Юрий Васильевич любезно развозил нас на своём синем «Москвиче» по домам – с репетиций на Журавлёвке, где находился Телевизионный театр (затем – ДК электролампового завода). Разумеется, тракты и эфир проходили в Телецентре на Шаболовке – с Шуховской башней. Премьера, между прочим, была назначена на красный день календаря – 7 ноября, сразу после трансляции с Красной площади.
Помню, Юрий Васильевич всё время ругал актёрскую профессию. Мне – запрещал быть актёром, а сам – жалел, что сделался таковым. – Наверное, шутит, – думал я, – шутит в духе своего героя – балагура и фокусника. «Гамма дуэ, капро фуэ, граммофон фон брит-тва!» – вот, что я запомнил из его текста.
Однажды я спросил у Юрия Васильевича: – А как вам понравилась «Обнажённая со скрипкой»? – спектакль театра Сатиры, вчера показывали по телеку. – Тут у меня нет слов, – строго сказал Юрий Васильевич, – нет слов, когда я слышу «обнажённую со скрипкой», звучащую из уст шестиклассника! Нет, точно не шутил – сколько бы я ни пытался разглядеть в его лице лёгкую лукавинку, знакомую мне по нашей общей работе «на камеру» – пристыдил уничижительно.
А ведь я и без Юрия Васильевича не собирался быть актёром, только – художником. И ещё: наверное, тогда, – сообразил я сейчас, 55 лет спустя, – Юрий Васильевич того спектакля не видел. Потому что там «обнажённой со скрипкой» называлась авангардистская картина, где не было ничего такого, а была – эх, ну почему я сразу так ему не сказал – сплошная геометрия?
Кинематографический альбом
Фотографии из фильмов, где я снимался, и газетные вырезки с рецензиями на эти фильмы мои родители собирали в особом, кинематографическом альбоме. На его крышке помещалась репродукция картины художника Непринцева «Отдых после боя». Недавно, разбирая старые вещи на балконе, я обнаружил этот альбом.
Там на всех фотографиях изображался я, Витёк, в разном окружении и в разных видах, например, – широко улыбающийся и с собакой в обнимку. Собаку, как и фильм, звали Дружок. По фильму Дружок должен был лизать Витька в щёку.