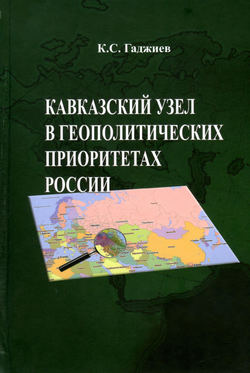Читать книгу Кавказский узел в геополитических приоритетах России - Камалудин Серажудинович Гаджиев - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 1
Геополитическая идентичность России в реалиях полицентрического миропорядка[1]
1.2. Проблема геополитической идентичности России
ОглавлениеВ реалиях распада биполярного и формирования нового полицентрического миропорядка Россия, как и ведущие страны мирового сообщества, очутилась перед необходимостью переоценки своего статуса, места и роли в современной конфигурации геополитических сил. Самым дискуссионным в рассматриваемом контексте является вопрос о том, остается ли Россия после распада СССР великой державой, способной на равных конкурировать на мировой арене с другими великими державами. С распадом СССР единая территория многовековой империи оказалась разорванной на множество фрагментов, причем не только по линиям государственных границ, но и на этнонациональные, региональные, конфессиональные и иные составляющие. Более того, в условиях, когда вслед за распадом СССР сама Россия столкнулась с угрозой балканизации, сохранение территориальной целостности превратилось в одну из ключевых проблем, от решения которых зависели перспективы российской государственности.
Поэтому перед Россией встали императивные задачи: сформулировать свои политические цели и приоритеты, адекватные новым реальностям, определить новые параметры национальных интересов и национальной безопасности, диктующие необходимость существенной переоценки внешнеполитических приоритетов и политической стратегии в отношении остального мира как в западном, так и восточном, как южном, так и северном направлениях.
Особенность нынешнего положения состоит в том, что Россия в 90-е гг., развиваясь в условиях постсоветского общества, потеряла образ мирового лидера, сверхдержавы, который внезапно сменился на некий неопределенный образ государства, имеющего высокий потенциал, но лишенного возможностей его реализации. К тому же характер восприятия обновленной России в мире во многом обусловлен подходом, сложившемся на Западе еще в период холодной войны. Как известно, Р. Рейган называл СССР «империей зла», а канцлер ФРГ Г. Шмидт – «Верхней Вольтой с атомными ракетами». Даже в тех случаях, когда признается наличие демократических преобразований в России, многие все же склонны рассматривать ее как некую «паршивую овцу в порядочном стаде» развитых демократических стран, куда ее вынужденно взяли в надежде на перевоспитание.
Частью процесса глобализации и информационно-культурной экспансии является подспудная и явная эрозия, а то и разрушение национальной идентичности. В данном контексте центральным для России является вопрос о самоидентификации, определении ее роли и места в мировом сообществе. Признав это, необходимо исходить из того очевидного факта, что как для граждан России, так и для отечественной науки и интеллектуального сообщества особую значимость приобрела проблема национальной идентичности. Возникла острая потребность прежде всего в имидже, ориентированном на внутреннего потребителя, ибо залогом успеха имиджа России за рубежом является вера самих россиян в ее судьбу, предназначение, миссию. Для внутреннего пользования имидж служит средством политической мобилизации, идейного, психологического единения и сплочения нации, укрепления или смены базовых социальных ценностей.
Иначе говоря, современные мировые реалии ставят на повестку дня проблему национальной и геополитической идентичности. Для России эта проблема приобрела особую актуальность в результате отказа от ряда базовых ценностей, институтов и отношений советского периода. Распад СССР явился одновременно и крушением советской целостной идентичности на многочисленные идентичности. Перед российским народом встал сакраментальный вопрос «кто мы?» не только в его культурно-цивилизационном, но и в геополитическом плане.
Геополитическая идентичность складывается из множества компонентов, таких как мировоззрение, национальное самосознание и менталитет, историческая память, этнонациональные образы, национальные мифы, символы и стереотипы поведения и др. Геополитическая идентичность, которая выступает в качестве некоего коллективного субъективного образа, который народ или граждане государства составляют о себе относительно остального мира, оказывает прямое или косвенное влияние как на самооценку, так и на поведение в отношениях с остальным миром. Как отмечал Ю. Хабермас, «сознание национальной идентичности, которое формируется на основе общей истории, общих языка и культуры, только сознание принадлежности к одной нации заставляет далеких друг от друга людей, рассеянных по бескрайним просторам, чувствовать взаимную политическую ответственность. Только так граждане начинают видеть себя частями общего целого».[12]
Для разностороннего анализа этой проблемы представляется целесообразным затронуть тему того, какую роль в мировом сообществе отводят нашей стране сами ее граждане. Идейные споры и дискуссии с самого начала сопровождались поисками магистральных направлений развития России, попытками определить идентичность и судьбу России, содержание и сущность русской идеи, место, роль и статус Российского государства в мировой истории и мировом сообществе. В центре споров и дискуссий по данному кругу проблем неизменно стоял вопрос об отношениях России с Западом и Востоком, Европой и Азией. Необходимо отметить, что это многоплановая и сложная проблема, отнюдь не сводящаяся к геополитике и довольно подробно освещенная в отечественной литературе. Поэтому, не претендуя на развернутое раскрытие этой темы и на какие бы то ни было новые подходы к ней, остановимся лишь на некоторых наиболее важных, на наш взгляд, ее аспектах, дающих возможность выполнить поставленную в данной главе задачу.
Первые наработки собственно социокультурной и политико-культурной идентичности России можно обнаружить в спорах и дискуссиях славянофилов и западников второй половины XIX в., которые велись по принципу разделения мира на «Святую Русь» и «гниющую Европу», противопоставления России и Европы. Россия всегда привлекала к себе внимание образованной Европы, во всяком случае, с возникновения и возвышения Московского государства. При этом на протяжении практически всей своей истории она не могла похвастаться привлекательным имиджем в глазах остального мира. «Для западного культурного человечества, – писал Н. Бердяев, – Россия все еще остается совершенно трансцендентной, каким-то чуждым Востоком, то притягивающим своей тайной, то отталкивающим своим варварством. Даже Толстой и Достоевский привлекают западного культурного человека, как экзотическая пища, непривычно для него острая».[13] Известно, что русские сами любят называть свою страну загадочной, к месту и не к месту цитируя тютчевское «Умом Россию не понять». У. Черчилль, отличавшийся яркими запоминающимися афоризмами, называл Россию «загадкой, завернутой в тайну и помещенной внутрь головоломки». А Р. Киплинг в своем рассказе «Бывший» ставил вопрос так: кто же такие русские: «самый восточный из европейских народов или самый западный из восточных»?
Чаще всего Россия внушала окружающему миру страх, обеспокоенность и недоверие своими невероятными размерами, неожиданностью векторов общественно-исторического развития. Не случайно говорят о загадочной русской душе, непредсказуемости действий и политических шагов руководства России в отношениях с остальным миром. О сложностях понимания России, в частности, свидетельствуют разного рода труды европейских путешественников, политических деятелей и представителей западного интеллектуального сообщества, посетивших ее со времени основания Московского государства до наших дней. Разумеется, это самостоятельная тема исследования, поэтому здесь отметим лишь тот факт, что отношение иностранцев к России и к ее народу не было равномерно черно-белым, не сводилось к примитивным, односторонним, негативным представлениям. Даже в самые сложные времена конфронтации в духе холодной войны представления западного человека о России носили сложный, многообразный и неоднозначный характер. В них причудливо сочетались противоположные оценки, эмоции, мнения: высокомерная снисходительность и уважение, страх и восхищение, подчеркивание слабостей и признание силы и т. п. По-видимому, в большинстве своем западные люди не были согласны с Р. Рейганом, который называл Советский Союз «империей зла».
В целом же на Западе всегда были, есть и, наверняка, будут в будущем русофилы, русофобы и «реалисты». Для одних Россия – это Запад, для других – Восток, а для третьих – и то и другое. Иногда эти противоречивые картины сосуществовали и уравновешивали друг друга, но случалось и иначе: преобладание одного из образов полностью оставляло в тени другой. Их соотношение в значительной степени зависело от характера отношений между двумя сторонами на каждом конкретном отрезке времени. В то же время можно согласиться с М. Малиа, по мнению которого в разные периоды и в разных странах «Россия западным мнением демонизировалась и обожествлялась не столько в зависимости от ее реальной роли в европейской жизни, сколько на основании собственных страхов и тревог или надежд и стремлений, порожденных внутренними проблемами своего общества».[14]
Оценки России в большинстве своем давались путем ее сравнения с реальными и воображаемыми составляющими самого Запада. «Общий культурный опыт Запада» берется в качестве эталона. Очевидно, в основе противопоставления России Западу лежит во многом искусственно сконструированная идея некоего «единого Запада», в то время как сами страны Запада более или менее существенно отличаются друг от друга. В этой связи можно согласиться с американским исследователем Д. Бурбанком, по мнению которого «вопрос “Россия и Запад” затрудняется тем, что обобщенный образ “Запада” играл существенную роль внутри самой России… Элита имперского периода сама употребляла западные идеальные типы, чтобы вообразить то, чем Россия могла бы стать или чтобы описать свои действия… “Воображаемый Запад” стал моделью или антимоделью для воображаемой России, и двойная риторика закрыла двери к другим возможностям, к другим категориям культуры».[15]
В самой России в контексте этих споров и дискуссий славянофилы концентрировали внимание на проблеме культурно-цивилизационной самобытности России и необходимости защиты и сохранения этой самобытности как важнейшего условия жизнеспособности и исторических перспектив российской государственности. Они отстаивали непреходящую ценность традиции, величие древности, несостоятельность прогресса и материализма, чуждость многих аспектов западной модели для России. Не переставая говорить о своей любви к «великой старой Европе», они одновременно подвергали ее беспощадной критике за якобы поразивший ее духовный кризис.
С данной точки зрения одним из первых геополитиков можно считать Н.Я. Данилевского, которому принадлежит заслуга в разработке теории культурно-исторических типов. По его мысли, славянство – это особый культурно-исторический тип, не развернувший еще своих творческих возможностей, но которому принадлежит великое будущее. Данилевский изображал дело таким образом, будто «больная» и «гниющая» Европа стала чуть ли не средоточием мирового зла, и видел спасение современного ему мира в панславизме. Значительно дальше Данилевского в этом направлении пошел К.Н. Леонтьев, считавший панславизм слишком либеральным и опасным для жизнеспособности и дальнейшего развития российской государственности, которая, по его словам, будучи более широким и независимым образованием, должна быть «не чем иным, как развитием своей собственной оригинальной славяно-азиатской цивилизации». По мнению Леонтьева, чисто славянское содержание русской идеи слишком бедно для всемирного духа России. «Всегдашняя опасность для России, – утверждал он, – на Западе: не естественно ли ей искать и готовить себе союзника на Востоке? Если этим союзником захочет быть и мусульманство – тем лучше».
Обосновывая установки на имперскую экспансию, Леонтьев отстаивал идею слияния России с Тураном, при этом полагая, что самобытную цивилизацию составляет не славянский мир, а Россия со всеми азиатскими владениями. А началом процесса утверждения этой цивилизации – великого восточного монархически-православного союза во главе с Россией должно стать завоевание Константинополя, что, в свою очередь, должно привести к окончательному разрешению восточного вопроса. Леонтьев считал, что Западу будет противостоять не славянская федерация, а Восток с греческим и азиатским элементом «под эгидой русского самодержавия».
Естественно, мы не ставили своей целью дать развернутый анализ построений славянофилов, Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева и других авторов, так или иначе затрагивавших рассматриваемый здесь круг проблем. Тем более они довольно подробно освещены в нашей литературе. Ограничимся лишь констатацией того, что они пытались выявить и обозначить те аспекты социально-политической и духовной истории России, которые в конечном счете определяли ее исторический и национально-государственный облик и, соответственно, характер ее взаимоотношений с окружающим миром. Главный их просчет, как представляется, состоял в том, что они пытались обосновать идею абсолютной самобытности и самоценности России, ее истории, культуры и особой миссии. Исходя из подобных установок, они, по сути, противопоставляли Россию остальному миру, во всяком случае европейскому человечеству.
Существенную лепту в дальнейшую разработку этих и подобных им идей внесли евразийцы. Их исследования обратили на себя внимание нестандартным анализом традиционных для России проблем. В отличие от славянофилов, Данилевского, Леонтьева и других ученых, возлагавших свои надежды на самодержавное государство, евразийцы исходили из признания того факта, что старая Россия потерпела крах и стала достоянием истории. По их мнению, Первая мировая война и русская революция открыли качественно новую эпоху в истории страны, характеризующуюся не только крушением России, но и всеобъемлющим кризисом полностью исчерпавшего свои потенции Запада, который стал началом его разложения. Нет ни прошлого в лице России, ни настоящего в лице Запада, и задача России – вести человечество к сияющим вершинам светлого будущего.
Евразийство представляло собой идейное и общественно-политическое течение первой волны русской эмиграции, объединенное идеями о специфическом и уникальном положении России как совершенно самостоятельной цивилизации, органически сочетающей в себе западное и восточное, европейское и азиатское начала, принадлежащей одновременно к Западу и Востоку, в то же время отличающейся как от первого, так и второго. Соответственно, русский народ, утверждали они, представляет собой самобытную евразийскую этническую общность, что определяет особый исторический путь России, ее национально-государственную программу, не совпадающую ни с европейской, ни с азиатской традициями. Причем ей ближе исторические истоки скорее азиатской, нежели европейской традиции.
Представители евразийства отводили особое место именно духовным, в первую очередь религиозным аспектам. В их построениях отчетливо прослеживалось стремление увязать русский национализм с пространством. Как подчеркивал Савицкий в книге «Географический обзор России – Евразии», «социально-политическая среда и ее территория должны слиться для нас в единое целое, в географический индивидуум или ландшафт». Поэтому неудивительно, что у них само понятие «Евразия» было призвано обозначать не просто континент или часть его в сугубо географическом понимании, а некую цивилизационно-культурную целостность, построенную на основе синтеза пространственного и социокультурного начал. Согласно этой конструкции, Россия рассматривалась в рамках координат, условно обозначаемых как Восток и Запад.
Суть евразийской идеи сводилась к тому, что Россия, занимающая срединное пространство Азии и Европы, лежащая на стыке двух миров – восточного и западного, представляет собой особый социокультурный мир, базирующийся на синтезе обоих начал. Обосновывая свою «срединную» позицию, евразийцы писали: «Культура России не есть ни культура европейская, ни одна из азиатских, ни сумма или механическое сочетание из элементов той и других… Ее надо противопоставить культурам Европы и Азии как срединную евразийскую культуру».[16] Поэтому, утверждал Савицкий в своей статье «Географические и геополитические основы евразийства» (1933), «Россия имеет гораздо больше оснований, чем Китай, называться “Срединным государством”. Это самостоятельная, самодостаточная и особая духовно-историческая геополитическая реальность, которой принадлежит своя самобытная культура, “равно отличная от европейских и азиатских”».
Одно из центральных мест в евразийстве занимала идея, согласно которой романо-германский мир, т. е. Западная Европа, выработал особую систему принципов и ценностей, которая была отождествлена с общечеловеческой, или универсальной, системой. Однако каждый народ и каждая культура имеют неотъемлемое право избрать собственный, присущий только ему или ей путь развития. Поскольку Россия – самобытная цивилизация, она должна отвергать западные ценности и отстаивать свой путь. Как считал, например, Савицкий, русская самобытность должна быть активно противопоставлена романо-германскому миру. Главный изъян романо-германского мира усматривается в том, что он ставит на первое место индивидуализм, эгоизм, конкуренцию, материализм, технический прогресс, потребительские ценности. Начиная с эпохи Просвещения, встав на путь богоборчества и превознесения человеческой гордыни и материального преуспеяния, романо-германский мир глубоко болен и находится в состоянии внутреннего кризиса и духовного вырождения и упадка. «Мы должны привыкнуть к мысли, – писал Н. Трубецкой в книге “Европа и Человечество”, вышедшей в Софии в 1920 г., – что романо-германский мир со своей культурой – наш злейший враг».
Особое значение евразийцы придавали туранскому фактору в русской культуре. По их мнению, самобытность российской культуры состоит в том, что она сложилась как синтез славянского и туранского начал. Они отстаивали мысль о том, что татаро-монгольское наследие послужило тем ядром, вокруг которого сформировался единый евразийский мир в лице России-Евразии, выступившей на мировой арене в форме континентальной мировой империи. Положительно оценив туранский фактор, евразийцы подчеркивали преемственность России с империей Чингисхана и усмотрели в Золотой Орде основу российской евразийской государственности. Как писал Трубецкой, «национальным субстратом того государства, которое прежде называлось Российской империей, а теперь называется СССР, может быть только вся совокупность народов, населяющих это государство, рассматриваемая как особая многонародная нация и в качестве таковой обладающая своим национализмом».[17]
Еще определеннее эту позицию сформулировал Савицкий, по мнению которого субстрат евразийской культурно-цивилизационной целостности составляют арийско-славянская культура, тюркское кочевничество, православная традиция: именно благодаря татаро-монгольскому игу «Россия обрела свою геополитическую самостоятельность и сохранила свою духовную независимость от агрессивного романо-германского мира». Более того, «без татарщины не было бы России», – утверждал он в статье «Степь и оседлость». А один из более поздних евразийцев Л. Гумилев, которого В. Ступишин не без оснований называл блестящим путаником от науки, отождествлял Древнюю Русь с Золотой Ордой, а советскую государственность – с придуманным им самим славяно-тюркским суперэтносом.
Не отбрасывая ряд интересных наблюдений, высказанных евразийцами, нельзя не отметить, что их проекты содержали множество ошибочных положений, которые в современных условиях выглядят анахронизмами. В евразийской идеологии присутствовали отдельные элементы, реализация которых была бы чревата для России добровольной изоляцией. Так, в одном из манифестов евразийства говорилось: «Русскую культуру надо противопоставить культурам Европы и Азии как срединную, евразийскую культуру, мы должны осознать себя евразийцами, чтобы осознать себя русскими. Сбросив татарское иго, мы должны сбросить и европейское иго».
Невозможно принять также убеждение евразийцев в исключительности и особой миссии России в современном мире. Так, представляя Россию-Евразию как возглавляемый Россией особый культурный мир, авторы манифеста подчеркивали, что она, т. е. Россия-Евразия, «притязает еще и на то и верит в то, что ей в нашу эпоху принадлежит руководящая и первенствующая роль в ряду человеческих культур». Такая вера, говорилось далее в манифесте, может быть обоснована только религиозно, т. е. на фундаменте православия: исключительность русской культуры, ее особая миссия выводятся из православия, которое есть «высшее единственное по своей полноте и непорочности исповедание христианства. Вне его все – или язычество, или ересь, или раскол». Хотя ценность других христианских вероисповеданий полностью и не отрицалась, выдвигалось условие: «существуя пока как русско-греческое и преимущественно греческое, православие хочет, чтобы весь мир сам из себя стал православным». В противном случае приверженцам других вероисповеданий предрекались разложение и гибель.
Своим эсхатологическим подходом евразийство в методологическом плане мало чем отличалось от ведущих идейно-политических течений того времени – фашизма и большевизма. Не случайно воззрения евразийцев в ряде аспектов были близки позициям получившего в тот период определенную популярность национал-большевизма, синтезировавшего в себе некоторые важнейшие постулаты как фашизма, так и большевизма. Закономерно и то, что большинство евразийцев позитивно приняли действия большевиков по сохранению и укреплению территориального единства России. Они были убеждены в том, что русская революция есть символ не только конца старой, но и рождения новой России. Так, Н.С. Трубецкой в 1922 г. допускал, что советскому правительству и Коммунистическому интернационалу удастся развернуть европейскую революцию, которая будет лишь вариантом российской экспансии, и видел неизбежным следствием такой экспансии взращивание и поддержку «благополучия образцовых» коммунистических государств Европы «потом и кровью русского рабочего и крестьянина».[18] Более того, успех советского руководства в этом деле оценивали как победу «евразийской идеи», полагая, что коммунисты последовательно реализуют вековые имперские устремления России. Один из лидеров евразийцев Л. Карсавин настойчиво подчеркивал: «Коммунисты… бессознательные орудия и активные носители хитрого Духа Истории… и то, что они делают, нужно и важно».
Следует отметить, что в большинстве своем русская эмигрантская интеллигенция приняла евразийские идеи довольно прохладно, если не сказать отрицательно. Среди особенно активных критиков евразийства были Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, П.Н. Милюков, Ф.А. Степун, Г.П. Федотов. Представляется вполне естественным, что в 1928 г. наметившийся ранее раскол внутри движения завершился полным его размежеванием на парижскую и пражскую группы. Более того, к началу 30-х гг. от евразийства отошли самые решительные его сторонники, включая основоположников и активных сторонников – Н.С. Трубецкого, Г.В. Флоровского, П.М. Бицилли и др. Показательна в этом плане позиция Флоровского, который в статье с характерным названием «Соблазн евразийства» с горечью констатировал, что «судьба евразийства – история духовной неудачи». По его словам, на поставленные жизнью вопросы евразийцы «ответили призрачным кружевом соблазнительных грез. Грезы всегда соблазнительны и опасны, когда их выдают и принимают за явь. В евразийских грезах малая правда сочетается с великим самообманом… Евразийство не удалось. Вместо пути проложен тупик. Он никуда не ведет».[19]
Казалось бы, ставшие достоянием истории во многом утопические и в чем-то дискредитировавшие себя идеи евразийства получили второе рождение после распада СССР. Сам факт стремительного разрушения созданного, как представлялось, на века громадного централизованного государства, в результате которого единая территория многовековой империи оказалась разорванной на множество фрагментов, причем не только по линиям государственных границ, но и на этнонациональные, региональные, конфессиональные и иные составляющие, споры и дискуссии о судьбах и перспективах России выдвинулись на первый план с новой силой.
Для значительной части российской интеллигенции, особенно публицистов, журналистов и представителей возрождавшихся в тот период гуманитарных наук, территориальный фактор приобрел особую важность. В условиях двухполюсного миропорядка советская система обеспечивала как территориальное, так и экономическое, социокультурное и политическое единство необозримых пространств, различных регионов, народов и конфессий. В контексте распада СССР ощущение фрагментарности и разорванности исторической территории государства не могло не вызвать у исследователей и просто интересующихся судьбами России стремление выявить и объяснить факторы, лежащие в основе этих знаковых сдвигов, а также найти средства и пути сохранения территориального единства страны. Для тех, кто в силу некоторых причин стал воспринимать эти изменения в трагическом, чуть ли не апокалиптическом свете особую привлекательность приобрела геополитическая концепция контролируемого пространства как основа мирового порядка.
Этим объясняется преимущественный интерес российских авторов к воззрениям и установкам старой геополитики, представители которой делали акцент на географическом детерминизме и территориально-пространственном факторе. Традиционная геополитика привлекательна тем, что предлагает простые ответы на сложные и трудноразрешимые вопросы. Не случайно отправной точкой большинства геополитических разработок в России послужили идеи и установки Г. Макиндера, А. Мэхена, К. Хаусхофера и др.
Наиболее спорным предметом обсуждения среди авторов, интересующихся геополитическими перспективами, стало положение России в сердце евроазиатского континента. Однако необходимо отметить, что среди самих авторов, уделяющих преимущественное внимание геополитическому фактору, не наблюдается единства. Часть из них пытается строить анализ геополитического положения России в современном мире на путях органического сочетания территориально-географического фактора с культурно-историческими, этнонациональными, конфессиональными и др. В этом направлении особенно интересными представляются изыскания Б.С. Ерасова, А.С. Панарина, Э.А. Позднякова, для которых характерна ориентация на дальнейшее развитие отдельных идей, выдвигавшихся в свое время Н.Я. Данилевским и евразийцами, разумеется, с учетом нынешней действительности.
Охотно и не особенно разборчиво идеи традиционной геополитики применительно к статусу и роли России в современном мире поддерживаются представителями так называемого патриотического, или националистического, направления. Из их рассуждений можно сделать вывод, что сам факт обладания огромными территориями дает право тому или иному государству доминировать над соседними регионами и странами.
На основе своеобразного симбиоза территориально-географических построений традиционных геополитиков с не всегда адекватно понятыми воззрениями российских евразийцев предпринимаются попытки выдвижения разного рода псевдогеополитических построений. Некоторые исследователи, например, утверждают, что контроль над Евразией, этим последним оплотом традиционализма, – мистическое предназначение, геополитический императив России. При этом склонность к сакрализации географии и территориальному мистицизму зачастую идет рука об руку с разного рода сверхполитизированными и идеологизированными выкладками великодержавного, конспирологического или иного характера. В ряде работ, которые вряд ли можно отнести к числу научных и заслуживающих соответствующего внимания, эти идеологи от геополитики пытаются обосновать внешнеполитические позиции тех сил, которые выступают, по сути дела, за реванш, т. е. за восстановление либо СССР, либо границ Российской империи до 1917 г., либо за какой-то иной не менее экзотический сценарий.
Вслед за славянофилами и евразийцами эта группа авторов (которых условно можно назвать неоевразийцами) явно преувеличивает фактор самобытности и особого пути развития России, рассматриваемой как специфическая цивилизация, противопоставляемая прежде всего Западу. Но редко когда приводится толкование, что именно под этой цивилизацией понимается.
Однако многие идеи, заимствованные у славянофилов и евразийцев, уже в период своего появления оказались эрзац-идеями, во многом изношенными. Это касается, например, идеи соборности, согласно которой каждый отдельно взятый индивид, каждая группа, слой, класс рассматривается как неразрывная часть целого. Самоотречение и служение, доходящие до самопожертвования во имя общего дела, возводятся в ранг высшей добродетели, якобы составляющей отличительную особенность России. «Россия – это Собор земли, державы и церкви, т. е. единство духа, царства и гражданского общества». Утверждается, что ей будто бы изначально присуще единство верхов и низов, власти и народа, идеалов и интересов. Однако непредвзятый анализ истории России XX в. не дает оснований, подтверждающих столь идиллическое ее видение. Тем более не соответствует оно нынешним реалиям.
В построениях неоевразийцев явно ощущается влияние известного тезиса С. Хантингтона, который, мягко говоря, нельзя назвать в должной мере обоснованным. Но его притягательность состоит в том, что в нем некоторые межэтнические и межклановые конфликты получают статус цивилизационных, а это позволяет использовать псевдоцивилизационную и вероисповедную риторику для достижения местнических и сепаратистских целей. Установки, предполагающие однозначный выбор, сделанный Россией в пользу Востока за счет Запада, несостоятельны по своей сути и ничего хорошего ни России, ни ее народу не сулят. Разумеется, в этом контексте ущербными представляются и позиции тех крайних западников, которые считают однозначной идентификацию России с Западом и обосновывают необходимость геополитической интеграции с Европой и США.
Главная ошибка всех названных идей состоит в упрощении или недоучете сложного, многопланового, противоречивого характера социокультурной матрицы политической культуры России, которая определяется множеством факторов.
Во-первых, многослойность – органическое сочетание элементов традиционно-российских (этатизм, авторитаризм, персонификация власти, анархизм, коллективизм, солидаризм, нигилизм и др.), советских (идеализм, вождизм, коммунистический эсхатологизм, баррикадное сознание, уравнительство и т. д.) и модернистских (индивидуализм, права и свободы человека, ориентация на успех и конкуренцию, рынок и демократию). Во-вторых, гетерогенность – существование множества этнонациональных, региональных, конфессиональных и иных субкультур. В-третьих, фрагментарность – текучесть, неопределенность, неструктурированность, незавершенность, разорванность установок и ориентаций. В-четвертых, конфликтность – отсутствие базового консенсуса, разлом по линиям – общество и власть, народ и интеллигенция, прошлое, настоящее и будущее и т. д. В-пятых, антиномичность – этатизм – анархизм, коллективизм – персонификация, архаизм – футуризм, консерватизм – радикализм, шовинизм – интернационализм, прерывность – преемственность и др.
Россия по многим системообразующим параметрам, действительно, особая страна. В качестве одной из важнейших характеристик политико-культурной «палитры» России уже упоминалась ее гетерогенность – существование множества субкультур со сложными, противоречивыми, зачастую конфликтующими установками, ценностями, ориентациями. Считается, что среди элементов, унаследованных Россией от Восточной Римской империи, важное место занимают своеобразный космополитизм, или экуменизм, наднациональный, надэтнический характер власти, «интернационалистский» подход к формированию политической и интеллектуальной элиты. В этом контексте этнокультурный плюрализм России приобретает особую значимость. В ходе ее исторического развития в процесс формирования политической культуры внесли свою лепту различные этнонациональные, конфессиональные, социокультурные группы, принесшие с собой свой специфический национально-исторический опыт, свои приверженности, ценности, предрассудки, традиции.
Однако Россия не является неким искусственным конгломератом территорий, регионов, наций, народностей, этносов, а представляет собой единый нерасчленимый организм с общим для всех его членов жизненным пространством. Народы и территории, вошедшие в состав Российского государства на разных этапах его формирования, независимо от того, как это произошло – добровольно или насильственным путем, на основе договорных или иных актов, уже в течение длительного времени составляют неразрывные части единого культурно-исторического и политико-экономического пространства. В этом отношении Россия является государством – сообществом народов. С данной точки зрения идеология обнаружила в себе не просто открытость внешним влияниям, а способность органически интегрировать в себя самих носителей этих влияний.
Таким образом, для российской политической культуры характерно разнообразие не только интересов, установок, ориентаций, но и основополагающих ценностей. Поэтому перестройка жизнеустройства новой России, особенно если речь идет о переходе к демократии, невозможна без обеспечения разным культурным традициям доступа к центрам власти и учета многообразия культур. Поскольку одна из сущностных характеристик демократии заключается в том, что она признает равенство не только стартовых возможностей, но и способов жизнедеятельности. Соответственно, в реалиях сегодняшнего дня рыночные отношения и институты политической демократии могут сложиться с различными экономическими, социальными, научно-техническими и иными результатами. Можно говорить о России многообразия и, естественно, России «многих скоростей».
Одной из важнейших составляющих политической культуры является характер взаимоотношений между отдельно взятым человеком, обществом и государством. Считается, что Россия является преемницей Византийской империи прежде всего в том, что она унаследовала от последней специфическую имперскую государственную идею. Она переняла от Византии функцию своего рода буфера и посредника между Востоком и Западом с соответствующими политико-культурными установками на терпимость и стремление к синтезу достижений Европы и Азии.
В.С. Соловьев не без оснований подчеркивал, что все хорошее в России основано на забвении национального эгоизма. Это, утверждал он, «и русское государство, зачатое варягами и оплодотворенное татарами, и русское благочестие, воспринятое от греков, и заимствованное с Запада просвещение, без которого не было бы русской литературы». В данном контексте такие люди, как Ч. Айтматов, Ф. Искандер, Р. Гамзатов и множество других писателей, поэтов и художников, в той же мере являются представителями общероссийской культуры, в какой и В. Астафьев, А. Герман, Ф. Абрамов и др. Необходимо раз и навсегда осознать, что ислам, буддизм и ряд других религиозных культур, существующих на территории России, не навязаны ей извне, не есть нечто для нее чужеродное, а составляют интегральные части ее социокультурной матрицы. Поэтому патриотизм, который парадоксальным образом совмещается с интернационализмом, как правило, носит государственнический, а не националистический характер.
Своеобразие России по сравнению с Западной Европой и США состояло в том, что на протяжении многих веков основой ее политического порядка была самодержавная государственная власть. Более того, государственность являлась той базовой конституцией, на основе которой Россия стала органической целостностью. В данном контексте обширные пространства России и, соответственно, огромные расстояния нельзя рассматривать исключительно как фактор, способствующий обособлению отдельных регионов, регионализации, формированию там неких государственных образований и в конечном счете дезинтеграции России. Наряду с этим огромность пространств и их удаленность друг от друга служили фактором, обеспечивающим усиление и расширение роли централизованного государства.
На огромных просторах российской Евразии сосуществовали разнородные этнонациональные сообщества, которые вступали между собой во взаимные распри и междоусобицы. В то же время эти сообщества, находясь на разных уровнях развития, не располагая собственными средствами коммуникации с внешним миром, объективно оказывались заинтересованными жить под крылом империи. Сильное, централизованное государство служило объединяющим для всех этих сообществ началом, скрепляющей их всех в единый организм суперструктурой. В России именно государство выступало как носитель наиболее универсального принципа, позволяющего превратить разноликий конгломерат регионов и народов, культур и религий в единое политическое, административное, социокультурное, хозяйственно-экономическое пространство. В этом плане в нашей стране не было каких-либо автономных от государства структур и норм, призванных обеспечить порядок, целостность и жизнеспособность социума.
Развитие общества шло под знаком определяющей роли государства, в Западной Европе главным противовесом власти феодалов были свободные города, то в России городские и деревенские низы, а также группы и представители среднего служилого сословия могли искать защиту от произвола бояр, помещиков только у государства. Сама аристократия как в материальном, так и в моральном плане всецело зависела от доброй воли монарха.
По сравнению с Западной Европой в России разделение власти над людьми и вещами, государственной власти и собственности, государственной, или политической, сферы и экономической, социальной и иных сфер произошло значительно позже и в весьма несовершенной форме. Вплоть до реформ 60-х гг. XIX в. во многих важных аспектах Российское государство имело вотчинный или патримониальный характер. На Западе со времен Средневековья проводится четкое разграничение между публичной властью государя и его частной наследственной собственностью, тогда как Московское вотчинное государство было неограниченным собственником всей земли, людей и вещей на своей территории. Иначе говоря, в России не сложились какие-либо иные средства ограничения боярских и дворянских привилегий и прерогатив, а также иные механизмы интеграции и институционализации общества, кроме сильной государственной власти. К ней были привязаны и были вынуждены апеллировать все сословия. Поэтому здесь значительно позже, чем в странах Запада, начали формироваться институты гражданского общества.
Немаловажную роль в формировании и функционировании политической культуры играет религия. Более того, многие идеи, ценности, установки, связанные с религией, составной частью включаются в политическую культуру той или иной нации, страны, народа. Это объясняется тем, что религия, будучи частью национальной и исторической традиции данного народа, пронизывает его культурное наследие и, соответственно, не может не отразиться на характере его политической культуры. Не случайно А. де Токвиль прямо связывал с религией республиканские добродетели и демократические институты Америки.
Обращает на себя внимание тот факт, что религиозный и социокультурный традиционализм часто идет рука об руку с социально-философским и идейно-политическим консерватизмом. Религия всегда служила источником культурных ценностей. В конце концов, религия тесно связана с культурной традицией как частью образа жизни в целом. Когда этот образ жизни подвергается опасности, его религиозные и моральные компоненты оказываются опорными пунктами защиты.
Можно утверждать, что в формировании чувства патриотизма и преданности Отечеству немаловажную роль сыграла православная вера. Показательно, что христианство было принято в России не столько как одно из сопоставимых с другими вероучений, сколько как внеисторический и вневременной образ жизни. В этом плане главными недостатками католической и протестантской церквей славянофилы считали их историчность, внешнюю определенность и отделенность от христианской соборности. И соответственно, главной задачей православия, сохранившего, по их мнению, в себе этот соборный дух, они видели воплощение христианства в его окончательном синтезе.
Православная вера давала русским духовную опору, чтобы противостоять мусульманскому Востоку и католическому Западу. В целом, хотя принципы веры согласовывались с политическими принципами, религия часто использовалась для обоснования власти и притязаний сначала русских князей, а затем и московских царей. Пропагандируя идею, рассматривавшую Москву как «новый Вечный город, наследницу Рима и Константинополя», представители духовенства постоянно напоминали царям о том, что их священный долг – превратить Московию в «Новую христианскую империю», при этом не обозначая ее границы. Следует отметить, что эта доктрина сыграла немаловажную роль в экспансии и утверждении многонациональной Российской империи на бескрайних просторах евразийского континента.
В этой связи нельзя не упомянуть, что многие атрибуты и символы православной церкви стали одновременно и символами российской государственности. Например, храм Василия Блаженного, возвышающийся на главной площади страны рядом с Кремлем, храмы в самом Кремле, взорванный большевиками храм Христа Спасителя, Исаакиевский собор, Сергий Радонежский и многие другие. Символично, что церковь возводила в ранг святых выдающихся деятелей, которые не являлись ее служителями. Речь идет, например, о равноапостольных Кирилле и Мефодии, святом Владимире, Александре Невском, Дмитрии Донском и др.
С этой точки зрения одной из важных особенностей российской истории было слияние церкви с государством. Церковь являлась государственным институтом, жестко вмонтированным в систему государственного управления. Показательно, что в 1718 г. был образован Департамент по делам государственной религии. В 1721 г. Петр I отменил патриархат и заменил его Священным синодом, возглавляемым светским лицом, назначенным правительством. Этой акцией он превратил церковь в инструмент государства и заставил ее играть активную роль в поддержке политики правительства. Это значительно подорвало способность церкви осуществлять свои традиционные функции – служить в качестве моральной узды на монарха. Подчинение церкви государству было необходимым шагом к консолидации абсолютной и неограниченной монархии.
С интенсификацией во второй половине XIX в. процессов индустриализации и урбанизации, особенно после реформ первой половины 60-х гг., все чаще начали заявлять о себе инженеры, ученые, преподаватели и профессора, предприниматели, купцы и другие, которые могли составить основу начавшего формирование среднего класса – главной несущей опоры гражданского общества. Однако этот процесс был прерван большевистской революцией 1917 г. и установлением тоталитарной системы, в результате чего роль и функции, которые в обосновании русской государственности выполняло православие, перешли к марксизму-ленинизму, ставшему единственной, безраздельно господствующей государственной идеологией большевистского режима, превращенной в некую разновидность религиозного откровения. Марксизм, по сути дела рассматриваемый как завершение истории развития всей мировой философии, не подвергался критике, а его положения стали критерием оценки всех остальных философских систем.
На основании вышеизложенного можно утверждать, что сущностной характеристикой российской политической культуры является то, что каждый из ее базовых элементов имеет свою антитезу. Поэтому и говорят об антиномичности политической культуры России. Так, в течение последних трех столетий имел место постоянный конфликт субкультур – западнической и почвеннической, радикальной и патриархально-консервативной, анархической и этатической и т. д. В данной связи Н. Бердяев указывал на антиномичность и противоречивость, двойственность и иррационализм «русской души» – поразительный симбиоз анархизма и этатизма; готовности отдать жизнь за свободу и неслыханного сервилизма; шовинизма и интернационализма; гуманизма и жестокости; аскетизма и гедонизма; «ангельской святости» и «зверской низости».
Отсутствие серединной культуры, способной соединить крайние полюса национального сознания, имело своим следствием расколы и катастрофические перерывы, ставшие одной из черт русской истории. Показательно, что само понятие «раскол», которое невозможно аутентично перевести ни на один другой язык, обозначает реальность, универсалия русской жизни. Тот неоспоримый факт, что между властью и народом, народом и интеллигенцией, интеллигенцией и властью, различными религиозными направлениями, политическими силами и так далее произошел раскол интересов, привел Россию к отсутствию в государстве базового национального согласия. При всех попытках преодолеть этот негативный фактор тоталитаризм привел к многократному его усугублению.
Необходимо отметить, что разрывы и расколы, антиномичность и конфликтность сами по себе не отменяли фактор преемственности. Какими бы резкими, а подчас даже демонстративно грубыми не были разрывы России с прошлым, на каждом этапе своего развития национальное сознание интегрировало новые веяния, тенденции, ценности, органически совмещая их с традиционными. Общество каждый раз находило в себе мудрость и силы, чтобы передать новым поколениям коренные ценности, позволяющие сохранить национальную идентичность. Таким образом, изменчивость сочеталась с преемственностью. Благодаря этому политическая культура России продемонстрировала устойчивость своих базовых характеристик.
Российская империя была одной из самых абсолютистских и самодержавных. Здесь имело место наиболее жесткое и далеко идущее закабаление крестьянства в форме крепостничества. Более того, традиционно большинство россиян отождествляло легитимное правительство с авторитарной формой правления. Поскольку само существование России как единого государства зависело от централизованного авторитарного правительства, русская национальная идентичность оказалась теснейшим образом связанной с авторитарным государством. Как писал историк Г. Вернадский, автократия и крепостничество представляли собой ту цену, которую русский народ вынужден был платить за свое национальное самосохранение.
Постоянный прессинг государства, практически исключавший существование каких бы то ни было предохранительных клапанов для выхода избыточной энергии, не мог не создать сильнейшее революционное напряжение в обществе. Чем жестче был этот прессинг, тем мощнее возникала ответная реакция. Парадокс состоит в том, что русский человек, будучи, в сущности, человеком государственным, вместе с тем боялся государства, всячески избегал иметь дело с властями, не доверял государственным учреждениям. Отсюда – постоянная конфликтность государственного сознания русского человека, с одной стороны, а с другой – неприятие им власти.
Время от времени неприятие властей и противодействие им проявлялось в бунтах, восстаниях, революциях. Самодержавная власть приводила к анархии. Комплекс верноподданичества уживался с радикализмом, вспышки революционности уступали авансцену волне реакции и контрреволюции. Причем всякий раз революция «снизу» в России имела тенденцию перерастать в страшный, по определению А.С. Пушкина, «русский бунт, бессмысленный и беспощадный».
Доведенное до крайности отрицательное отношение к государству и власти способствует формированию своеобразного двойного стандарта в оценке их действий, который при тоталитаризме опять же приобрел крайние, даже шизоидные формы. В связи с чем у человека возникают два мнения о сложившейся ситуации. По отношению к принимаемым высшими государственными и партийными инстанциями политическим и иным решениям и постановлениям у людей вырабатывается нечто вроде устойчивого рефлекса: «горячее» и «единодушное» одобрение этих решений и постановлений на словах и холодное безразличие или даже резкое их неприятие на деле. Возникает и становится массовым феномен, названный Дж. Оруэллом «двоемыслием», или «мыслепреступлением».
Однако стоит государству ослабить вожжи управления, как оборотная сторона медали приобретает самостоятельное значение. Неприятие власти оборачивается требованиями ее свержения, которые, как видно из истории первых двух десятилетий XX в., в конечном итоге заканчиваются революцией. В таком случае отношение к опостылевшей, ненавистной человеку власти уже не может быть половинчатым, амбивалентным. Она безоговорочно отвергается в корне и начисто. И то, что этот фактор не был учтен, придает драматичность сложившейся ситуации. Если вспомнить перипетии последнего десятилетия политической жизни России, то обнаруживается, что по мере ослабления мертвой хватки тоталитарного режима героями и любимцами народа автоматически, независимо от реальных достоинств, становились лица, декларировавшие свою оппозицию существовавшему тогда режиму. М. Горбачев, первоначально с огромным энтузиазмом принятый народом, постепенно терял ауру, влияние и власть потому, что не смог, возможно, и не желал окончательно порвать с режимом.
Эти события во многом обусловили то, что для России, по сути, весь советский период с 1917 г. по настоящее время представлял собой смутное время, в течение которого властную систему, несмотря на кажущуюся крепость, неотступно преследовала проблема легитимности. Именно этим в определенной степени можно, по-видимому, объяснить тот факт, что каждый новый верховный правитель страны в лице генсека или первого секретаря считал своим долгом свалить с пьедестала прежнего кумира и заявить народу, что страна до сих пор шла к коммунизму в правильном направлении, но по вине прежнего руководителя не той тропинкой. Так было с «разоблачением культа личности Сталина», смещением Н. Хрущева в результате государственного переворота в 1964 г., развенчанием Л. Брежнева после его смерти в 1982 г., восторженным принятием М. Горбачева, сменившемся стремительным разочарованием в нем широчайших слоев населения.
Для России характерна ярко выраженная персонализация политической жизни и государственной власти. Речь идет о том, что установки, симпатии и антипатии многих россиян ориентированы скорее на личности конкретных политических и государственных деятелей, нежели на политико-идеологические программы. В этом контексте облик и судьбы российской истории на различных ее этапах определяли Иван Грозный, Петр I, Екатерина II, В. Ленин, Б. Ельцин и другие выдающиеся личности.
Со значительной долей уверенности можно утверждать, что почти все современные российские политические партии, организации, движения формировались вокруг известных личностей, получивших признание на том или ином экономическом, общественном или политическом поприще благодаря своим личным качествам, связям, выступлениям на публичных мероприятиях, в средствах массовой информации и т. д. Оборотной стороной персонализации в российской политике является апофеоз народа, масс, народностей. Наряду с самодержавием и православием народность составляла одну из трех главных опор в идеологии Российского государства. Феномен хождения в народ всегда был весьма популярен в нашей стране.
Из всего изложенного можно сделать вывод, что в системе ориентаций и установок россиян авторитарно-этатистские элементы органически сочетаются с элементами, которые служат базой для формирования и дальнейшего развития ценностей, установок, отношений и институтов политической демократии. Дело не только в том, что за последние годы возросла численность людей, для которых они стали руководством к жизни, но и в том, что такие ценности и принципы коренятся в самой русской ментальности. Главная проблема, стоящая перед Россией, заключается в том, чтобы найти пути и способы достижения органического сочетания рыночной экономики, политической демократии, правового государства, исторических традиций российской государственности. При этом особое значение имеет учет тех исторических традиций России, которые носят если не антикапиталистический, то некапиталистический характер в общепринятом смысле слова. Речь идет о коллективистских, общинных, солидаристских и иных началах, которые составляют неотъемлемую часть национального миропонимания, социокультурной системы и политической культуры. Об обоснованности этого тезиса свидетельствует тот факт, что на пути к новой демократической государственности Россия в буквальном смысле за два десятилетия прошла путь, для преодоления которого западным странам потребовались полтора-два столетия.
12
Хабгрмас Ю. Европейское национальное государство его достижения и пределы. О прошлом и будущем суверенитета и гражданства // Нации и национализм. М. Праксис, 2002. С. 369
13
Бердяев Н.А. Судьба России. М., 1990. С. 9.
14
Malia M. Russia under Western Eyes. From the Bronze Horseman to Lenin Mausoleum. Harvard University Press, 1999.
15
Бурбанк А. Новые течения в американской историографии о России власть и культура. Режим доступа. http//www.omskregru/histbook/articles/y1997/a060/articleshtml
16
Евразийство: опыт систематического изложения. Париж, 1926. С. 32.
17
Трубецкой Н.С. Общеевразийский национализм // Евразийство (формулировка 1927 г.). Евразийская хроника. Вып. IX. Париж, 1927. С. 24.
18
Трубецкой Н.С. История. Культура. Язык. М., 1995. С. 299.
19
Флоровский Г. Евразийский соблазн // Русская идея. В кругу писателей и мыслителей русского зарубежья. Т. I.М., 1994. С. 305–306