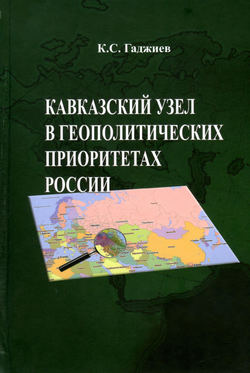Читать книгу Кавказский узел в геополитических приоритетах России - Камалудин Серажудинович Гаджиев - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 2
Россия на постсоветском пространстве
2.1. Постсоветское пространство как сфера жизненных интересов России
ОглавлениеГеография и месторасположение имеют немаловажное значение для исторических судеб и перспектив любого государства или народа. Более того, в древнейший период истории человечества географический фактор играл определяющую роль в жизни людей и государств. География и месторасположение включают в себя такие факторы, как размеры и масштабы территории конкретного государства, топография, климат, условия для сельскохозяйственного производства, наличие природных ресурсов, доступ к морям и океанам и т. д.
Как показывает исторический опыт, сама земля, территория государства составляет тот стратегический ресурс, который по значимости, возможно, превосходит все остальные ресурсы. Размеры территориальных владений влияют как на характер, так и на основополагающие интересы государства. Ландшафт, степень плодородия почвы, природные ресурсы непосредственным образом сказываются как на структуре и отдаче народного хозяйства, так и на плотности населения. Они крайне важны для развития путей сообщения, размещения народнохозяйственных объектов и инфраструктуры, внутренней и внешней торговли. Положение относительно океанов и морей определяет близость или удаленность от важнейших рынков, центров силы и очагов конфликтов. Немаловажное значение для безопасности национальных интересов имеет также близкое окружение государства. Естественно, географическое положение приходится учитывать при решении государством не только многочисленных экономических и внутриполитических, но также основополагающих внешнеполитических задач.
На протяжении всей истории существования мировых государств их могущество или слабость напрямую зависели от размеров и географического положения принадлежащих им территорий и, естественно, от способности защищать их от всякого рода угроз. Любая цивилизация или мировая держава, оставившая свой след в истории, продемонстрировавшая свою самодостаточность и эффективность, неизменно обнаруживала тенденцию к пространственной экспансии. Свою главную цель государство видело в завоевании территорий для решения своих экономических задач, требований безопасности и т. д. Фактически мощь и богатство государства во многом определялись размерами контролируемой им территории. Поэтому великие державы во все времена пытались усилить свой контроль над соседними странами и народами, а по возможности и над всей международной системой. Со времени Вестфальского мира (1648) территориальные границы государств считались священными и свидетельствовали о стабильности и жизнеспособности международной системы.
Пожалуй, данный принцип наиболее емко и лаконично сформулировал С. Родс, известный идеолог и практик Британской империи XIX в.: «Расширение – это все». Этот тезис, как считал О. Шпенглер, содержит «доподлинную тенденцию всякой созревшей цивилизации… Экспансивная тенденция – это рок, нечто демоническое и чудовищное, охватывающее позднего человека эпохи мировых городов, заставляющее его служить себе и истощающее его, все равно, хочет он этого или не хочет, знает ли он об этом или нет».[29] Чтобы убедиться в обоснованности данного тезиса, достаточно обратиться к опыту китайцев, персов, арабов, монголов, оттоманцев, русских, американцев и других народов, создавших великие империи путем территориальной экспансии.
Что касается современного мира, особенно начиная с окончания Второй мировой войны, географические и пространственно-территориальные факторы мирового сообщества и, соответственно, отдельно взятых стран и народов в их отношениях друг с другом подверглись существенной трансформации. Более того, научно-технический прогресс второй половины XX в. имеет своим результатом качественную модификацию самих географических факторов функционирования и развития обществ. При этом не совсем корректным представляется то, что нередко понятия «пространство» и «территория» используются как синонимы. Дело в том, что в современном мире реальное значение приобретают различные формы пространства. Наряду с территориальным (водным, воздушным), обладающим четко осязаемыми физико-географическими характеристиками, можно говорить о экономическом, культурно-цивилизационном, информационном и других пространствах, оказывающих влияние как на характер и направленность мировых процессов, так и на политическую стратегию каждого отдельно взятого государства и мирового сообщества.
При таком положении вещей влияние географического месторасположения на геополитику государства не может быть столь фатальным в современную эпоху информационных технологий и новейших средств транспорта и коммуникации, как это было в период преобладания аграрного хозяйства и гужевого транспорта. Можно сказать, что если даже теоретически допустить правомерность подхода старой геополитики, то географические и пространственно-территориальные факторы мирового сообщества и отдельно взятых стран и народов в их отношениях друг с другом подверглись радикальной трансформации.
Тем не менее в современном мире, где идет неуклонное сужение ойкуменического пространства в плане ресурсного потенциала, придается большая значимость и ценность масштабам территорий, которые могли бы попасть в это пространство. Подтверждением этому служит то, что в последние годы получают популярность идеи о своего рода обобществлении мировых ресурсов или установлении над ними наднационального контроля на том основании, будто богатые ресурсами, но отстающие в экономическом развитии страны не вправе претендовать на монополию на свои углеводородные ресурсы. Здесь в первую очередь имеются в виду нефть и газ Сибири и Кавказско-Прикаспийского региона. По этому поводу небезынтересны доводы и рассуждения некоторых деятелей Североатлантического альянса о необходимости создания энергетического НАТО для обеспечения энергетической безопасности развитого мира.
Можно понять и доводы некоторых представителей официальных властей и стратегов западных стран, прежде всего США, которые пытаются протолкнуть идею о том, что в современном глобализирующемся мире сам феномен сфер влияния стал реликтом истории. Естественно, это мнение призвано оправдать желания ее авторов и приверженцев утвердить и расширить свое влияние на постсоветском пространстве. Главная ее цель, как будет показано в соответствующей главе, состоит в том, чтобы, привязав страны региона к Западу, предельно ослабить позиции России и воспрепятствовать возможным интеграционным тенденциям в СНГ. В этом направлении большие усилия прилагаются для того, чтобы утвердить в Кавказско-Прикаспийском регионе принципы так называемого геополитического плюрализма, предусматривающего некий равный доступ всех без исключения государств и корпораций к углеводородным и иным его ресурсам.
Но нельзя забывать, что весьма любопытный как в теории, так и на словах принцип равного доступа всех без исключения государств в любой регион земного шара рушится при соприкосновении с реальностями мировой политики. Декларировать равный доступ можно, например, применительно к территориям Арктики и Антарктики, нейтральной акватории Мирового океана или лунной поверхности. В реальном мире этот принцип действует (если вообще осуществляется) с множеством оговорок и исключений. Мы не станем перечислять те страны и регионы, в которых сама возможность размещения российских или китайских военных баз не стала бы рассматриваться западными странами, прежде всего США, как угроза своей национальной безопасности. Для России же таким регионом является постсоветское пространство в целом и Кавказ в особенности.
Об обоснованности этого факта свидетельствует то, что важнейшим и даже центральным направлением во внешнеполитических приоритетах России являются страны СНГ или, как принято говорить, ближнего зарубежья, которое составляет зону ее жизненно важных интересов в области экономики, обороны, национальной безопасности и т. д. Для России необходимость сохранения своих позиций в постсоветском пространстве и его интеграции обусловлена прежде всего геополитическими целями и долгосрочными перспективами развития экономики. Экономическое, политическое, духовное и культурное присутствие в этих странах отвечает долгосрочным национальным интересам России. По большому счету безопасность России во многом будет зависеть от того, как у нее сложатся отношения с Украиной и Белоруссией, центральноазиатскими и закавказскими государствами. Без преувеличения можно утверждать, что сами перспективы российской государственности во многом определяются ролью и местом, характером и степенью влияния России в пространстве бывшего Советского Союза.
В первые годы своего существования в силу целого комплекса объективных причин Россия, по сути дела, сосредоточилась на своих внутренних проблемах, заботах и тревогах. Погрузившись в налаживание и нормализацию отношений с Западной Европой и США, Россия совсем забыла, что в ее внешнеполитических приоритетах одно из первых мест должны занимать ближайшие соседи, прежде всего страны СНГ. Воспринимая страны СНГ как единое пространство, в 90-х гг. российское руководство не смогло определить приоритетные направления политики в отношении этих стран и, соответственно, наиболее важные для нее государства на этом пространстве. В тот период ситуация в политике России в отношении постсоветских стран напоминала положение цугцванг в шахматах, когда все ходы являются вынужденными. Разработка внешнеполитической стратегии России в отношении ближнего зарубежья отчасти осложнялась тем, что положение в большинстве бывших советских республик было подвержено быстрым изменениям.
В то же время в условиях, когда новые постсоветские государства переживали период центробежных тенденций и процессов, поисков новой идентичности и новых ориентиров и моделей экономического, социального и политического развития, иные их руководители, особенно те, позиции которых отличались радикализмом и крайним национализмом, были одержимы стремлением как можно сильнее дистанцироваться от России и отождествляемого с ней имперского прошлого. Это был своего рода романтический период, в который весьма велик соблазн принимать желаемое за действительное и связывать с предполагаемыми новациями повышенные ожидания и надежды. Поэтому неудивительно, что первоначально большинство республик было убеждено в том, что отделение от России, которая будто их эксплуатировала, освобождение от диктата всемогущего центра уже сами по себе откроют перед ними широчайшие возможности для экономического процветания, материального благополучия и духовного возрождения, предоставят им возможности для более быстрого и эффективного осуществления реформы, становления на путь устойчивого роста и повышения благосостояния народа.
Однако подобные надежды довольно быстро улетучились. Постепенно первоначальная эйфория, царившая в закавказских и центральноазиатских государствах относительно надежд, возлагаемых как на Запад, так и на мусульманский мир, которые после распада СССР стали рассматриваться ими как альтернатива Москве в качестве приемлемых доноров и партнеров, сменилась разочарованием. При сохраняющейся определенной привлекательности турецкой модели для некоторых постсоветских мусульманских стран постепенно приходило осознание того, что их ожидания относительно возможностей и масштабов экономической помощи и инвестиций со стороны Турции и других мусульманских стран были несколько завышены.
Процесс разработки и реализации внешнеполитической стратегии в отношении ближнего зарубежья первоначально осложнялся тем, что отношения России с новыми государствами в высокой степени были отягощены имперским наследием, в силу чего в условиях, когда в бывших советских республиках ведется процесс внутреннего самоутверждения, любой шаг России, в той или иной мере задевающий национальное самолюбие их народов, воспринимался настороженно и мог спровоцировать резкую, болезненную реакцию. Поэтому на первоначальном этапе определенная дистанцированность российских внешнеполитических служб от постсоветских стран, возможно, была оправданна и ее нельзя рассматривать как отсутствие собственной политики в этом регионе.
Направление разработки и реализации эффективной и соответствующей требованиям времени политической стратегии России в постсоветском пространстве определялось также тем, что оно представляет собой разнородный конгломерат стран и народов, характеризующихся в ряде случаев весьма слабыми взаимосвязями, разнообразием природно-географических, экономических, социокультурных, конфессиональных, этнонациональных, геополитических и иных факторов. Особо выделяется ряд регионов, внутри которых существуют порой довольно существенные различия.
Во-первых, это Кавказ, который, в свою очередь, подразделяется на Северный Кавказ, входящий в состав Российской Федерации, и Закавказье, территория которого расчленена на три самостоятельных национальных государства – Азербайджан, Армению и Грузию.
Во-вторых, Центральная Азия, включающая помимо стран дальнего зарубежья Казахстан, Узбекистан, Туркмению, Кыргызстан и Таджикистан.
В-третьих, Украина и Белоруссия.
В-четвертых, три прибалтийские страны, которые с мая 2004 г. являются членами Европейского союза.
В-пятых, стоящая особняком Республика Молдова.
И наконец, в-шестых, сама Российская Федерация.
В каждом из названных регионов Россия имеет жизненно важные национальные интересы. Что касается прибалтийских стран, вступивших в Евросоюз, то это самостоятельная тема, которая отчасти уже рассматривалась выше в рамках общей проблемы единой Европы. Здесь внимание будет сконцентрировано лишь на государствах, являющихся членами СНГ, и Грузии, которая в результате пятидневной войны вышла из его состава.
Россия так же, как и Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Узбекистан и другие, является одновременно кавказским и азиатским государством. Поэтому в плане сохранения своей территориальной целостности и обеспечения национальной безопасности на своих южных рубежах для России Кавказско-Прикаспийский, а в более широком плане Кавказско-Центрально-Азиатский регион имеет ключевое значение. Значимость Кавказа и Центральной Азии для России, помимо всего прочего, определяется выгодным геополитическим положением региона, расположенного на перекрестках коммуникаций, связывающих Европу со странами Юго-Западной, Южной и Восточной Азии. Задачи, стоящие перед Россией в этом регионе, поистине велики, но если допустить тот факт, что этот самый регион из зоны жизненных интересов превратится в объект иностранной геополитической экспансии, наша страна понесет колоссальные потери. Тогда Россия, как образно выразился один обозреватель, увидит в водах Каспия, как в зеркале, отражение государства, оттесненного на северные задворки Евразии.
Произвольно установленные в советский период границы между республиками бывшего СССР в наши дни стали потенциальным источником конфликтов. Например, единая в прошлом этнокультурная территория Ферганской долины была поделена между Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном. К этому прибавились территориальные изменения, происшедшие во времена советской власти. Особенно широкие масштабы такая политика приняла на Кавказе. В результате многие народы – русские, осетины, лезгины, аварцы и другие оказались разделенными государственными границами на две и более частей. В настоящее время в Центральной Азии и на Кавказе насчитывается множество спорных территориальных узлов, которые подогревают межгосударственные и этнические противоречия и конфликты. Питательную почву для возникновения таких противоречий создают также проблемы, сохранившиеся как результат насильственных депортаций репрессированных народов.
Таким образом, множество реальных и потенциальных этнонациональных, территориальных, конфессиональных и иных противоречий и конфликтов проявляются здесь в наиболее запутанной форме, чреватой далеко идущими непредсказуемыми негативными последствиями для всех стран и народов региона. К тому же в мусульманских республиках возрастает влияние исламского экстремизма в лице ваххабизма и других фундаменталистских течений ислама. При определенном развитии событий здесь, кроме всего прочего, речь может идти о слиянии в своеобразную единую дугу нестабильности четырех пока более или менее изолированных друг от друга источников конфликта: Ближнего Востока, Закавказья, Северного Кавказа и Центральной Азии. Это в свою очередь может стать фактором, способствующим дезинтеграции и балканизации России на ее южных рубежах. Хотя о реальной опасности такого развития событий можно говорить лишь гипотетически, поскольку, во-первых, Россия отнюдь не останется просто посторонней наблюдательницей, и, во-вторых, все кавказские и центральноазиатские народы кровно заинтересованы в обеспечении стабильности в регионе. Поэтому естественно, что в условиях, когда многие страны настолько взаимосвязаны друг с другом, конфликты в Закавказье и Центральной Азии не могут оставаться проблемой только сторон, вовлеченных в эти конфликты.
В нынешних геополитических реалиях Центральная Азия и Кавказ в целом с точки зрения внешнеполитической стратегии России на ее южных рубежах приобретают новое значение. Некоторые из южных и юго-восточных субъектов Российской Федерации приобрели статус пограничных. В создавшейся ситуации усиливается их роль в налаживании партнерских торговых связей с зарубежными, особенно соседними странами. Некоторые из них могли бы участвовать также в разработке и реализации внешнеполитических программ федерального правительства. Целесообразным и необходимым представляется привлечение Министерством внешнеэкономических связей Российской Федерации, например, Дагестана к реализации ближневосточной политики России, особенно если учесть наличие в странах Ближнего Востока многочисленной диаспоры из Дагестана, Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Чечни и других республик, диаспоры, которая все более активно проявляет себя в деле восстановления и укрепления связей со своей исторической родиной. Такую же роль следовало бы взять на себя всем северокавказским республикам в отношении закавказских республик. В свою очередь Астраханская, Волгоградская, Челябинская и Курганская области могли бы более активно участвовать в налаживании и расширении партнерских отношений с Казахстаном, а Приморский край и Хабаровская область с Китаем и т. д.
Россия заинтересована в сохранении доступа к сырьевым ресурсам Центральной Азии и Кавказа, рынкам сбыта для своих товаров. Центральная Азия и Прикаспийский регион богаты не только углеводородными, но и другими сырьевыми ресурсами, которые либо полностью отсутствуют в России, либо имеются в недостаточном количестве. Речь идет, к примеру, о медно-порфировых, колчеданных, стратиформных и других месторождениях этого региона. Причем наиболее многопрофильной представляется экономика Казахстана, экономическая интеграция с которым, а также укрепление военно-политического союза имеют для России большое значение. Отметим в данной связи, что один только Карагандинский металлургический комбинат поставляет в Россию около 2 млн т проката в год. Нельзя не упомянуть хлопок, главным поставщиком которого в Россию является Центральная Азия, прежде всего Узбекистан.
На положение дел в регионе немаловажное влияние оказывает тот факт, что существенно изменилась ситуация на всех прилегающих ближневосточном и средневосточном направлениях. В частности, на данной территории было образовано восемь новых государств, а также произошло существенное изменение перспектив развития отношений этих государств с соседними странами дальнего зарубежья. Богатый природно-ресурсный потенциал притягивает к Кавказу и Центральной Азии взоры как великих держав Запада и региональных государств, так и России. В этом плане Кавказ и Центральная Азия стали точками пересечения геополитических интересов многих стран как региональных, так и мировых. Известны политика и меры западных государств и США по укреплению своих позиций в странах этого региона. Для соседних стран – Турции, Ирана, Китая и других также появились возможности и шансы для продвижения своих интересов на южной периферии бывшего Советского Союза. Разного рода исламские организации из мусульманских стран пытаются освоить информационно-идеологическое пространство мусульманских республик и анклавов СНГ. Предпринимаются попытки сформировать новый геополитический узел на основе тюркоязычных стран и народов. При этом важно учесть, что почти каждая из сопредельных с постсоветскими южных стран имеет собственные проблемы, связанные с национальными меньшинствами, многие десятилетия время от времени существенно осложняющие внутриполитическую ситуацию. Это проблема значительных анклавов курдского населения в Турции, Ираке и Иране, азербайджанцев – в Иране, Тибета и других национальных районов – в Китае и т. д. Поэтому с большой долей уверенности можно говорить о совпадении интересов России и этих многонациональных по своему составу стран в вопросе о недопущении территориальных, этнических конфликтов и сепаратистских импульсов. В тесном сотрудничестве и добрососедских отношениях со всеми странами региона заинтересованы также закавказские и центральноазиатские государства. В настоящее время Армения, Грузия и Азербайджан пытаются наладить отношения как между собой, так и с соседями. То же самое происходит в Центрально-Азиатском регионе. Все же образование какого-либо жизнеспособного долговременного союза государств в обоих регионах, тем более противостоящего России, в обозримой перспективе представляется маловероятным.
Центральная Азия и Закавказье сохранили свое стратегическое значение не только как средоточие углеводородных ресурсов, но и как производители наркотиков, наиболее удобные пути наркотрафика, а также уязвимое южное «подбрюшье» России. Как справедливо отметила Д.Б. Малышева, «Кавказ с его минигражданскими войнами, территориальными и национально-этническими конфликтами генерирует наиболее серьезные вызовы безопасности России, СНГ, сопредельных государств третьего мира».[30] Они являются источником разного рода угроз для национальной безопасности России в лице, например, агрессивного национализма, религиозного фундаментализма, контрабанды наркотиков и оружия и т. д. Национальным интересам России отвечает всемерное противодействие организованной транснациональной преступности, наркобизнесу, всем видам политического и иного терроризма. Иначе говоря, интерес России к этому региону определяется необходимостью обеспечения здесь военно-стратегического равновесия и стабильности.
Большая геополитическая игра разворачивается вокруг соседних постсоветских стран на Западе – Украины, Белоруссии и Молдавии. Не случайно столкновение интересов Запада и России в регионе особенно отчетливо проявилось в так называемой «оранжевой революции» на Украине и, трудно назвать какой, революции в Молдавии. При этом следует учесть, что обе эти страны и Белоруссия в экономическом отношении тесными узами связаны с Россией. Через Украину и Белоруссию проходят важные для России коммуникации, связывающие ее с Европой. К тому же эти две страны напрямую зависят от поставок российских энергоносителей и комплектующих для машиностроения. Сотни тысяч украинских, белорусских и молдавских рабочих заняты в различных секторах экономики России. Также сотнями тысяч исчисляются молдавские граждане, работающие в России. Особенно тесными связи между Россией, Украиной и Белоруссией являются в сфере оборонного комплекса. Важнейшая составляющая экономических отношений между Россией и Белоруссией – это строительство трансконтинентального газопровода «Ямал – Европа», который в перспективе может стать дополнением или даже альтернативой украинской ветке.
Что касается Украины, то в советский период многие ее предприятия ВПК являлись по сути сборочными цехами российского ВПК и в значительной степени зависели от поставок материалов, комплектующих, оборудования, технологий из России. Теперь Россия практически создала собственный законченный цикл разработки и производства стратегических вооружений. Со своей стороны Украина ищет возможности выхода на зарубежные рынки вооружений и взаимодействия с западными партнерами в военно-космической сфере. Однако труднопреодолимая проблема здесь состоит в том, что лишь менее третьей части производства вооружения Украины проходит законченный внутриреспубликанский цикл.
СНГ при всех возможных оговорках сыграло немаловажную роль в обеспечении сравнительно цивилизованного, «мягкого» развода бывших советских республик, часть из которых (прежде всего центральноазиатские) после подписания Беловежских соглашений просто вынуждены были согласиться на приобретение политического суверенитета и создание самостоятельных государств. Хотя сами инициаторы создания СНГ пытались представить свое творение как акт единения на новой основе, оно не стало реальным полем интеграционных процессов на постсоветском пространстве. В этом плане, возможно, был прав американский советолог П. Гобл, который назвал СНГ «самым большим в мире фиговым листком», прикрывающим попытки компенсировать факт потери империи.[31]
И действительно, несмотря на то что со дня образования СНГ прошло уже много времени, мало кто может сформулировать однозначный ответ на вопрос: что это такое? Во многом СНГ выглядит как искусственное образование, поспешно сконструированное для придания видимости законности быстро набиравшему темпы распаду СССР и некой упорядоченности отношениям между новыми государствами, неожиданно превратившимися из межреспубликанских в международные. За время существования Содружества главы государств и правительств подписали множество документов, касающихся различных областей сотрудничества. Большинство из них так и осталось невыполненными. Будучи лишенными фактического правового и экономического базиса, а также продуманных механизмов реализации, принимаемые решения, подписываемые договоры и соглашения носят формальный, декларативный характер и демонстрируют свою бесплодность. В этой связи важно учесть, что, особенно на первых порах, к руководителям отдельных республик довольно трудно приходило понимание того, что провозглашение суверенитета влечет за собой и всю полноту ответственности за социальное и экономическое благосостояние своих народов. В большинстве новых независимых государств результатом распада СССР стало разрушение двух важнейших опор – политической стабильности и безопасности.
Речь идет прежде всего о партии-государстве и единой системе военно-политической защиты как от внешних, так и от внутренних угроз. К примеру, войска, доставшиеся целому ряду новых государств, не представляли собой какого-либо подобия группировок со сколько-нибудь четко оформленными органами управления, схемами мобилизационного развертывания, эшелонированными запасами материальных средств и т. д. К тому же у большинства из этих государств отсутствовал опыт военного строительства, организации обороны. Они испытывали острую нехватку военных кадров руководящего звена.
Определяющую роль в этом отношении играет экономический фактор. Зримым показателем этого стало ослабление торгово-экономических связей между большинством бывших советских республик. В этой связи не может не обратить на себя внимание факт отдаления большинства стран ближнего зарубежья от России и друг от друга в сфере торгово-экономических отношений. Так, общий объем товарооборота между странами СНГ в текущих ценах упал со 138 млрд долл. в 1991 г. до 59 млрд в 2000-м, т. е. в 2,3 раза. По имеющимся данным, за 1990–2000 гг. удельный вес взаимного экспорта в совокупном ВВП стран СНГ снизился с 18,3 до 3,9 %, т. е. в 4,7 раза.[32] Правда, в последние годы двусторонние торгово-экономические отношения между Россией и странами СНГ развиваются по восходящей линии. К примеру, в последние годы товарооборот между Россией и Украиной по своим объемам практически равен объемам товарооборота со всеми странами ЕС вместе взятыми. Для части населения, например стран Южного Кавказа, одним из важных источников средств существования являются денежные поступления из России от родственников или сотен тысяч работающих здесь граждан этих стран. Объемы этих сумм порой значительно превышают те объемы, которые составляют кредиты и инвестиции западных стран.
Все эти страны в течение длительного времени были связаны с Россией не только экономическими, но также культурными, интеллектуальными, конфессиональными, политическими и иными отношениями в рамках единого многонационального, многокультурного и многоконфессионального государства. Поэтому весьма значительны разнообразные неформальные, личные, косвенные узы и отношения, связывающие все без исключения народы Центральной Азии и Закавказья с Россией через переплетение взаимных диаспор, образ жизни, систему образования, науку, культуру, русский язык в качестве языка межнационального общения и т. д.
Одним из важнейших факторов, определяющих деятельность России в ближнем зарубежье, является судьба русских эмигрантов. В самой России проживают значительные группы украинского населения, которые сконцентрированы в Западной Сибири, Черноземье, на Дальнем Востоке и Северном Кавказе. Русские и русскоязычные составляют подавляющую часть населения Казахстана. Можно сказать, что русские, в более широком плане – русскоязычные, стали одной из жгучих проблем, создающих напряженность в отношениях России с рядом новых независимых государств. Но при благоприятном развитии событий они способны перекинуть прочный мост между Россией и ее новыми соседями.
В силу этого становится все более очевидным тот факт, что от разрыва связей пострадают все постсоветские страны, причем большинство, если не все, не в меньшей, если не большей, степени, чем Россия. И действительно, историю, прошлое просто так не отменишь. А Россия не только прошлое, но и настоящее этих стран, от которого также никуда не денешься. Никакие декларации независимости так же, как и новые государственные границы не в состоянии просто так отменить факт широкомасштабной экономической взаимозависимости стран и народов в постсоветском пространстве, прервать широкую сеть политических, культурных и просто человеческих отношений, объединяющих людей в рамках бывшего Советского Союза.
Россия представляет собой стратегическую ось для всего постсоветского пространства, за исключением прибалтийских стран, которые стали членами Европейского союза. Территориальные размеры, людская и ресурсная база, экономический, научно-технический, интеллектуальный и военный потенциал России объективно делают ее лидером почти на всем постсоветском пространстве. Реалии таковы, что при всех симпатиях или антипатиях тех или иных политических деятелей, заставляющих их ориентироваться на ту или иную страну или группу стран, Россия как политический фактор будет в большей или меньшей степени постоянно оказывать свое влияние на принятые ими те или иные решения.
К тому же России принадлежит ключевая роль в обеспечении и поддержании стабильности на большей части постсоветского пространства. Она способна как прямо, так и косвенно участвовать в социальных, экономических и политических процессах, происходящих в регионе. За прошедший со времени распада СССР период Россия так или иначе продемонстрировала свою способность быть стабилизирующим фактором как в собственных границах, так и в ближнем зарубежье. При всех трудностях миротворческая деятельность России вплоть до августовских событий 2008 г. повлияла на замораживание конфликтов в Закавказье, установление относительного, хотя и неустойчивого, мира в регионе. Поэтому России необходимо продемонстрировать как всему мировому сообществу, так и народам ближнего зарубежья, что она самодостаточная величина, способная взять на себя решение проблем мирового и регионального масштаба. Страны СНГ на собственном опыте должны ощутить очевидные и возможные – как позитивные, так негативные – последствия разрыва связей с Россией и безоглядной ориентации на другие страны, регионы и союзы.
Реальность же состоит в том, что в современном мире любая региональная интеграция стимулируется определенной идеей или географической, историко-культурной, или политической, или иной общности народов интегрирующихся государств. Главным условием успешной региональной интеграции является совпадение экономических интересов. Именно это условие практически не выполняется, особенно в Центральной Азии и Закавказье. Это в значительной степени объясняется тем, что за исключением углеводородных ресурсов, в отношении которых ряд стран зависит от поставок из Казахстана, Туркмении и Азербайджана, страны Центральной Азии и Закавказья лишь в малой степени дополняют друг друга.
Остается не решенной в полной мере проблема статуса Каспийского моря. При отсутствии же признанных всеми заинтересованными сторонами и закрепленных международно-правовыми нормами разграничения акватории и морского дна границ нефть на дне Каспия с юридической точки зрения оказывается никому не принадлежащей, что, естественно, не может не породить противоречия между соответствующими сторонами.
Нельзя не затронуть вопрос, касающийся проектов прокладки по территории Азербайджана и Грузии так называемого евразийского транспортного коридора, призванного соединить Центральную Азию и Кавказ с Европой.
Не вызывает сомнений тот факт, что новые постсоветские государства, получив возможность самим определять собственные национальные интересы и, соответственно, стратегические векторы национального развития, выбирать себе союзников, торгово-экономических партнеров и так далее, стали в подлинном смысле равноправными акторами мировой политики. Для них представились гораздо более широкие возможности для сотрудничества в области экономики, политики и безопасности, чем это было раньше. Они вправе выбирать между Востоком и Западом, отделиться от России и слиться с Западом или же искать путь более сбалансированных отношений равноправного экономического, политического, культурного и иных форм сотрудничества с обеими частями Европейского континента. Поэтому неудивительно, что они ищут альтернативы в Китае, Южной Азии, исламском мире и Европе.
Разновекторность интересов и ориентаций, экономического, социального и политического развития, различия национально-культурных традиций и так далее привели к формированию весьма сложной системы отношений на постсоветском пространстве, характеризующихся причудливым переплетением тенденций взаимного притяжения и отталкивания. Содружество, по сути дела, распалось на несколько локальных экономических блоков: Центральноазиатское экономическое сообщество (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан), таможенный союз пяти, ныне трансформированный в Евразийское экономическое сообщество (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан), Союзное государство Белоруссии и России, а также экономический и политический блок ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия). Некоторые страны в поисках лучшего варианта входят одновременно в два блока, что говорит об их неудовлетворенности существующим положением.
В стратегических вопросах обеспечения национальной безопасности как самой России, так и ее реальных и потенциальных союзников из числа постсоветских стран необходимо прилагать все усилия для достижения их взаимного согласия по ключевым вопросам военно-политического сотрудничества. Определенным этапом в этом направлении стало заключение Арменией, Казахстаном, Киргизией, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном в Ташкенте 15 мая 1992 г. Договора о коллективной безопасности (ДКБ). Позднее к договору присоединились Азербайджан, Белоруссия и Грузия. В апреле 1994 г. после процесса ратификации договор вступил в силу. Система коллективной безопасности, предусмотренная в договоре, была призвана исполнять стабилизирующую роль не только на постсоветском пространстве, но и в международном масштабе. Предусматривалось также постепенно превратить ее в элемент будущих систем всеобъемлющей безопасности для Европы и Азии. При благоприятном развитии событий договор мог стать основой для решения проблем безопасности государств-участников политическими, мирными средствами, базой, во-первых, для создания принципиально новой системы безопасности и, во-вторых, расширения и укрепления экономических, политических, культурных и иных связей.
Пожалуй, договор в целом стал верным шагом в направлении обеспечения безопасности государств-участников в сложный период становления и укрепления их независимости и государственности. Для правильного понимания мотивов, подтолкнувших страны СНГ заключить этот договор, следует напомнить, что к моменту его разработки и подписания на значительной части постсоветского пространства один за другим бушевали или разгорались этнонациональные конфликты – Карабах, Приднестровье, Абхазия, Южная и Северная Осетия, Таджикистан. Разрушалась единая система охраны внешних границ. Договор, а также Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ по обеспечению стабильного положения на внешних границах 1992 г. были призваны удержать ситуацию на грани, за которой мог бы начаться неконтролируемый распад и хаос. Удалось также сохранить относительную подконтрольность Москве военных подразделений, оказавшихся в зонах конфликтов, придав им статус миротворческих сил и не дав враждующим сторонам использовать их в своих интересах.
Актуальность и значимость договора для того времени подтверждают то, что он оказался востребован в ситуации, сложившейся осенью 1996 г., когда существенно обострилась обстановка в Афганистане и возникла реальная угроза распространения военных действий на территории сопредельных стран Центральной Азии. Тогда в срочном порядке в Алма-Ате была организована встреча руководителей пяти государств-участников с целью консультаций. По итогам встречи было подписано совместное заявление, в котором, в частности, говорилось о готовности дать отпор любым агрессивным замыслам извне и принять соответствующие меры по укреплению безопасности границ государств-участников. Аналогичная ситуация возникла летом 1998 г. в связи с широкомасштабным наступлением талибов на севере Афганистана в непосредственной близости от центральноазиатских государств. И в данном случае на основании договора были подписаны совместное заявление Узбекистана и Российской Федерации по итогам встречи руководителей 4 августа 1998 г., заявление правительства Республики Таджикистан от 11 августа 1998 г., совместное заявление по итогам российско-таджикских переговоров от 20 августа 1998 г., заявление министра иностранных дел Казахстана К. Токаева и др. На встрече президентов Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана 20 августа 2000 г. в Бишкеке было принято совместное заявление. Лидеры четырех республик обратились к Москве с призывом присоединиться к Соглашению о коллективной борьбе против международного терроризма, религиозного экстремизма, подписанному центральноазиатскими государствами в Ташкенте в апреле 2000 г.
Однако, несмотря на наличие большого числа договоров и различных нормативно-правовых документов, остается неналаженным сотрудничество в военно-экономической и военно-технической сферах, в деле разработки, производства и поставок вооружения и военной техники, не используется в должной мере военно-промышленный и научно-технический потенциал государств – сторон договора. Главным препятствием на пути полномасштабной практической реализации основных положений договора стали дефицит у его участников политической воли и существование взаимных предубеждений. В нем не были зафиксированы такие важные аспекты, как разделение риска и ответственности за оборону территорий стран-участниц, не прописаны механизмы взаимодействия их вооруженных сил: оперативное планирование, способы создания многонациональных формирований, процедуры консультаций и т. п. Поэтому неудивительно, что ряд его участников заявили о необходимости пересмотра положений договора и даже возможном выходе из него. Когда в мае 1999 г. истек пятилетний срок действия Договора о коллективной безопасности, Азербайджан и Грузия отказались от пролонгации. Узбекистан вышел из него еще раньше. В последнее время наблюдается тенденция к активизации деятельности ДКБ, о чем свидетельствует, в частности, возвращение в 2006 г. в его состав Узбекистана.
Другой блок в рамках СНГ, как указывалось выше, представляет ГУАМ. В качестве основных целей этой организации предусматриваются формирование системы политических консультаций и координации усилий в решении общих проблем безопасности; политическое взаимодействие в международных организациях – ООН, ОБСЕ, НАТО, включая программу «Партнерство во имя мира»; развитие евроазиатского транспортного коридора, а также сотрудничество в сфере добычи и транспортировки нефти в европейские страны; развитие многостороннего сотрудничества в области безопасности, урегулирование конфликтов и борьба с сепаратом; военное и военно-технические сотрудничество, включая создание многонационального миротворческого батальона; содействие в урегулировании межэтнических конфликтов.[33]
Назвать это образование региональным вряд ли правомерно, поскольку в него наряду с двумя закавказскими и двумя восточноевропейскими странами входил далекий Узбекистан. Нельзя не отметить, что всех их объединяло стремление ослабить главенствующее положение России на постсоветском пространстве. На это наблюдатели обратили внимание с самого начала. Да это не скрывали и сами инициаторы и участники организации. Об этом ясно сказал грузинский аналитик Р. Сакварелидзе, по мнению которого «с момента своего возникновения эта организация выступала как альтернатива СНГ, где доминирует Россия». При этом он признавал, что «американцы рассматривают ГУУАМ как средство отдаления от России всех остальных государств – членов СНГ». Со своей стороны глава американской делегации, главный советник по Евразии Госдепа США С. Манн, прибывший на саммит ГУУАМ в Кишинев, заявил о готовности США «содействовать укреплению демократии и безопасности в странах ГУУАМ».[34] Однако эта организация, созданная не столько на реальных экономических и региональных интересах, а исходя большей частью из идеологических и геополитических соображений, пока что не смогла продемонстрировать способность концентрировать экономические, финансовые, человеческие, идеологические ресурсы для реализации поставленных целей. Ее слабость стала очевидной на саммите руководителей Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии, состоявшемся в Кишиневе в апреле 2005 г. О слабости ГУУАМ свидетельствовало, в частности, то, что президент Узбекистана И. Каримов, по сути дела, игнорировал его без объяснения причин, а президент Азербайджана также держался особняком. Если президент Грузии М. Саакашвили объявил о создании черноморско-балтийской дуги стабильности и демократии, то руководитель Азербайджана И. Алиев сетовал на конфликты, которые «сдерживают процессы евроинтеграции».[35] Позже Каримов заявил о выходе Узбекистана из этой организации, в результате чего ГУУАМ превратился в ГУАМ. При таком положении вещей приходится согласиться с доводами тех исследователей и наблюдателей, которые считают, что у этой организации реальной основы для объединения, кроме антироссийских настроений, нет.
Еще в 1994 г. на встрече в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова президент Казахстана Н. Назарбаев выдвинул предложение о создании участниками СНГ более сплоченного межгосударственного интеграционного объединения – Евразийского союза. В рамках указанного объединения предлагалось сформировать единое оборонное, экономическое и культурное пространство, образовать наряду с межгосударственными и наднациональные органы – парламент, исполнительный комитет и т. д. Однако поспешно был создан так называемый таможенный союз России, Белоруссии и Украины. За полгода предполагалось отменить тарифные и количественные ограничения во взаимной торговле, упразднить таможенный контроль на границах, установить единые таможенные пошлины в торговле с третьими странами, унифицировать внешнеторговое, таможенное, валютно-финансовое, налоговое и другое законодательство.
При этом игнорировался очевидный факт несовпадения экономических режимов трех стран. Если доля негосударственного сектора в производстве России к тому времени составляла 65 %, то в Казахстане только 25, а в Белоруссии лишь 15 %. К тому же несколько позже присоединились отсталая Киргизия, экономика которой еще больше отличалась от экономик трех названных стран, и разоренный Гражданской войной Таджикистан. Поэтому вполне естественно, что такой искусственно созданный таможенный союз потерпел неудачу. В результате в 1999 г. было решено преобразовать его в Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), в которое вошли Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Некоторые члены СНГ вовсе не приемлют Евроазиатский экономический союз. Так, Л. Кучма, будучи президентом Украины, назвал решение о создании ЕврАзЭС миной замедленного действия под СНГ.
Серьезными достижениями ЕврАзЭС, действительно, похвастаться не может, поскольку пока что ему не удалось устранить многие недостатки подобных проектов. Все же опыт ЕврАзЭС показывает, что в интеграционных усилиях упор перенесен на экономику. Другим интеграционным начинанием стал выдвинутый в 2003 г. проект создания Единого экономического пространства в составе Белоруссии, Казахстана, России и Украины. Однако он также дал мало реальных результатов.
Хотя центральноазиатские государства и не перестают говорить о необходимости сотрудничества и даже интеграции, между ними не стихают полемики, включая направления торговых войн, пограничные споры, разногласия по вопросам, касающимся использования водных и энергетических ресурсов и т. д. Все пять стран Центральной Азии экспортируют главным образом конкурирующие друг с другом сырьевые товары: Киргизия – золото и электричество; Таджикистан – электричество, хлопок и алюминий; Туркменистан – хлопок и природный газ; Узбекистан – хлопок и золото; Казахстан – нефть и металлическую продукцию. Экономики этих государств не столько дополняют друг друга, сколько конкурируют друг с другом. Более того, промышленность этих стран специализируется на производстве импортозамещающей продукции. Неплодородная земля, слабая железнодорожная и воздушная связь в пределах Центрально-Азиатского региона вкупе с большим количеством разбросанных по огромной территории населенных пунктов создают серьезные препятствия для внутрирегиональной торговли. Кроме того, ее осуществлению мешает протекционистская политика этих государств. Проникновения боевиков исламского движения Узбекистана в Киргизию в 1999 и 2000 гг. и в Узбекистан в 2000 г. вызвали серию взаимных обвинений между центральноазиатскими государствами и воочию продемонстрировали их неспособность разделить региональную ответственность в период кризиса.
«Желая себе спокойствия, молись за покой окружающих», – писал средневековый буддийский монах Нитирэн. Эта максима особенно актуальна для России. Ей легче и выгоднее иметь дело с политически стабильными и экономически процветающими регионами. Россия заинтересована в создании пояса дружественных и миролюбивых государств по всему периметру своих границ, недопущении превращения ближнего зарубежья в зону территориальных, межнациональных, конфессиональных и иных конфликтов. В данном контексте вполне возможно, что чеченский и осетино-ингушский конфликты на территории Российской Федерации во многом были подготовлены карабахским, осетино-грузинским и грузино-абхазским конфликтами.
Угроза национальной безопасности России исходит не только от международного терроризма, но и от слабости новых государств, которая коренится в неэффективности местных военно-полицейских структур, узости социальной базы постсоветских политических режимов, быстром росте бедности и нищеты при одновременном обогащении правящих кланов. Поэтому очевидно, что интересы национальной безопасности России предполагают наличие пояса стабильных и экономически благополучных стран по всему периметру ее границ.
Особое значение для обеспечения национальной безопасности России имеет надежность системы охраны границ по всему периметру стран СНГ, поскольку Россию с большинством этих стран разделяют прозрачные границы. Выведение же российских пограничных войск на новые рубежи, которые проходят по Кавказскому хребту и Северному Казахстану, сопряжено со многими труднейшими проблемами материально-технического и военно-стратегического порядка, которые самым непосредственным образом затрагивают интересы безопасности как России, так и стран СНГ. Очевидно, что в настоящее время Россия ощущает недостаток ресурсов для строительства сети фортификационных сооружений вдоль новой границы с новыми центральноазиатскими и закавказскими странами.
В то же время, будучи слабыми в военно-политическом отношении, некоторые из этих стран пока не способны обеспечить надлежащий порядок на своих границах без помощи России. Новые постсоветские государства на южных рубежах России встречаются с целым комплексом новых геополитических вызовов, порой представляющих серьезную угрозу их национальной безопасности. Если не нейтрализовать эти вызовы, они могут так или иначе сказаться на национальной безопасности и самой России.
Своего рода лакмусовой бумагой, характеризующей взаимоотношения между Россией и рядом постсоветских стран, являются их позиции по вопросу о сохранении военного присутствия России. Нельзя не отметить тот факт, что постепенно российские военные покинули большинство постсоветских государств. И нам не следует особо драматизировать этот факт, так как для России он имеет скорее психологический характер, нежели политический. Например, вывод российских войск из Грузии с точки зрения реального баланса сил в регионе мало что меняет, поскольку в рамках фланговых ограничений численности войск в кавказском направлении Россия вправе держать в регионе лишь строго фиксированное число войск и вооружений. В современных условиях присутствие незначительных по своей мощи вооруженных сил в той или иной стране, например в Грузии, с точки зрения действительных соображений обеспечения национальной безопасности страны носит чисто символический характер, но тем самым создает, порой искусственно, проблемы в отношениях между Россией и соответствующими странами, давая последним дополнительные аргументы для предъявления каких-либо претензий к России.
С учетом векторов развития и интересов новых независимых государств система взаимоотношений России с ними приобретает многоярусный характер. В целом отношения России с каждым из новых центральноазиатских и закавказских государств в силу разности лежащих в их основе причин складываются по-разному. С 1992 г. сравнительно успешно развиваются двусторонние отношения между постсоветскими странами, что проявляется, в частности, в подписании разного рода двусторонних договоров о сотрудничестве по тем или иным конкретным вопросам. Наиболее высокие результаты в этом направлении достигнуты в отношениях между Россией и Белоруссией. 2 апреля 1996 г. был подписан Договор об образовании Сообщества Белоруссии и России. Взят курс на создание единого экономического пространства, или общего рынка товаров, капиталов и рабочей силы. На первом этапе приоритет отдается формированию таможенного союза, имея в виду в дальнейшем унификацию хозяйственной деятельности, создание единой транспортной и энергетической системы, а затем переход к единой валюте. Между двумя странами заключены также Договор о военном сотрудничестве, Соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере, Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Арменией, Декларация Российской Федерации и Республики Казахстан о вечной дружбе и союзничестве и др. В данной связи можно предположить, что сотрудничество России с отдельными странами СНГ может развиваться в форме платежного и таможенного союза, создания межгосударственных отраслевых объединений, международных финансово-промышленных корпораций и т. д.
Немаловажное значение имело подписание 26 апреля 1996 г. в Шанхае главами пяти государств – России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Китая Соглашения об укреплении мер доверия в военной области в районе границы между этими странами. 3 июля 1998 г. в Алма-Ате прошла встреча представителей пяти государств, посвященная взаимному сокращению вооруженных сил в районе границы. Итоговый документ закрепил договоренность «о созыве по мере необходимости встреч на уровне экспертов, министров иностранных дел, глав правительств и глав государств для рассмотрения вопросов обеспечения безопасности и расширения сотрудничества в Центральной Азии и на Азиатском континенте в целом».
24 – 25 августа 1999 г. в Бишкеке состоялся саммит глав пяти государств, в ходе которого были подписаны Бишкекская декларация, а также Соглашение меду Казахстаном, Китаем и Киргизией о точке стыка государственных границ трех государств. 5 июля 2000 г. в Душанбе был проведен очередной, пятый по счету, саммит глав государств – участников «Шанхайской пятерки». В качестве итогового документа встречи была подписана Душанбинская декларация, в которой выражалось удовлетворение уровнем развития отношений между государствами-участниками, подчеркивалось стремление сторон к превращению «Шанхайской пятерки» в региональную структуру многостороннего сотрудничества в различных сферах. Вскоре после присоединения к ней Узбекистана она превратилась в «Шанхайскую шестерку», или Шанхайскую организацию сотрудничества.
Все эти тенденции с точки зрения поисков путей и форм достижения взаимовыгодного сотрудничества стран и народов, несомненно, имеют немалое позитивное значение. В то же время они могут стать фактором, подтачивающим и так эфемерные структуры СНГ.
Дополнительные сложности в деятельность СНГ внесли так называемые цветные, или бархатные революции на постсоветском пространстве, в результате которых в ряде республик к власти пришли постсоветские элиты новой генерации, выросшие и воспитанные на иных, чем советские элиты, ценностях, принципах и установках. После «революции роз» в Грузии и «оранжевой революции» на Украине широко распространялось мнение, что чуть ли не для всего постсоветского пространства, в том числе и для России, «цветные революции» стали знамением времени. Однако последствия революций в Грузии и Украине, события в Киргизии и Узбекистане, а также результаты президентских выборов в Казахстане показали беспочвенность подобных рассуждений. В первых двух странах новые власти продемонстрировали свою неспособность выполнить обещания, данные народу в ходе революций. Социальные и экономические проблемы, стоящие перед ними, не только не нашли позитивного решения, но и еще больше усугубились. Ухудшились отношения с естественным партнером и союзником – Россией.
Особенно отчетливо это обнаружилось в так называемом газовом кризисе между Украиной и Россией. Что не менее важно, Грузия и Украина весьма далеки от заявленной претензии служить для своих соседей, в том числе для России, в качестве витрины демократии и благополучия. Поэтому неудивительно, что «цветные революции» оказались товаром, не совсем пригодным для экспорта в другие страны. Волнения в Киргизии, как считали сторонники такого экспорта, сметут авторитарные режимы в других постсоветских странах. Но в 2005 г. 20-тысячная разношерстная толпа, собравшаяся на площади Ала-Тоо в Бишкеке, требовала сначала смены власти под лозунгом «Акаев – дрянь», затем бросилась громить правительственные учреждения, включая президентские апартаменты, и грабить супермаркеты, рестораны, оптовый продовольственный рынок, салоны красоты, банкоматы и т. д. Иначе говоря, «революция» обернулась обыкновенным бунтом части населения, потерявшей все надежды на выход из бедственного положения. Установкам сторонников экспорта революции и демократии был положен конец И. Каримовым в Узбекистане, подавившим с помощью вооруженных сил мятеж в зародыше, и Н. Назарбаевым в Казахстане, добившемся на президентских выборах в конце 2005 г. внушительной победы. Велико также значение постепенного ужесточения правил перехода национально-государственных границ в рамках СНГ. Это началось с введения визового режима между Россией и Туркменистаном, а затем между Россией и Грузией. В сентябре, после теракта в Беслане, Москва объявила, что с 1 января 2005 г. намерена ввести режим пропуска на свою территорию граждан стран СНГ только с загранпаспортами или приравненными к ним удостоверениями вроде дипломатического паспорта или паспорта моряка.
Но оформить все формальности к тому периоду не удалось, и окончательное решение было принято 24 марта 2005 г., когда в Астане главы государств Евразийского экономического сообщества подписали договор о значительном сокращении перечня документов, дающих право на пересечение границ между государствами ЕврАзЭС. Согласно этому документу, был значительно осложнен въезд в Россию из Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Теперь для въезда из названных стран на территорию Россию требуется либо загранпаспорт, либо дипломатический или служебный паспорт, либо паспорт моряка. Внутренние паспорта стран или, к примеру, свидетельства о рождении несовершеннолетних граждан уже не дают право легально пересекать государственные границы. Единственным исключением из этого правила остается российско-белорусская граница. Ведутся переговоры о введении аналогичного режима с остальными странами – членами СНГ. Речь идет об Армении, Азербайджане Украине, Узбекистане и Молдавии. Это, естественно, даст Москве дополнительные аргументы на переговорах с Евросоюзом о введении в будущем безвизового режима со странами региона.
Происходит постепенное размывание понятий «дальнее» и «ближнее» зарубежье для России. Можно предположить, что подобно тому, как постепенно из международно-политического лексикона исчезает понятие «третий мир», теряет смысл и понятие «ближнее зарубежье». В феврале 2001 г., выступая на военно-политическом форуме в Мюнхене, бывший секретарь Совета безопасности Российской Федерации С. Иванов заявил, что превращение СНГ в полноценное интеграционное объединение в ближайшей перспективе невозможно. Эту установку уточнил В.В. Путин, который во время своего визита в Ереван в конце марта 2005 г. признал: «СНГ создавалось для цивилизованного развода. Все остальное шелуха». Но при этом он счел необходимым сохранить СНГ как площадку для обсуждения вопросов, которые до сих пор «остались после распада единого государства и которые необходимо решать сообща».[36]
Новые независимые государства прежде всего озабочены, и это вполне естественно, своими перспективами, престижем, местом и ролью в мировом сообществе. Для них первостепенное значение имеет обеспечение своих национально-государственных интересов и безопасности. С одной стороны, малые страны особенно ревниво следят за тем, чтобы какое-либо из более крупных государств не задевало их суверенитет и территориальную целостность. С другой стороны, они ищут покровительства со стороны той или иной более сильной, как правило, великой, державы. Некоторые государства, на том или ином этапе истории имеющие опыт вхождения в состав многонациональных империй, всячески стремятся дистанцироваться от своих более могущественных соседей, при этом ставя своей целью найти нового возможного покровителя в лице более отдаленной державы.
Отношения России и большинства постсоветских стран определяются в первую очередь стремлением последних к демонстрации и закреплению своего статуса независимого (в первую очередь от России) государства. Поэтому, используя потенциал России для решения своих внутренних конфликтов и восстановления территориальной целостности, они в то же время всеми силами стараются привлечь к этому делу другие государства, особенно западные, а также международные организации, политические институты и общественность. Преследуя одновременно цель в определенной степени дистанцироваться от России, они стремятся интернационализировать процесс урегулирования конфликтов с соответствующим уменьшением посреднической роли России, а также заручиться поддержкой Запада для возрождения экономики. К тому же столкновение интересов сопредельных государств – России, Ирана, Турции и Китая, а также России и Запада предоставляет постсоветским странам довольно широкое поле для внешнеполитического маневра.
Все это естественно, и было бы наивно полагать, что каждое независимое государство не будет использовать для решения своих насущных проблем все имеющиеся в его распоряжении средства. Хотя постановка вопроса в форме альтернативы либо Россия, либо соседнее дальнее зарубежье и Запад по большому счету не отвечает интересам почти всех постсоветских государств Как представляется, оптимальное для них решение – это установление и укрепление всесторонних экономических связей в обоих направлениях – как с Западом, так и с Россией. Эти два направления должны не исключать, а дополнять друг друга. Дело в том, что при отсутствии взаимопонимания одной из этих сторон невозможно решить ни одну из важнейших для выживания и безопасности этих стран проблем.
Но здесь не может не настораживать тот факт, что отдельные влиятельные силы, в том числе и официальные власти ряда государств, не прочь обвинить во всех своих существующих и вновь возникающих проблемах и трудностях некие внешние силы. Для них особенно полезным для оправдания собственных провалов и укрепления своей власти оказываются внешние враги. Причем главным, если не единственным, и наиболее коварным среди таковых в глазах официального руководства и определенной части общественности этих стран, естественно, является Россия. Во многих случаях ей, по сути дела, отводится роль своего рода козла отпущения, на которого можно сваливать всевозможные грехи. Например, в период карабахского кризиса азербайджанская сторона постоянно обвиняла Россию в пособничестве армянам в тех ли иных боевых операциях и даже участия в боях на стороне армян. В Грузии постоянно ссылались на всякого рода козни российских спецслужб, пытающихся, по мнению руководства этой страны, привести в движение механизм дестабилизации на ее территории. Порой дело доходило до такого абсурда, что некоторые депутаты грузинского парламента даже предлагали зачислить в ранг врагов нации и пособников иностранных спецслужб всех, кто симпатизирует России.[37]
В добавление ко всему вышесказанному отметим, что геополитическая стратегия России как великой военно-политической державы должна основываться на постулате, согласно которому правители приходят и уходят, а народы, тем более соседние, будь то грузинский, азербайджанский, казахский или какой-либо иной, вечны и их не следует делить на хороших – плохих, дружественных – враждебных. Тем более такие градации неприемлемы к соседним братским народам, с которыми мы в течение многих поколений, как говорится, съели много пудов соли.
29
Шпенглер О. Закат Европы. Очерки мифологии мировой истории: Гештальт и действительность. М., 1993. С. 170–171.
30
Малышева Д.Б. Конфликты в развивающемся мире, России и Содружестве Независимых Государств. М., 1997. С. 53.
31
Goble P. Forget the Soviet Union // Foreign policy. 1992. № 86. Р. 56.
32
Рассчитано по: Внешнеэкономическая деятельность государств Содружества: стат. сб. М., 1999; Содружество Независимых Государств в 2000 г.: стат. справ. М., 2001. С. 32.
33
Парахонский Б. Формирование модели регионального сотрудничества в системе ГУАМ // Централ Азия (Швеция). 2000. № 2. С. 104–105.
34
Время новостей. 2005. 22 апр.
35
См.: Вести. Ru. 2005. 22 апр.
36
Время новостей. 2005. 28 марта.
37
Содружество-НГ. 1998. № 7