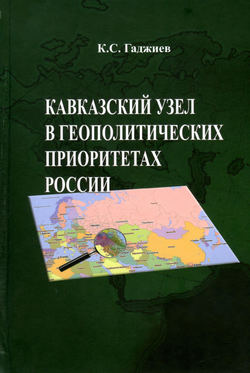Читать книгу Кавказский узел в геополитических приоритетах России - Камалудин Серажудинович Гаджиев - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 2
Россия на постсоветском пространстве
2.2. Этнонациональная и геополитическая идентичности Кавказа
ОглавлениеС точки зрения обеспечения национальных интересов и национальной безопасности Российской Федерации наиболее проблемным является Кавказ, где в сложнейший узел переплетены множество трудноразрешимых социально-экономических, национально-территориальных, конфессиональных, геополитических и иных проблем. Кавказ по сути своей очень специфический регион как с точки зрения территориально-географического положения, так и социально-экономического характера. Одной из существенных граней этой специфики является тот факт, что в отечественной политической науке еще не дан ответ на вопрос: можно ли говорить о Кавказе как о едином в цивилизационном, социокультурном и политико-культурном отношении сообществе народов, единой для представителей всех народов региона кавказской идентичности? Если да, то в чем состоит сущность этой идентичности?
Как известно, любое человеческое сообщество, имеющее свою более или менее сформировавшуюся идентичность, основывается на какой-либо общей для всех его членов единой интегрирующей идее. Можно ли выделить какие-либо ключевые социокультурные, этнонациональные, конфессиональные, цивилизационные и иные составляющие Кавказа и дать им четкую формулировку? Говорят, например, о некой «общекавказской культуре», «кавказском менталитете», а в годы перестройки и постсоветский период в России в лексикон вошел используемый с негативным оттенком термин «лицо кавказской национальности».
Здесь по аналогии с понятием «европейскость» мы вправе поставить вопрос о «кавказскости» и, естественно, вопрос о том, в чем именно состоит эта «кавказскость» и можно ли ее рассматривать как базисную составляющую единой кавказской культуры.
Несомненно, существует комплекс критериев и признаков, на основании которых мы причисляем коренные народы региона к определенной общности, отличающейся от сообществ других народов и регионов. Тем более что представители каждого из кавказских народов осознают себя именно кавказцами, а не, например, славянами, иранцами, арабами и т. д. Но эти критерии и признаки весьма трудно поддается верификации. Зачастую кавказскость отождествляется с такими действительно присущими многим кавказским народам чертами, как гостеприимство, куначество, мужественность и так далее, хотя в последние десятилетия они в какой-то мере утрачиваются, особенно у городских жителей. Как отмечала профессор А.Ю. Шадже, «кавказскость – суперэтническо-специфический феномен, составляющий то “особенное”, что определяет “лицо кавказца”». Она включила кавказский образ жизни, обычаи и общие духовные ценности, идеи диалога, толерантности, гуманизма, добра и так далее, которые в совокупности формировали кавказский менталитет и духовное бытие кавказца. По ее мнению, кавказскость отождествляется с такими ценностными категориями, как истина и честь, справедливость и мудрость, формирует особое отношение человека к достоинству, правде и свободе.[38] По словам Г. Нодия, «кавказскость» интуитивно отождествляется с древними традициями гостеприимства, высокоритуалистичным поведением, культом воинственной мужественности.[39]
Некоторые авторы убеждены в существовании единой кавказской цивилизации. Так, согласно З. Жвания, «кавказское единство – не только политическая концепция. Фактически Кавказ – это разнообразный и в то же время гомогенный мир, феномен, формировавшийся на протяжении веков и тысячелетий, в котором существуют четко определенные аутентичные социальные и культурные институты. Это дает основание говорить о феномене единой кавказской цивилизации. Ее создатели – кавказские народы, несмотря на религиозные и этнические различия, объединены общими ценностями и ментальностью».[40] По мнению В. Асатиани, «мы, кавказские народы, являемся одной целостностью – исторически и геополитически, мы, в сущности, родственные народы по психофизическому складу, “кавказскому характеру”, внешности, темпераменту, нравственным идеалам».[41] Р.Г. Абдулатипов утверждал, что кавказская цивилизация основывается на «целостности и культурной близости армян и азербайджанцев, грузин и абхазцев, осетин и ингушей», ее главной характерной чертой является «интенсивнейшее взаимодействие многих уникальных культур и почти всех мировых религий».[42] По его мнению, уникальность кавказской цивилизации состоит в том, что «в этом историко-культурном и географическом пространстве происходит системное воспроизводство традиций и обычаев, которые на высокий уровень шкалы ценностей ставят честь, достоинство и мужество».[43]
Также была высказана мысль о существовании северокавказской цивилизации, некоторые исследователи говорят и о кавказской горской цивилизации. В.В. Черноус определяет кавказскую горскую цивилизацию как «полиэтничность, религиозный синкретизм (синтез местного язычества с элементами христианства и различными течениями ислама), сочетание высокогорья, предгорий и равнин, которое определяет взаимосвязь террасного земледелия, альпийского скотоводства и наездничества, закрепленных в своеобразных этических горских кодексах, психологических чертах, преобладание негосударственных форм самоорганизации».[44] Более того, отдельные ученые, используя этнографический подход, стали заявлять о наличии цивилизаций у отдельных северокавказских народов, например у адыгов.[45]
Однако анализ как методологии, так и критериев, взятых за основу, нельзя считать обоснованным и соответствующим требованиям научного анализа. Основанием для этих и подобных им заявлений служит довольно вольная трактовка самого понятия «цивилизация». Здесь возникает сакраментальный вопрос: можно ли такие составляющие, как кавказский этикет, гостеприимство, куначество или иные атрибуты, рассматривать в качестве критериев определения понятия «цивилизация» вообще и «кавказская цивилизация» в частности?
Приходится согласиться с теми авторами, которые убеждены в «умозрительности и неконкретности» этих концепций.[46] Хотя такие разработки интересны как попытки построения политических мифов, они носят в основном паранаучный характер и представляют незначительную ценность для правильного понимания реального положения вещей в данной сфере.
В данном разделе предпринята попытка внести свою лепту в раскрытие этой темы. Базовые характеристики Кавказа в значительной степени определяются фактором месторасположения, физико-географическими, территориально-пространственными, климатическими и иными особенностями, которые на протяжении всей истории оказывали и продолжают оказывать глубокое влияние на его этнонациональный состав, исторические судьбы народов и стран, конфигурацию политической карты и т. д. Размеры и масштабы территории конкретного государства, ландшафт, климат, условия для сельскохозяйственного производства, наличие природных ресурсов, доступ к морям и океанам и так далее во многом определяют целый ряд параметров, которые указывают на потенциальные и реальные возможности как отдельно взятого государства, так и региона, определяющие их место в мировом сообществе стран и народов.
Крайне рассеченная топография, создающая значительные барьеры на пути интеграции различных народностей и племен, во многом помогает объяснить резко бросающиеся в глаза этническую разнородность Кавказа, заметную фрагментацию и локализацию этнической идентификации. Этому способствует и тот факт, что проживающие здесь народности большую часть времени, отведенного им историей, посвятили войнам и междуусобным конфликтам. И основой зарождения самой нации была именно война со всеми вытекающими из этого последствиями.
Здесь зачастую общинные, племенные, местные, региональные идентичности (например, в Грузии – мегрельская, кахетинская, имеретинская, аджарская и др.) приобретают не меньшую значимость, чем просто политико-гражданская идентичность. Это, в свою очередь, создает условия для сохранения весьма широкого спектра разнообразных культур и языков, что становится естественной основой консервации традиционного образа жизни и оказывает значительное влияние на формирование особого менталитета народов Кавказа. Во многом этим объясняется то, что большинство из них очень ревностно относятся к социокультурным условиям своей жизнедеятельности. Черты, воспринимаемые в Европе как проявление средневековья, для многих кавказских этносов явились объединяющим фактором. Например, для европейского типа сознания традиция кровной мести представляется как некий атавизм, на Кавказе же у многих народов она и поныне сохраняется как один из атрибутов общественной жизни. Правовые традиции здесь зачастую воплощены в нормах адата.
В результате Кавказ в широком смысле, включая и степное Предкавказье, всегда был и остается очень сложным регионом как по разнообразию естественно-географических условий, так и по многонациональному и поликонфессиональному составу населения.
С незапамятных времен Кавказ рассматривался как один из важнейших геостратегических регионов. Он находится почти в самом центре евразийского континента, занимая весьма выгодное экономико-географическое положение на одном из оживленных перекрестков мировых коммуникаций. В частности, Северный Кавказ входит в состав Российской Федерации, а Кавказ в целом, включая Закавказье, связан с Украиной, Болгарией и Румынией (через Черное море), Центральной Азией (через Каспий), Ираном, Турцией и далее с арабским миром. Кавказ имеет выход к трем морям – Каспийскому, Черному и Азовскому. Регион располагает развитой транспортно-коммуникационной сетью, являющейся составной частью транспортно-коммуникационной системы России и обеспечивающей ее прямую морскую и сухопутную связь со странами Ближнего Востока, Центральной и Юго-Западной Азии.
Здесь соприкасаются многие народы, культуры, конфессии, проживает множество народов и этнонациональных групп, имеющих друг к другу немало претензий территориального и иного характера. В регионе сошлись ведущие мировые религии, прежде всего христианство и ислам, Запад и Восток, Европа и Азия, Север и Юг. Кавказ отделяет Восточную Европу от азиатских степей и является ареной борьбы между империями и межнациональных конфликтов. В течение многих столетий регион находился либо в эпицентре серьезных геополитических катаклизмов, либо стоял на пути масштабных имперских войн. Кавказ всегда пытались так или иначе вписать в создаваемые державами новые системы миропорядка. Борьба за стратегически важный регион сталкивала здесь интересы Византии, Персии, Османской империи, России и Ирана. Причем сами кавказские народы, не в последнюю очередь закавказские страны, были обречены на поиск геополитических партнеров как гарантов своей безопасности.
Поэтому вполне естественно, что на историю, этническую и демографическую композицию и культурное наследие народов Кавказского региона наложили свой прямой или косвенный отпечаток несколько конфликтующих между собой мировых империй, региональных государств, а также переселенческие потоки. Как справедливо отмечал Е. Рашковский, «история каждого из народов Кавказа есть история жизни в экстремальных ситуациях рубежа, в ситуациях природных, культурно-исторических, лингвистических и государственных пограничий. В рубежности, разломности – экоисторическая константа жизни кавказских народов. Жизни в экстремальных условиях природы, истории и культуры. Эта константа наложила несомненный отпечаток на характерный облик любого из кавказских народов».[47]
Выбор ими той или иной ориентации объективно облегчался тем, что Кавказ на протяжении многих веков, как отмечалось выше, находился в центре доминирующих геополитических держав. В свою очередь, этнический и религиозный плюрализм региона создавал для соседних держав благоприятные условия для подчинения тех или иных территорий Кавказа по принципу «разделяй и властвуй». Каждая держава могла найти здесь приемлемого сателлита по этническому или религиозному признаку.
В то же время расположенный на стыке Европы и Азии Кавказ представляет собой удобный плацдарм для продвижения вглубь Среднего и Ближнего Востока, а также в бассейны Каспийского, Черного и Средиземного морей. Он служил и продолжает служить своего рода связующим звеном между этими регионами. За всю свою историю Кавказ пережил бесконечное множество войн и конфликтов между различными воинственными кланами, ордами, племенами, религиозными конфессиями, государствами и империями.
Весь комплекс названных факторов самым непосредственным образом отразился на исторических судьбах народов и стран Кавказа. В развернувшихся ныне по всему Кавказу, да и не только, дискуссиях, спорах и конфликтах многие их участники для обоснования неких исторических прав на те или иные территории зачастую используют неприемлемые с научной точки зрения приемы и аргументы, произвольно трактуя реальные исторические факты, которые зачастую не могут быть подтверждены документально. Например, азербайджанцы претендуют на Дербент и Южный Дагестан, утверждая, что они составляли исконную территорию Азербайджана, а лезгины Южного Дагестана, в свою очередь, требуют воссоединения территорий нынешнего Северного Азербайджана, где с незапамятных времен компактно проживают народы лезгиноязычной группы. Карабах пытается обосновывать свое стремление к независимости историческими фактами, в то же время и Азербайджан, пытаясь вернуть в свое лоно Карабах, ссылается на историю. Тбилиси также, говоря о восстановлении исторической справедливости, обосновывает свои претензии на территории Абхазии, ссылаясь на якобы неабхазский характер Абхазии до XVII в. При такой постановке вопроса получается так, что грузины как титульный народ – хозяева, абхазы – просто гости на территории, на которой они проживают в настоящее время.
Со своей стороны, абхазы, никоим образом не желающие возвратиться под юрисдикцию Грузии, могут использовать тот довод, что территория нынешней Абхазии была некогда попеременно частью Древнего Рима, Византии и Персии. В разное время ею с большим или меньшим успехом пытались завладеть арабы, генуэзские колонисты. Они обосновали свои претензии на суверенитет ссылками на Абхазское царство, существовавшее в IX–X вв. (В этой связи уместно напомнить, что с конца XV в. до начала XIX в. Абхазия находилась под властью Турции. В то же время правители Абхазии пребывали в той или иной форме и степени вассальной зависимости от грузинских царств и княжеств или же в союзе с ними.) Могут привести и тот довод, что зависимость Абхазии от грузинских царств и княжеств была эпизодической и зачастую номинальной. Напомним также, что в Георгиевском трактате 1783 г. речь шла о «признании верховной власти всероссийских императоров над царями карталинскими и кахетинскими». Что касается Абхазии, то она вошла в состав Российской империи в 1810 г.
Подобная историческая аргументация в той или иной форме используется во всех других спорах и конфликтах, определяющих облик современного Кавказа. Результатом такого подхода стало разделение народов региона на автохтонных и пришлых, хозяев и гостей, титульных и нетитульных и т. д.
Экскурсы в дебри истории для поисков обоснований позиций по данному вопросу представляют собой банальную попытку доказать свою правоту, нежели законное свидетельство древности одних народов и отказа в этом праве другим народам, тем более построения на этом зыбком фундаменте идеологии государства так называемой титульной нации. Суть вопроса состоит в том, что право любого народа на территорию проживания определяется не столько историческими прецедентами, сколько самим фактом проживания на этой территории. Тем более что вопрос о территориальной принадлежности того или иного района Кавказа настолько запутан, что порой определить, какая из вовлеченных в спор сторон обладает на него историческим правом, что здесь истина, а что вымысел, представляется весьма затруднительным делом.
Историю любого кавказского народа невозможно рассматривать изолированно, вне рамок общекавказского исторического процесса и того социокультурного фона, который представляет собой результат сотворчества всех народов Кавказа. Им никуда не уйти как от своей истории и земли, так и друг от друга. Расположенный на стыке Европы и Азии Кавказ всегда являлся одним из важнейших регионов разносторонних контактов между странами Ближнего и Среднего Востока, а также с Восточной Европой. С древнейших времен этот регион привлекал к себе внимание не только разного рода завоевателей, но и путешественников и ученых. «Много разных племен обитает на Кавказе», – писал еще «отец истории» Геродот в V в. до н. э. Вслед за ним через 500 лет выдающийся античный географ Страбон, давая довольно подробное описание Кавказа, особенно подчеркивал полиэтнический характер его населения. А арабский мыслитель аль-Масуди отмечал: «Гора Кабк (Кавказ) – великая гора, занимающая громадную площадь. Она вмешает много царств и народов».[48]
История региона с незапамятных времен характеризовалась переселениями и миграциями народов, изменениями, порой существенными, ареалов заселения тех или иных народов, беспрерывными перекройками государственных границ и т. д. Миграции стали фактором, в значительной степени определяющим этнографический облик Кавказа в различные исторические периоды. И действительно, Кавказ относится к регионам, через которые с глубокой древности проходили многие племена – от киммерийцев и скифов до разнообразных тюркских племен. Часть их оставалась на Кавказе и, смешиваясь с автохтонным населением, создавала новые этнические общности. Здесь на протяжении всей истории происходили постоянные перемещения и смешения различных племен, народов, этносов как автохтонных, так и пришлых. С древнейших времен Кавказ представлял собой арену беспрерывных столкновений между различными племенами (киммерийцев, скифов, алан, гуннов, тюрков, ираноязычных кочевников и др.), предпринимавшими завоевательные походы и набеги, и местными народами.
В одной сирийской хронике VI в. приводится перечень 13 народов (углов, савир, булгар, куртигур, авар, хазар и др.), проживавших за воротами Дербента в «пределах гуннских».[49] Подчинив своей власти территории нынешних Северного Азербайджана и Южного Дагестана, сасаниды переселяли сюда значительные контингенты колонистов из внутренних районов Ирана. Несомненно, большое влияние на этнический состав населения Восточного Кавказа оказал Хазарский каганат, сложившийся в середине VII в. и ставший наиболее мощным политическим объединением в Приморском Дагестане и Восточном Предкавказье.
По мнению специалистов, в период так называемого Великого переселения народов IV–VI вв. в результате широкомасштабной миграции различных племен на Северном Кавказе сложились четыре этнокультурные общности, условно называемые закубанская, центрально-кавказская, дагестанская и предкавказская. Причем, несмотря на то, что в каждой из них доминирующее положение занимали определенные этнические группы, все они характеризовались пестротой и разнообразием состава. Начало формированию адыго-черкесско-кабардинской этнической общности заложили переселившиеся в Закубанье меоты и частично ассимилировавшиеся сарматы вместе с жившими здесь племенами зихского союза Черноморского побережья. В центрально-кавказской этнокультурной области преобладали адыги, северной – аланы и автохтонные племена горной зоны, сыгравшие более или менее заметную роль в процессе этногенеза карачаевцев и балкарцев, осетин, чеченцев и ингушей, дагестанской – местные племена, предки большинства нынешних горских народов, предкавказской – гуннские племена.[50]
Весьма трудно установить, сколько государственных образований существовало на Кавказе в первом тысячелетии нашей эры. С большей или меньшей определенностью можно говорить об Армянском царстве, Картли, Колхидском царстве, Албании, Алании. Более того, эти страны выступали ареной политической борьбы между Римом и Парфией, а затем Византией и от ее исхода во многом зависела и политическая карта региона. При этом, согласно историческим источникам, народы Кавказа балансировали между соперничающими друг с другом Византией и Ираном, переходя под власть то одной, то другой стороны.
Существенные изменения в политическую карту Кавказа были внесены вступлением на мировую авансцену арабов и восхождением Арабского халифата, который, завоевав значительные территории и подчинив своей власти народы Кавказа, оказал на них весьма заметное культурное и особенно религиозное влияние. Наибольшее значение с точки зрения исторических судеб региона имела исламизация подавляющей части проживающих там народов.
С продвижением из степей Центральной Азии на запад в первой половине XI в. сельджуков в истории Кавказа наступил новый период. Нашествие сельджуков имело огромные последствия для исторических судеб Закавказья. Впервые сюда пришла большая волна тюрков. Приход сельджуков и заселение ими территорий современного Азербайджана и некоторых территорий Армении и Грузии имели своим результатом изменение этнического состава населения закавказских стран, произошла также тюркизация местного населения, что положило начало формированию тюркоязычной азербайджанской народности. Вытесненные тюрками армяне вынуждены были переселиться в пределы Византийской империи, где и возникло Киликийское Армянское царство, просуществовавшее до конца XIV в. Массы тюрков, в основном огузов и родственных им племен, на основе наречий которых сложились турецкий и азербайджанский языки, прибыли в Закавказье несколько позже. За тюрками последовали нашествия на Кавказ в XIII в. татаро-монголов, которые, естественно, также оставили свой отпечаток на судьбах народов Кавказа. Страшный удар по Кавказу, особенно Грузии, от которого она долго не могла оправиться, был нанесен в результате вторжений Тимура в 1386 и 1403 гг. Cо второй половины XV в. бичом кавказских народов стала быстро набиравшая мощь Османская империя, которая вступила в соперничество с Ираном за господство на Кавказе.
С восхождением Османской империи Кавказ стал объектом постоянных ее и крымских ханов набегов и вторжений. В этом плане Османская империя вступила в соперничество с сефевидским Ираном. В XVI–XVII вв. Закавказье переходило попеременно из рук в руки – то от османской Порты к Ирану, то от него обратно к османам.
Завоевательные походы сефевидов и османов, набеги крымских ханов, а также постоянные феодальные междоусобия причиняли народам Кавказа бесчисленные бедствия, приводили к огромным человеческим жертвам, истощению и подрыву производительных сил. Неотъемлемой особенностью Кавказа во взаимоотношениях между этими государствами были насилия и произвол, отсутствие элементарной безопасности, захват и угон для продажи пленных на невольничьих рынках Османской империи и Ирана, широкомасштабная работорговля, которая велась также местными северокавказскими феодалами и родовой верхушкой. Войны и набеги зачастую затевались именно для захвата рабов с целью их последующей продажи в Османской империи. Рабство было запрещено и постепенно прекратилось лишь после заключения Адрианопольского мира 1829 г. между Россией и Османской империей, введения на вновь присоединенных территориях российских законов.
При всем сказанном историю отношений кавказских народов с сопредельными странами и народами отнюдь нельзя оценивать как непрерывную череду войн, конфликтов, набегов и завоеваний. Одновременно с древнейших времен между ними устанавливался и осуществлялся широкий диапазон отношений и связей. Ключевую роль в этом плане играл так называемый Великий шелковый путь, который шел из Китая через Северный Иран, Закавказье и Северный Кавказ в Византию и другие страны Европы и в обратном направлении. Он сыграл заметную роль в социально-экономическом развитии народов и племен Кавказа. В зависимости от конкретных условий каждого исторического периода его маршруты постоянно менялись.
Кавказ был связан со странами Восточной Европы, Ближнего и Среднего Востока весьма разветвленной системой путей. Часть районов Кавказа была больше связана с Крымом, Малой Азией, другие – с Ираном. В то время как Западный Кавказ оказался втянутым больше всего в византийскую, а позже – в генуэзскую торговлю, восточная часть Кавказа и Дагестан были связаны в основном со странами Ближнего Востока. В XIV–XV вв. генуэзские колонии на Северо-Западном Кавказе вели торговлю почти со всеми народами Северного Кавказа.
Один из путей, проходивший через Маджары и далее разветвлявшийся на Таманский полуостров, Клухорский перевал и Дарьяльское ущелье, связывал Хорезм с Византией и Средиземноморьем. Велико значение Прикаспийского пути, через который осуществлялись экономические, военные, политические и культурные связи Ближнего Востока с Восточной Европой. Значимость этих путей возрастала в силу открытости региона Черному, Азовскому и Каспийскому морям, которые связаны с глубинными районами по Волге и Днепру. Торгово-экономические, культурные и иные связи между народами Северного Кавказа и Закавказья осуществлялись по исстари сложившимся путям, проходившим по горным ущельям и перевалам.
Немаловажное значение также имели внутренние миграции представителей различных этносов в различных направлениях, особенно с Северного Кавказа в Закавказье и обратно, с юга на север. В XIII в. началось переселение в Грузию многочисленных групп осетин. По летописным данным, спасавшихся от татаро-монголов бегством осетин грузинский царь Давид Улу (1249–1270) поселил одних в Тифлисе, других – в Дманиси, а третьих – в Жинвали. В 90-х гг. XIII в. осетины нашли пристанище в низовьях реки Большой Лиахвы, и с тех пор они стали органической частью населения Грузинского государства.
В дальнейшем этническая карта региона отнюдь не оставалась неизменной. Происходил процесс складывания более крупных этнических объединений, их постепенной консолидации в народности или территориально-языковые общности, основы которых были заложены в предшествующие периоды. В XV–XVII вв. продолжался начавшийся ранее процесс переселения цахуров из Южного Дагестана на территории, которые в настоящее время составляют Северо-Западный район нынешнего Азербайджана, а также аварцев в Джаро-Белоканы. В силу распространенных в регионе форм ведения земледельческо-скотоводческого хозяйства часть населения Южного Дагестана постоянно мигрировала на южные склоны Главного Кавказского хребта и оседала там на постоянное жительство. Горцы Южного Дагестана перегоняли на зиму свой скот на пастбища на территории, входящие в состав нынешнего Азербайджана. В XVIII в. наблюдалась тенденция к увеличению числа ремесленников, прибывающих из Дагестана на эти территории на заработки. Представители горских народов нанимались на военную службу к кубинскому, шекинскому, карабахскому и другим ханам. Существовали смешанные поселения, где совместно проживали представители народов Дагестана и Азербайджана.
Обычным явлением было и то, что абазины Северо-Западного Кавказа, а также дидои Северо-Восточного Дагестана небольшими группами направлялись в Грузию на сезонные работы, по-видимому, часть из них обосновалась там на постоянное место жительства. Продолжался активный процесс переселения осетин на южные склоны Кавказского хребта. В XV–XVIII вв. неоднократно менялись места расселения различных групп адыгов, кабардинцев, осетин, ногайцев, ингушей, чеченцев и других этнонациональных групп на самом Северном Кавказе.
В то же время имела место миграция представителей народов Закавказья на Северный Кавказ. Уже в XV–XVII вв. наблюдается тенденция к увеличению на Северном Кавказе численности армянских поселенцев. Поселившихся среди черкесов в XVI в. на Северо-Западном Кавказе армян местные жители называли «черкесо-гаями». Они играли важную роль в осуществлении торговли между грузинским и северокавказскими народами. Численность армян в регионе постоянно увеличивалось за счет выходцев из Турции и Ирана. К концу XVIII в. начался процесс переселения черкесо-гаев из горных районов Закубанья в Нахичевань-на-Дону (современный Ростов), а также на Черноморском побережье. Основные потоки армян направлялись в районы Притеречья.[51]
В XVIII в. шел процесс постепенного переселения на Северный Кавказ грузин. Оказавшееся здесь грузинское население стало пополняться за счет новых переселенцев из числа грузин, служивших до 1735 г. в Гиляне, Дербенте и Баку и ушедших с русскими войсками после того, как они оставили западное побережье Каспия. Позже к ним стали присоединяться мигранты из самой Грузии, а также пленные, бежавшие из Крыма, Дагестана, Кабарды, Чечни и других районов. Они концентрировалось в основном в Кизляре и Моздоке.
На протяжении всего XVIII в. постепенно росла численность чеченского населения на равнине и в предгорьях. К концу века равнина вдоль правобережья Сунжи между реками Гехи и Хулхулау оказалась занята новыми переселенцами. Часть ичкеринцев, карабулаков и акинцев расселилась в равнинных районах Качкалыковского хребта и среднего течения рек Аксай, Ямансу, Ярыксу, Акташ. Часть этих поселенцев стала называться ауховцами. Можно сказать, что в XVIII в. тенденция к переселению вайнахов с гор на равнинные территории приобретала все более растущий размах.
По имеющимся данным, Приморская равнина Дагестана между Тереком и речкой Орасай-Булак в XVIII в. была населена кумыками. Но здесь же жили и чеченцы, ногайцы, аварцы. В прибрежной части Южного Дагестана проживали тюркоязычные терекеме, ираноязычные таты и горские евреи, в Дербенте и вокруг него – азербайджанцы. Предгорные и горные районы к юго-западу от кумыков населяли даргинцы, лакцы, нагорный Дагестан – от Салатавских гор на юго-западе до границ Грузии и Азербайджана – аварцы, андийцы, ботлихцы, годоберинцы, чамалалы, багулалы, тиндали, ахвахцы, цезы (дидойцы), бежтины и др. Табасаранцы обосновались на равнинно-предгорных и горных землях по рекам Большой и Малый Дарбах, Рубас, Недрех и Гургели. Нижнее и среднее течение реки Самур занимали лезгины, а верхнее – рутулы и цахуры. В высокогорных ущельях Южного Дагестана жили агулы. Одновременно продолжалось довольно интенсивное переселение безземельных горцев, преимущественно аварцев и цахуров, Дагестана на северные территории нынешнего Азербайджана в Джаро-Белоканские общества и Елисуйский султанат. В это же время начинается переселение на Северный Кавказ русского населения. Эти продолжалось на протяжении всего XIX в. При таком положении вещей в сознании представителей различных этнических групп размывалось и представление о каких-либо границах.
Взаимовлияние различных этнонациональных групп Кавказа друг на друга нашло отражение в особенностях их языка, антропологического типа, материальной и духовной культуры. Так, в карачаевско-балкарском и кумыкском языках, относящихся к кыпчако-огузской подгруппе тюркской семьи, отмечены существенные элементы аланского или осетинского и ряда кавказско-иберийских (например, сванского) языков, а в кумыкском – элементы языков коренных народов Дагестана – аварцев, лакцев, лезгин и т. д. Характерно, что все народы иранского, тюркского и кавказско-иберийского происхождения в антропологическом отношении весьма близки друг другу и в целом относятся к кавкасионскому типу европеоидной расы. Мало чем различаются их традиционная материальная и духовная культура. По данным источников, определенную роль в формировании осетинского народа сыграли как автохтонные, так и тюркоязычные племена. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что в осетинском языке, относящемся к североиранской группе индоевропейской семьи, отчетливо прослеживаются элементы кавказско-иберийских и тюркских языков. Антропологически же осетины также принадлежат к кавкасионскому типу. В их материальной и духовной культуре доминирующее положение занимают признаки, характерные для других горских народов центральной части региона.
Следует отметить и тот факт, что в течение многих столетий из всех кавказских народов лишь армяне обладали более или менее четко осознаваемой ими этнонациональной идентичностью. Средневековые, да и более близкого нам периода этнические образования не имели сколько-нибудь устойчивых и крепких скрепов, способных объединить их на длительное время. Для них эфемерные квазигосударственные, субгосударственные формы правления были не исключением, а правилом. Их члены разделяли общее название, общий миф о происхождении, общую историю и специфическую культуру, при этом ассоциируя себя с конкретной территорией. Естественно, они разделяли также общее чувство солидарности, хотя и не в государственно-политическом смысле в современном понимании этого слова. Для средневековых грузин и армян, например, идентичность выражалась прежде всего в религиозных терминах. Независимо от того, жили армяне на армянской территории или территориях, контролируемых грузинскими князьями, они как в собственных глазах, так и в глазах окружающих идентифицировались как приверженцы армянской монофизитской, а не грузинской православной церкви.
Интересно и то, что Грузия, достигнув своего зенита в период правления царицы Тамары, была полиэтнической страной, которая включала как армян, так и разнообразные мусульманские народы. Грузины для обозначения своей страны не использовали современное слово «Сакартвело» вплоть до XIV в., когда в единое целое были объединены Восточная Грузия (Картли) и Западная Грузия (Имеретия) под началом единого монарха. На территории современной Грузии более или менее самостоятельные княжества сохранились под сюзеренитетом Османской империи на западе и иранским – на востоке. С приходом русских в конце XVIII – начале XIX в. оставшиеся грузинские князья потеряли свои троны.
В отличие от грузин, плотно проживавших на своей исторической территории, армяне, разбросанные по трем империям – Османской, Персидской и Российской, нигде не составляли большинство от общего населения, кроме как на территориях вокруг Еревана, где в результате миграций в ходе серии русско-турецких войн они заняли господствующие позиции. В течение нескольких столетий после вторжения в Закавказье турков-сельджуков в XI в. армянский нобилитет сильно сократился, часть его выжила в Малой Армении в Киликии, на побережье Средиземного моря, а другая – стала служить грузинским царям в качестве воинов, правителей тех или иных областей или купцов. В XIV в. Армения потеряла свою государственно-политическую идентичность.
Что касается территории нынешнего Азербайджана, то во второй половине XVIII в., накануне его присоединения к России, там сложилось около 15 государственных образований – ханств, наиболее крупными из которых были Шекинское, Карабахское и Кубинское. Существовали и более мелкие феодальные владения – наибства и меликства. В начале XIX в. образовалось 7 ханств, которые в составе Российской империи были преобразованы в единую Шемахинскую губернию.
Особенно отчетливо этническая и политическая раздробленность была характерна для Северного Кавказа. К началу XIX в. Северный Кавказ оставался политически раздробленным на множество самостоятельных или полусамостоятельных государственных образований. Так, в одном только Дагестане насчитывалось более 10 феодальных владений и несколько десятков союзов сельских общин. В тот период крайней раздробленностью и наличием многих независимых друг от друга обществ характеризовались Чечня и Ингушетия. Такая разобщенность особенно была присуща горным районам, где тейпы объединялись в территориальные союзы или ассоциации, так называемые тухумы, джамааты, что служило серьезным препятствием внутреннему преодолению политической дробности, созданию прочных политических объединений.
Разделенными на множество политических образований оставались адыги. Здесь каждый князь или крупный дворянин одновременно являлся и правителем своего владения. То же самое можно сказать о Кабарде, где феодальные отношения были более развиты по сравнению с другими адыгскими областями. Там также отсутствовала централизованная политическая власть. Она по-прежнему была разделена на Большую и Малую. Причем первая была поделена на три княжеских удела, а вторая – на два между пятью княжескими фамилиями. Во второй половине XVIII в. число уделов увеличилось до шести.
Ногайцы, расселенные на территориях от низовьев Кумы до Верхней Кубани, были разграничены на мелкие феодальные владения, управляемые султанами или мурзами. На ряд самостоятельных обществ с собственными организационными формами была разделена Осетия. Шесть обществ существовали в Балкарии, еще несколько – в Карачае, где власть находилась в руках так называемых биев.
Иными словами, политическая и этническая раздробленность сохранялась на всем Северном Кавказе вплоть до присоединения к России. Все это позволяет сделать вывод, что политическая жизнь на протяжении всей истории Кавказа вплоть до его присоединения к России в конце XVIII–XIX вв. характеризовалась партикуляризмом, была пронизана династическим началом и религиозными конфликтами, лишена единой территориально-политической или этнокультурной идентичности. Соответственно, начиная с раннего Средневековья и вплоть до XIX в. не могло быть и речи о сколько-нибудь жизнеспособном, выдержавшем испытание временем едином крупном государственном образовании. Грузинское царство во главе с царицей Тамарой просуществовало недолго. Каракоюнлу и Аккоюнлу на территориях нынешнего Азербайджана были весьма эфемерными образованиями, которые не могли оказать сопротивление натиску извне.
Существенные коррективы в судьбах кавказских народов произошли с момента их присоединения к Российской империи. Начиная с XV–XVI вв. Персия, Турция и Россия боролись за господство над народами и странами региона, и лишь в XIX в. спор был окончательно решен в пользу России. Мирные договоры с Османской империей (1812) и Ираном (1813), по сути дела, юридически зафиксировали уже свершившиеся факты вхождения в состав России ханств и горских обществ Северного Кавказа, большей части грузинских земель, ряда ханств на территориях нынешнего Азербайджана. В результате Кавказ перестал быть просто географическим понятием, а стал единым регионом великой многонациональной империи. Постепенно этот регион, все еще оставаясь ареной острейших международных противоречий, становился проблемой для внутренней политики России. По окончании Кавказской войны начался процесс довольно быстрой интеграции Кавказа в состав Российской империи.
Следует отметить, что в XIX в. время от времени выдвигались разного рода проекты создания государственных образований на территории Северного Кавказа. Но все они остались лишь на бумаге. В период правления Шамиля на Северном Кавказе о государстве в современном понимании также можно говорить лишь условно. Масштабы и контуры его территории постоянно менялись в зависимости от военных успехов и поражений, в результате чего границы были подвижными, структуры власти – эфемерными, поскольку степень их устойчивости во многом зависела от способности самого Шамиля и его наибов силой оружия подчинить своей воле разные этнонациональные группы. Как известно, будучи на пике своего величия, в имамат Шамиля входила только часть Дагестана, за исключением территорий, населенных кумыками, даргинцами, лезгинами, лакцами и табасаранцами, а также часть территории Чечни. Это свидетельствует о том, что не все горские народы Северо-Восточного Кавказа, не говоря уже о Северо-Западном Кавказе, горели желанием признать власть Шамиля.
В данной связи нельзя не отметить еще одно обстоятельство. В силу целого комплекса причин – политика царизма в регионе, направленная на вытеснение, особенно с прибережных территорий Северо-Западного Кавказа, адыгов и других групп автохтонного населения; влияние ислама и пропаганда против России; социально-экономические и политические факторы в конце 50-х гг. XIX в. на Северном Кавказе среди части горцев, продолжавших ориентироваться на Порту, – началось движение за переселение в Османскую империю. Оно всячески поощрялось царским правительством, заинтересованным в высвобождении наиболее выгодных территорий от горских народов для их заселения казаками и другими русскими поселенцами. Отбирая земли у местного населения, царское правительство фактически побуждало его к отъезду в Османскую империю. Точно установить число переселившихся весьма трудно. По разным данным их число колеблется от 350 тыс. до 1 млн человек.
На протяжении всего XIX в. заметно рос поток переселенцев на Северный Кавказ – русских, украинцев и представителей других народов. 10 марта 1866 г. было принято Положение о заселении Черноморского округа, которое предоставило переселенцам различные льготы и преимущества. Возможность основания поселений, хуторов и колоний получили так называемые иногородние, греческие и армянские выходцы из Турции, немцы из Германии и представители других народов. Дальнейшему притоку переселенцев в регион дала отмена крепостного права.
В целом можно сказать, что реальное объединение кавказских народов в составе единого государства произошло лишь в рамках Российской империи. В первые десятилетия после их присоединения к России был принят комплекс военно-административных мер, имевших своим результатом создание Кавказской губернии с центром в Георгиевске. Во второй половине XIX в., особенно после Крымской войны и поражения движения горцев во главе с Шамилем, Кавказ стал интегральной частью Российской империи. Англия, которая в течение длительного времени конкурировала с Россией в борьбе за Кавказ и ту часть Центральной Азии, которая под названием Средней Азии также вошла в состав Российской империи, вышла из игры, сконцентрировав свои усилия на Ближнем Востоке и Индии.
С учетом всего изложенного можно сделать вывод, что многие народы Кавказа, территориальные границы которых лишь частично совпадали с границами, установленными при образовании недолго существовавших кавказских государств после большевистской революции в ходе Гражданской войны, при вхождении в состав Российской империи либо вовсе не имели государственности в современном смысле слова, либо потеряли свою государственность. Представляет интерес и тот факт, что с самого начала многие ставили под сомнение правомерность и легитимность этих государств. Например, еще при образовании Азербайджанской Демократической Республики не все современники всерьез принимали сам факт формирования нового государства. В частности, лидер Белого движе– ния генерал А. Деникин в своих «Очерках русской смуты» писал: «Все в Азербайджанской Республике было искусственным, “не настоящим”, начиная с названия, взятого взаимообразно у одной из провинций Персии. Искусственная территория, обнимавшая лезгинские Закаталы, армяно-татарские Бакинскую и Елисаветпольскую губернии и русскую Мугань и объединенная турецкой политикой в качестве форпоста пантюркизма и панисламизма на Кавказе. Искусственная государственность. Наконец, искусственно держалось и азербайджанское правительство: первоначально – волею Нури-паши, потом – генерала Томсона и в дальнейшем – просто по инерции».[52]
Подобные позиции получили определенную популярность и в наши дни. Однако, как уже указывалось, на Кавказе претензии на исконность тех или иных территорий ссылками на историю зачастую имеют под собой весьма зыбкую почву и не всегда могут служить достаточным основанием для претензии на легитимность или нелегитимность того или иного государства. Мы можем повторять о том, что Азербайджан как государство не существовал вплоть до провозглашения Азербайджанской Демократической Республики в 1918 г., что он есть «искусственное создание муссаватистов и коммунистов» и т. д. Но никуда не деться от того неоспоримого факта, что в настоящее время Республика Азербайджан существует как самостоятельное независимое государство, признанное всем мировым сообществом в качестве суверенного и равноправного субъекта международных отношений и, соответственно, международного права.
Если исходить из подобных установок, причем принимая их в качестве весомого аргумента за или против, то Азербайджан, возможно, не имеет право на существование, поскольку, как уже говорилось, на территории нынешнего Азербайджана до ее присоединения к России существовало 15 ханств и ряд других феодальных владений. Однако хотелось бы увидеть и слышать того человека, который назвал бы в современном мире хотя бы одно «неискусственное» государство. Профессиональный историк прекрасно сознает, что такого самопроизвольно, естественным образом образовавшегося государства просто не существует. Чтобы убедиться в этом, достаточно обозреть исторические вехи и перипетии формирования политической карты современного мира. Кто может утверждать, что Соединенные Штаты Америки, Германия, Франция, Италия, Россия не искусственные образования, созданные волей и гением сформировавшихся в их границах народов и их руководителей путем переселений, миграций, завоеваний, вторжений, войн, насилий, порабощений, слияний, ассимиляций (как добровольных, так и принудительных) и т. д. Латиноамериканские и африканские государства, Индия, Пакистан (вообще такого названия не существовало), Венгрия, Израиль… Одним словом, этот список в общем и целом совпадает со списком стран – членов Организации Объединенных Наций.
Можно сказать, что такими же искусственными образованиями являются все три южнокавказские республики. Суть вопроса состоит в том, что в реалиях современного мирового порядка нужно исходить не только из исторических или каких-либо иных прав и преимуществ, но и из самого факта существования государства. Поэтому рассуждения относительно легитимности или нелегитимности того или иного государства не всегда корректно обосновывать ссылками на исторические или иные подобные им аргументы.
Что касается Кавказа, то ни регион в целом, ни Южный Кавказ и Северный Кавказ в отдельности никогда не были политическими понятиями. Контуры политической карты Кавказа почти всю его историю зависели от исхода борьбы между различными сопредельными с ним империями. Регион действительно обладает определенными, исторически обусловленными устойчивыми особенностями политического, социокультурного, языкового характера, типологически отличающими его от соседних регионов. Это прежде всего близость исторических судеб, национально-культурных традиций, менталитета, путей эволюции составляющих его народов. Причем независимо от осознания этого самими странами и народами.
Свою специфику имел в регионе процесс консолидации и образования этнонациональных групп и народов. Одна из важнейших особенностей этого процесса состояла в том, что формирование и выживание этих групп и народов не всегда напрямую были связаны с государственными образованиями.
Здесь в силу комплекса факторов медленно изживались феодальные, патриархальные, клиентелистские и иные элементы социокультурной матрицы и политической культуры, существенно тормозившие развитие экономики и политической системы. Они значительно позже, чем большинство народов Европы, вступили на путь капиталистической модернизации. Живучесть позиций полуфеодальных групп и аристократии в политической жизни, устойчивость консервативных ценностей, конфессионального начала в общественном сознании обусловили особую противоречивость и затянутость процесса утверждения ценностей, институтов отношений гражданского общества, рыночной экономики и правового государства.
Немаловажный отпечаток на политический ландшафт и состояние умов народов Кавказа накладывало то, что для него почти во все времена было характерно существование весьма сложного и запутанного клубка проблем и противоречий, которые слишком часто становились причиной ожесточенных споров и кровавых конфликтов и войн между различными народами и странами региона. В то же время он был в некотором роде яблоком раздора между соперничающими великими державами, граничащими с ним на западе, востоке и юге. Тысячи лет регион составлял либо буферную зону между конкурирующими империями, либо составную их часть. С незапамятных времен в регионе были проложены границы, разделяющие ареалы обитания этносов, принадлежащих порой к различным культурно-цивилизационным кругам, нередко враждебным друг другу: Византия, Парфия, арабы, монголы, тюрки, Персидская, Османская и Российская империи, христианство и ислам, суннизм и шиизм, народы, принадлежащие к кавказско-иберийской, тюркской, семито-хамитской семьям, различным ответвлениям индоевропейской семьи, сталкивались здесь, порождая почти неразрешимые противоречия и конфликты. В результате Кавказ стал рубежом военного противостояния сначала Византии и Персидской империи, затем Византии, арабов и тюрков, а в новое время России, Османской Турции и сефевидского Ирана, театром многочисленных войн между ними.
Что касается непосредственно нынешнего положения Кавказа, то нельзя не обратить внимание на тот факт, что само понятие «Кавказ» не имеет четкого определения, более того, этнонациональные границы здесь не совпадают с государственными и даже с государственно-административными. В пространстве Кавказа можно выделить несколько подпространств – сугубо географическое, культурно-языковое, историческое, этнонациональное, конфессиональное, экономическое, политическое, которые, налагаясь друг на друга и дополняя друг друга, создают многомерное, сложное, обремененное противоречиями, конфликтами и нестабильностью геополитическое пространство, соприкасающееся на юге с Ближним и Средним Востоком, на востоке с прикаспийской Центральной Азией, на западе с Причерноморским регионом.
В политическом плане Кавказ разделен на две части: Северный Кавказ, который входит в состав Российской Федерации, и Южный Кавказ, включающий в себя три независимых государства: Азербайджан, Армению и Грузию. Необходимо учесть и то, что с Кавказом теснейшим образом связано и Предкавказье, в состав которого входят Ставропольский и Краснодарский края и Ростовская область. Поэтому нет единого понимания границ Северо-Кавказского региона. К этому вопросу существует несколько подходов. Ряд авторов включает в данный регион как территории, занимаемые северокавказскими национальными республиками Российской Федерации, так и территории Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев. Другие же, руководствуясь только этнодемографическими критериями, ограничивают его территориями, заселенными коренными горскими народами, политически оформленными в национальные республики. В этом плане, как правило, от собственно Северного Кавказа отделяют южнорусский регион, составляющий Предкавказье, в которое включают Краснодарский и Ставропольский края, а также Ростовскую область, а иногда также Волгоградскую, Астраханскую области и Республику Калмыкию. Это в некотором роде переходная зона, по ряду признаков тяготеющая к «коренной» России, а по другим – к Северному Кавказу.
Но все же весьма трудно, если не невозможно, провести четкую границу между Предкавказьем и Северным Кавказом, если исходить, например, из такого критерия, как ареалы расселения русских и собственно кавказских этносов. Эта связь станет особенно очевидной, если учесть этнодемографический состав населения этих регионов.
Как говорилось ранее, территории Предкавказья и Северного Кавказа в течение XVII–XIX вв. интенсивно заселялись русскими, украинцами и представителями других народов. Одновременно в Предкавказье шли миграционные потоки представителей как закавказских народов – армян, грузин, азербайджанцев, так и горских народов Северного Кавказа. В Ставропольском и Краснодарском краях значительную часть населения составляют выходцы из северокавказских национальных республик и стран Закавказья, сохраняются этнические анклавы автохтонного населения, которые в начале 90-х гг. преобразованы в Республику Адыгею и Карачаево-Черкесскую Республику. В четырех субъектах Российской Федерации – Ставропольским крае, Дагестане, Чечне и Карачаево-Черкесии расселены ногайцы. С другой стороны, в северокавказских республиках проживают довольно большие массы русского населения. Более того, в Карачаево-Черкесии и Адыгее русские численно превосходят автохтонное население. Эти реалии нашли отражение, в частности, в том, что в послевоенный период все северокавказские республики, Ставропольский и Краснодарский края, а также Ростовская область с сохранением ими административной самостоятельности были объединены в Северо-Кавказский экономический район.
Продолжавшиеся в течение многих поколений миграционные потоки с севера на юг и с юга на север, по сути дела, постепенно сделали неопределенной и весьма условной границу между Предкавказьем и Северным Кавказом. Последний, в свою очередь, служит связующим звеном между Закавказьем и Предкавказьем. Все три зоны как с севера на юг, так и с юга на север плавно переходят друг в друга, стирая существующие между ними границы и обеспечивая единство основополагающих характеристик и проблем.
Поэтому при анализе места и роли Кавказа как в мировой политике, так и в политической стратегии России весь регион следует рассматривать как единое целое безотносительно к государственным, административным, этнонациональным и иным границам, разделяющим его изнутри. Обоснованность такого подхода определяется общностью целого ряда основополагающих проблем, таких как тесные многовековые экономические, культурные, политические и иные связи, общность исторических судеб, близость форм, стандартов и стереотипов поведения, особенности менталитета и др. У народов Кавказа есть целый ряд общих целей и интересов, особенно в плане обеспечения и поддержания в регионе мира и стабильности, преодоления последствий войн и конфликтов, предотвращения нового витка конфронтации, защиты его этнокультурного и природно-экологического своеобразия.
Однако при всем единстве и однородности стоящих перед Кавказом как единым регионом проблем приходится говорить также о значительных различиях между населяющими его народами и отдельными государствами с точки зрения как природно-географических условий, наличия тех или иных ресурсов, факторов и видов хозяйственной деятельности, транспортной инфраструктуры, так и интеллектуального потенциала, качества рабочей силы.
В свете всего изложенного возникает вопрос: можно ли считать Кавказ особой цивилизацией или неким единым культурно-цивилизационным ареалом и говорить об особой кавказской цивилизации? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо определить, что именно понимается под цивилизацией применительно к Кавказу.
После введения во второй половине 80-х гг. в обиход понятия «цивилизационный подход» в нашей научной и околонаучной литературы появились некоторые неувязки и расплывчатость в трактовке понятия «цивилизация». Большую помощь отечественной пишущей братии в этом плане оказал известный у нас американский политолог С. Хантингтон, который в 1993 г. выступил с нашумевшей статьей «Столкновение цивилизаций». Идеи, сформулированные в данной статье несколько позже были доработаны и переизданы в довольно объемистой книге. Изложенные в них мысли вдоль и поперек были изучены как в отечественной, так и зарубежной литературе. Здесь отметим лишь то, что лейтмотивом этих идей стал тезис, согласно которому, если XX столетие являлось веком столкновения идеологий, то XXI столетие станет веком столкновения цивилизаций или религий, поскольку противоречия, сложившиеся столетиями, «более фундаментальны, чем различия между политическими идеологиями и политическими режимами». Из этих рассуждений выводился сакраментальный вывод: «следующая мировая война, если она разразится, будет войной между цивилизациями». Разумеется, в доводах Хантингтона, который является весьма эрудированным и серьезным исследователем, есть много здравого и соответствующего реальностям современного мира. Но с некоторыми его позициями можно согласиться лишь с определенными оговорками.
Как показывает исторический опыт, нередко войны и конфликты оказывались и оказываются наиболее опустошительными не столько на разломах цивилизаций или между различными цивилизациями, сколько в пределах одной и той же цивилизации, одной и той же страны, одного и того же народа, между соседними, зачастую близкими по крови, культуре, языку народами. Как справедливо отмечал Г. Зиммель, «на почве родственной общности возникает более сильный антагонизм, чем между чужими. Взаимная ненависть мельчайших соседних государств, у которых вся картина мира, локальные связи и интересы необходимым образом весьма сходны и нередко должны даже совпадать, часто намного более страстна и непримирима, чем между большими нациями, пространственно и по существу совершенно чужими друг другу».[53] Постоянные греко-персидские войны отнюдь не мешали столь частым внутригреческим столкновениям, одной из которых явилась Пелопонесская война, блестяще описанная Фукидидом. Как свидетельствуют источники, эти войны велись с неменьшим ожесточением и свирепостью, чем войны с персами. Так было и в последующие периоды. Сегодня обоснованность данного тезиса подтверждают нескончаемые арабо-израильские войны и конфликты, в которые вовлечены два семито-хамитских народа. Как известно, особой жестокостью, как правило, отличаются гражданские войны. По некоторым данным, в ходе тайпинского восстания в Китае, начавшегося в 1851 г. и продолжавшегося 13 лет, число погибших достигло 20 млн человек – просто непостижимая для того времени цифра. В ходе Гражданской войны в США погибло около 600 тыс. человек, а в Гражданской войне в нашей стране число погибших и умерших от голода и других лишений перевалило за несколько миллионов человек.
На сегодняшний день существует множество противоречащих, а то и исключающих друг друга определений понятия «цивилизация» при всей его распространенности и общепринятости. В 1952 г. американские культурологи А. Кребер и К. Клакхон выделили 164 определения культуры, указав при этом, что в большинстве случаев данное слово употребляется как синоним слова «цивилизация». Это свидетельствует не только о разности подходов к формулировке определений цивилизации, но и об их нечеткости, неструктурированности и некой зыбкости. По-видимому, эти качества нельзя однозначно считать недостатком, поскольку социальная жизнь настолько многообразна и сложна, что ее невозможно охватить какими бы то ни было, даже самыми совершенными теориями и концепциями.
Необходимо отметить, что сами авторы теорий цивилизации, получивших наибольшую популярность, прекрасно понимали это и не всегда претендовали на законченность, завершенность своих теорий. Так, показательно, что у Ф. Броделя цивилизация – это «пространство, культурный ареал, собрание культурных характеристик и феноменов»;[54] у А. Кребера – модели культуры, основанные на высших ценностях; у П. Сорокина – большие культурные суперсистемы, обладающие центральным смыслом или ментальностью. А.Дж. Тойнби, идеи и концепции которого во второй половине XX в. получили большую популярность, характеризовал цивилизацию как наднациональное «постигаемое поле исторического исследования», как «движение, а не состояние, странствие, а не убежище».[55]
Но на этом основании было бы не совсем корректно делать вывод, что цивилизация есть некий миф, искусственная конструкция, лишенная какого бы то ни было позитивного содержания и смысла. При всей неопределенности, дифференцированности и внутренней противоречивости цивилизация и культура, как справедливо отмечал А. Боузмен, представляют собой понятия, относящиеся к самому образу и стилю жизни народов, цивилизация – это культура в широком смысле слова. Оба понятия включают в себя «ценности, нормы, институты и способы мышления, которым сменяющие друг друга поколения придают первостепенное значение».[56] И действительно, в любом сообществе людей и народов, обозначаемом как цивилизация, можно обнаружить некий комплекс идей, идеалов, ценностей и норм, составляющих в совокупности духовную ось, к которой тяготеют, особенно в центре, важнейшие устои данного сообщества. Речь, в сущности, идет об основополагающей парадигме или системе мировоззрения данной цивилизации, определяющей параметры самосознания, жизненный уклад, стереотипы поведения людей, всю систему их социальной регуляции. Ключевую роль в большинстве исторических цивилизаций играет та или иная вероисповедная система. В совокупности все эти элементы составляют некую базовую инфраструктуру, способствующую преодолению приверженности местническим, родовым, племенным, этнонациональным и иным партикулярным началам и обеспечивающую универсальность общественных связей.
В этом смысле исторический Кавказ (не считая Предкавказье) можно рассматривать как некий культурно-цивилизационный круг, состоящий из множества в чем-то взаимосвязанных, а в каких-то важных направлениях противоречащих, конфликтующих друг с другом субкультур, этнонациональных, конфессиональных, лингвистических, национально-культурных, региональных и иных элементов и пластов, каждый из которых включает множество групп с собственной индивидуальностью.
Здесь при общей численности населения не более 30 млн человек не просто разные этносы и народы, а этносы и народы, принадлежащие к разным языковым семьям, – грузины, горские народы Дагестана, вайнахской и адыгской групп и другие, относящиеся к иафетической или кавказско-иберийской семье; азербайджанцы, кумыки, ногайцы, карачаевцы, балкарцы – к тюркской; осетины, талыши – к иранской ветви индоевропейской; армяне – к индоевропейской; таты – к семито-хамитской и т. д. Народы Кавказа исповедуют большинство существующих в современном мире религиозных верований: грузины – православие, армяне – монофизитскую ветвь христианства, горские народы Дагестана и народы вайнахской и адыгской групп – суннизм, азербайджанцы – шиизм, таты – иудаизм и т. д.
Поэтому естественно, что установки, ориентации, ценности в отношении тех или иных жизненных вопросов, например, у азербайджанца из Баку, грузина из Тбилиси, армянина из Еревана, лезгина из Дербента могут существенно различаться, равно как и установки, ориентации, ценности самих представителей каждого из этих народов, проживающих в разных районах. Этим объясняется тот факт, что для Кавказа в течение почти всей его истории было характерно наличие весьма сложного и запутанного клубка проблем и противоречий, которые слишком часто становились причиной ожесточенных споров и кровавых конфликтов и войн между народами и странами региона.
Тем не менее не следует считать, что на Кавказе существует две, три, четыре, множество цивилизаций. Даже признавая, что здесь сохранились фрагменты прежних – древних или средневековых цивилизаций, нельзя не признать также то, что длительный опыт совместного проживания, общая историческая судьба в значительной степени подвергли нивелировке многие различия сугубо цивилизационного характера. На протяжении всей своей истории кавказские народы подвергались давлению со всех сторон. Но испытывая на себе эти чужеземные влияниям и по-своему борясь с ними, Кавказ не терял своей индивидуальности, возможно, даже еще больше усиливая ее.
В этом плане Кавказский регион отличается, например, от ближневосточного или центральноазиатского культурно-исторических сообществ. Причем его, по-видимому, следует характеризовать скорее как фрагментированное и конфликтное, нежели как единое и целостное. В отличие от западной христианской или восточной конфуцианской цивилизаций, базирующихся на единой для каждой из них историко-культурной и конфессиональной инфраструктуре, многообразие и разломы коренятся в самой инфраструктуре кавказского культурно-цивилизационного круга. Этим, по-видимому, в значительной степени определяется преобладание в регионе конфликтных, центробежных, дезинтеграционных, сепаратистских начал над консенсусными, центростремительными, интеграционными.
Проанализировав особенности географической среды обитания, системы экономических и политических отношений, религиозных и духовных ценностей, можно утверждать, что ни Кавказ, ни Северный Кавказ никогда не составляли единого целого, поскольку большей частью вели обособленный друг от друга образ жизни. В этом вопросе нельзя не согласиться с Н. Чиковани, который, проанализировав аргументы сторонников идеи единой кавказской цивилизации, сделал вывод, что «идея достижения единства Кавказа (или хотя бы одной из его частей) существует и, скорее всего, может существовать как идеал, к которому стремятся кавказские народы. Но достаточно даже беглого взгляда на историю, особенно почти десяти последних столетий, чтобы убедиться в беспочвенности рассуждений о наличии такого единства и гармонии интересов… Поэтому представление Кавказа как политической или культурной целостности относится больше к сфере мечты и желания, нежели к исторической или современной реальности».[57]
Кавказ, будучи трансграничным пространством, где веками протекали сложные процессы диффузии культур, обычаев, традиций, ценностей многих народов мира, пограничной зоной между различными мирами, сформировал свойственную только ему уникальность. В течение длительных исторических периодов Кавказ выступал в качестве контактной зоны нескольких региональных цивилизаций. Горные хребты послужили этническими и политическими границами. Значительная природно-географическая изоляция, трудности дорожного сообщения препятствовали развитию торговых, хозяйственно-экономических и политических связей между жителями гор, равнин и предгорий. Обособленность общин делала чужим даже жителя соседнего села. При таком образе жизни любые посторонние, будь то культурные, технические или религиозные влияния, с большим трудом приживались в горах Кавказа. Здесь география народов, этносов, конфессий, интересов не совпадают с политической географией или географией государственных границ. Эта ситуация дополняется расхождением геополитических интересов и ориентиров южнокавказских государств, что, в частности, проявляется в том, что они помимо всего прочего расколоты в военно-политической сфере: если Армения входит в ОДКБ, то Грузия настойчиво, а Азербайджан несколько завуалированно стремятся в НАТО.
В настоящее время Кавказ характеризуется политической дискретностью, мозаичностью и нестабильностью. Здесь множество реальных и потенциальных этнонациональных, территориальных и конфессиональных противоречий и конфликтов проявляются в наиболее запутанной форме, чреватой далеко идущими непредсказуемыми негативными последствиями для всех стран и народов региона. Эти последние предъявляют друг другу разного рода претензии территориального и иного характера, в силу чего в один узел переплетаются весьма острые и трудно поддающиеся разрешению социально-экономические, национально-территориальные, конфессиональные, геополитические и иные проблемы. Дополнительную лепту в дестабилизацию обстановки в регионе вносит активизация политического ислама, а также разного рода радикальных движений, в том числе террористических организаций.
Другими словами, при всем единстве и однородности проблем, стоящих перед Кавказом как единым регионом, приходится говорить также о довольно широком диапазоне различий между населяющими его народами и отдельными государствами с точки зрения как природно-географических условий, наличия тех или иных ресурсов, факторов и видов хозяйственной деятельности, транспортной инфраструктуры, так и интеллектуального потенциала, качества рабочей силы. По нашему мнению, социально-экономические, этнонациональные, культурные, территориальные противоречия между различными кавказскими народами и государствами делают нереальным в обозримой перспективе формирование жизнеспособного экономического и политического пространства в регионе. На сегодняшний день, кроме трубопроводов или так называемого нового Великого шелкового пути, не прослеживаются какие-либо иные реальные факторы, усиливающие интеграционные тенденции. К примеру, экономики государств Южного Кавказа и северокавказских республик большей частью не дополняют друг друга, а наоборот, производя схожую продукцию, находятся в конкуренции между собой. В результате каждая отдельно взятая кавказская страна с точки зрения экономических связей, если не брать в расчет маршруты транспортировки углеводородов, проявляет большую заинтересованность в отношениях с Россией или иной страной ближнего или дальнего зарубежья, нежели в связях между собой.
Вполне естественно, что этническое, конфессиональное, культурное пространство Кавказа в результате смешения внутренних и внешних миграционных потоков не имеет четких границ. Оно не заканчивается на южной государственной границе Российской Федерации или северной границе южнокавказских государств, а простирается на территорию как Азербайджана и Грузии, так и Российской Федерации. В частности, это пространство включает территории, занятые такими этносами, как абхазы, проживающие в Абхазии, осетины – в Южной Осетии, лезгины – в Азербайджане и т. д. С точки зрения этнического, традиционного, социокультурного, языкового и других аспектов они могут быть отнесены к Северо-Кавказскому региону, хотя с точки зрения правового и политического аспектов они входят в состав разных государств. Для Азербайджана этот факт оборачивается наличием напряженности в районе северной границы, где в результате распада СССР лезгинский, а отчасти и аварский этносы оказались разделенными между Россией и Азербайджаном, для Грузии – конфликтогенными ситуациями в Южной Осетии и Абхазии. Такое положение привело к тому, что на Южном Кавказе наряду с тремя суверенными и признанными мировым сообществом государствами – Азербайджаном, Арменией и Грузией де-факто существуют три непризнанных государственных образования – Нагорный Карабах, Абхазия и Южная Осетия.
Тем не менее почти все этносы в условиях взаимопроникновения этнических и даже культурных границ вынуждены уживаться вместе. Тем самым они образуют уникальный многонациональный ареал жизнедеятельности, глубоко инкорпорированный в своеобразную географическую нишу. В современных условиях глобализации, роста миграций, расширения связей и так далее имеет место дальнейший рост подвижности и неопределенности границ, отделяющих различные подпростанства друг от друга.
38
Шадже А. Ю. Роль этнического фактора в миротворческом процессе (на примере Кавказа). Режим доступа http //s history adygnetru/struct/peace1.pdf
39
Нодия Г. Конфликт в Абхазии национальные проекты и политические обстоятельства // Путь к примирению. М., 1998 С. 32
40
Цит. по: Чиковани Н. Единый Кавказ: исторически обусловленная реальность или политические иллюзии // Централ. Азия и Кавказ. 2005. № 5 (41). С. 56.
41
Там же.
42
Абдулатипов Р.Г. Кавказская цивилизация: самобытность и целостность // Науч. мысль Кавказа. 1995. № 1. С. 56.
43
Там же. С. 57.
44
Черноус В.В. Россия и народы Северного Кавказа: проблемы культурно-цивилизационного диалога // Науч. мысль Кавказа. 1999. № 3. С. 154–167.
45
Бижев А.Х. Адыги Северо-Западного Кавказа и кризис восточного вопроса в 20 – 30-е гг. XIX в. Майкоп, 1994; Бакиев А.Ш. Адыгская цивилизация: периодизация истории // Вестн. КБГУ. Нальчик, 1996, 1997. Вып. 2, 3; см. также: Аникеев А.А., Лубский А.В. Теоретические поиски в современной исторической науке и проблемы изучения истории Северного Кавказа // Науч. мысль Кавказа. 1997. № 7 и др.
46
Акаев В.Х. Кавказская война: старые концепции и новые подходы // Кавказская война: спорные вопросы и новые подходы. Махачкала, 1998. С. 22.
47
Рашковский Е. Кавказский меловой круг трагические судьбы региона // Pro et Contra. 2002. Т. 7. № 3
48
Цит. по: История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. М., 1988. С. 21.
49
Цит. по: История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. М., 1988. С. 95, 96, 118.
50
Там же. С. 108–111.
51
История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. М., 1988. С. 278, 306, 373.
52
Деникин А. Очерки русской смуты. М., 1994. С. 25.
53
Зиммель Г. Избранное Т. 2. Созерцание жизни. М., 1996. С. 505
54
Braudel F. On History. Chicago, 1980. Р. 177, 202.
55
Toynbee A.J. A Study of History. Vol. I. Oxford. Р. 569.
56
Bozeman À.D. Civilizations Under Stress // Virginia Quarterly Review. Vol. 51. Winter. 1975. Р. 1.
57
Чиковани Н. Единый Кавказ: исторически обусловленная реальность или политические иллюзии // Централ. Азия и Кавказ. 2005. № 5. С. 63.