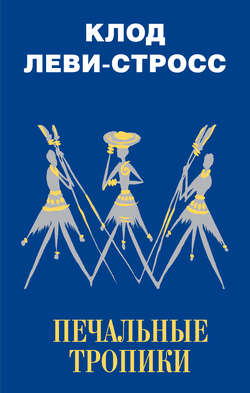Читать книгу Печальные тропики - Клод Леви-Стросс - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Первая часть
Конец путешествий
I. Отправление
ОглавлениеЯ ненавижу путешествия и путешественников. И все же я готов поведать вам о моих странствиях. Сколько же времени потребовалось, чтобы на это решиться! Пятнадцать лет прошло с тех пор, как я в последний раз уехал из Бразилии. Все это время я собирался приступить к написанию книги, и всякий раз что-то вроде стыда и отчужденности мешало мне. Да что там?! Разве заслуживает подробного описания множество мелких деталей и незначительных событий? Приключение – не часть профессии этнографа, это рабская зависимость: оно только отягощает продуктивную работу грузом недель или месяцев, потерянных в дороге; часами бездействия в долгом пути к объекту исследования; голодом, усталостью, порой болезнью; и всей массой повседневных обязанностей, которые съедают дни без остатка и превращают полную опасностей жизнь в самом сердце девственного леса в подобие военной службы… Ведь как много усилий и напрасного труда может быть потрачено ради объекта, не только не представляющего материальной ценности, но и не обещающего достойной награды за издержки нашей профессии. Истины, за которыми мы отправляемся так далеко, ценны сами по себе. Конечно, стоит посвятить полгода странствий, лишений и ужасной усталости поиску (который займет несколько часов, а иногда – дней) неизвестной легенды, или свадебного обряда, или полного списка племенных имен. А вот пометка для памяти: «В 5:30 утра мы встали на рейд в Ресифи под крики чаек, и флотилия торговцев экзотическими фруктами тут же плотно окружила корпус судна». Имеет ли смысл браться за перо ради столь незначительного воспоминания?
Тем не менее такие рассказы достаточно популярны, что кажется мне необъяснимым. Амазония, Тибет и Африка заполоняют книжные лавки заметками о путешествиях, отчетами об экспедициях и фотоальбомами, авторы которых заботятся прежде всего не о достоверности описываемых фактов, а лишь об эмоциональном воздействии на читателя. Мало того, что они волнуют воображение, – с каждым разом потребность в подобной пище растет, и читатель с жадностью поглощает ее в огромных количествах. Сегодня быть исследователем – это профессия, суть которой состоит не только в том, чтобы обнаружить в результате многих лет тяжкого труда скрытые факты, как может показаться на первый взгляд, но и в том, чтобы пройти тысячи километров в поисках интересных фото- и киносюжетов, лучше цветных. Ведь благодаря им зал на протяжении нескольких дней будет набит толпой внимающих, которые примут пошлые, обыденные вещи за удивительные открытия только потому, что автор не просто записал их, не сходя с места, а освятил расстоянием в двадцать тысяч километров.
Что слышим мы на этих публичных выступлениях и что читаем в этих книгах? Банальные анекдоты об ограблении касс, о мошенничестве старпома и примешанные к ним, затасканные обрывочные сведения, уже с полвека переходящие из книги в книгу. Но простодушие и невежество читателя вновь превращают нелепый факт в уникальное открытие. Бывают и исключения, честные путешественники существовали во все времена; из тех, кто сегодня пользуется благосклонностью публики, я охотно упомянул бы одного или двух. Моя цель – не разоблачать мистификации или присуждать награды, а скорее понять нравственный и социальный феномен, недавно возникший во Франции и теперь так ей свойственный.
Около двадцати лет французы почти не путешествовали, и исследователи выступали с рассказами о своих приключениях в отнюдь не переполненном зале Плейель. Единственным местом в Париже, отведенным для такого рода собраний, оставался маленький темный амфитеатр, холодный и полуразрушенный. Расположен он в старинном павильоне на краю Ботанического сада[1]. Общество друзей музея еженедельно устраивало там – возможно, эта традиция существует и по сей день – публичные лекции по естественнонаучной тематике. Слабые лампы кинопроектора отбрасывали расплывчатые тени на стену, служившую большим экраном, так что лектору приходилось утыкаться в нее носом, чтобы разглядеть изображение. А публика и вовсе не различала очертаний из-за следов подтеков на штукатурке. Лекцию задерживали на четверть часа в тревожном ожидании новых слушателей, в то время как редкие завсегдатаи занимали привычные места. Когда отчаяние доходило до предела, зал наполовину наполнялся детьми в сопровождении мам или нянек: одни – жадные до любого бесплатного зрелища, другие – утомленные уличным шумом и пылью. Стоя перед сборищем этих бледных призраков и нетерпеливой детворы – высшая награда за столькие усилия, труды и хлопоты, – докладчики использовали единственную возможность поведать о самых сокровенных воспоминаниях людям, которых подобные откровения впечатлить не могли. И в сумерках зала говорящий чувствовал, как воспоминания постепенно отдаляются от него и одно за другим падают камнем на дно колодца.
Таким было возвращение, едва ли более тоскливое, чем торжественный отъезд – ужин, устроенный франко-американским комитетом в одном из отелей на улице, которая сегодня носит имя Франклина Рузвельта. В это нежилое здание повар явился двумя часами раньше, во всеоружии принесенных с собой конфорок и посуды, но наспех проведенное проветривание не избавило помещение от затхлого запаха.
Неловко себя чувствуя в тоскливой атмосфере, которая там царила, мы сидели вокруг маленького столика в центре огромной гостиной, где едва успели подмести центральную часть. Молодые преподаватели, которым еще только предстояло работать в провинциальных лицеях, знакомились друг с другом. Итолько по прихоти Жоржа Дюма мы перенеслись из сырых меблированных комнат супрефектуры в гостиную, пропитанную ароматом грога, погреба и побегов виноградной лозы, напоминающих о тропических морях и комфортабельных судах; этот эксперимент был нацелен на создание представления о путешествии, хотя бы отдаленно отличающегося от нашего.
Я был учеником Жоржа Дюма в период его знаменитого «Психологического трактата». Раз в неделю, не помню точно, в четверг или в воскресенье, в утренние часы он собирал изучающих философию в зале больницы Святой Анны; одна из стен, напротив окна, была увешана забавными рисунками душевнобольных. Ощущение чего-то невероятного не покидало нас. Дюма водружал на кафедру свое сильное, нескладно скроенное тело, несоразмерное с его шишковатой головой, которая напоминала белесый корень, поднятый со дна моря. Лицо воскового цвета сливалось с короткими седыми волосами, стриженными под ежик, и с белой бородкой, торчавшей во все стороны и отталкивающей во всех смыслах. Забавная, жалкая, совсем неинтересная, с взъерошенным хохолком фигура внезапно превращалась в человека благодаря взгляду угольно-черных глаз, оттенявших белизну лица и рубашки с отглаженным и накрахмаленным воротником, контрастирующей с неизменно черными шляпой с широкими полями, галстуком и костюмом.
Его уроки ничему особенному не научили, да он к ним никогда и не готовился, полагая, что обладает природным шармом. Чрезмерно экспрессивная речь искривляла его губы в гримасы, заставляла прихотливо играть его голос – сиплый, но певучий. Это был голос сирены, который странными модуляциями не только заставлял вспомнить его родной Лангедок, но, более того, отсылал в глухую провинцию, к стародавней мелодике разговорного французского. Так его лицо и голос вкупе создавали ощущение чего-то совершенного добродушного и в то же время язвительного: своеобразный образ гуманиста XVI столетия, врача и философа, бессмертный по духу, но во плоти.
Второй, а иногда и третий час лекции был посвящен осмотру больных: мы присутствовали при необычных представлениях с участием хитрого врача-практика и пациентов, за годы безумия привыкших к этим типичным упражнениям. Хорошо знающие, чего от них ждут, они по сигналу впадали в беспокойное состояние и чрезмерно сопротивлялись своему укротителю, чтобы тот мог как можно ярче продемонстрировать свои способности. И аудитория охотно очаровывалась его виртуозностью. Те, кто был удостоен внимания учителя, вознаграждались и доверием одного из больных в личной беседе. Ни один контакт с индейскими дикарями не напугал меня так, как разговор с одной старой дамой, состоявшийся однажды утром. Она была с ног до головы укутана в свитера и считала себя тухлой селедкой среди кубиков льда. Внешне спокойная, в любой момент она могла выйти из себя, если бы ее защитная оболочка вдруг растаяла.
Дюма был в некоторой степени мистификатором, вдохновенно обобщающим материал. Обширный замысел его работ служил подтверждению довольно обманчивого критического позитивизма. Этот ученый был человеком большого благородства, но таким он предстал передо мной много позже, на следующий день после перемирия[2] и незадолго до своей смерти, когда он, почти уже слепой, вернувшись в свой родной Лединьян, написал мне приветливое и сдержанное письмо с единственной целью выразить солидарность первым жертвам тех событий.
Я всегда сожалел, что мне не довелось знать его юношей, смуглым брюнетом, похожим на конкистадора, когда взволнованный научными открытиями XIX века в области психологии, он отправился на духовное завоевание Нового Света. Как земля принимает разряд молнии, так бразильское общество приняло его. И в этом проявился, несомненно таинственный феномен, когда два осколка истории Европы четырехсотлетней давности (некоторые важнейшие принципы устройства которой хранились, с одной стороны, в протестантских семьях юга Франции, с другой – в среде бразильской буржуазии, эстетской и немного декадентской) сошлись, признали друг друга и воссоединились. Ошибка Жоржа Дюма была в том, что он так никогда и не осознал подлинный исторический характер этих обстоятельств. Ему удалось соблазнить лишь одну Бразилию – Бразилию землевладельцев (их кратковременный приход к власти создал иллюзию, что это и есть подлинная Бразилия), которые постепенно инвестировали промышленные предприятия с иностранным участием и стремились обрести идеологическую опору в добропорядочном парламентаризме. Наши студенты, происходившие из семей иммигрантов новой волны и мелких помещиков, связанных с землей и разоренных рыночными спекуляциями, зло называли крупных землевладельцев «grao fino» – сливки общества. Примечательно, что открытие университета в Сан-Паулу, главное деяние Жоржа Дюма, способствовало продвижению именно представителей скромного среднего слоя, перед которыми после получения дипломов открывались перспективы административной службы. Так что наша миссия в университете состояла в том, чтобы содействовать формированию новой элиты, которая вскоре начала отдаляться от нас, по мере того как Дюма, а затем и министерство иностранных дел отказывались понимать, что эта элита – самое ценное из всего нами созданного, хотя она и стремилась подорвать феодальный слой, который ввел нас в Бразилию, с одной стороны, чтобы создать себе залог на будущее, а с другой – ради приятного времяпрепровождения.
Но тем вечером, во время банкета франко-американского комитета, ни я, ни мои коллеги, ни сопровождавшие нас жены не могли еще оценить ту роль, которую нам невольно предстояло сыграть в эволюции бразильского общества. Мы были слишком поглощены наблюдением друг за другом и опасениями своих возможных промахов, ведь Жорж Дюма нас предупредил, что теперь нужно быть готовым последовать образу жизни наших новых хозяев, то есть посещать автомобильный клуб, казино и ипподром. Это казалось невероятным для молодых преподавателей с жалованьем в двадцать шесть тысяч франков в год, даже после того как нам, немногочисленным участникам экспатриации, его утроили.
«Самое главное, – сказал нам Дюма, – вы должны быть хорошо одеты». Стремясь нас успокоить, он добавил с трогательным простодушием, что на этом можно хорошо сэкономить недалеко от рынка Ле-Аль в заведении «Круа Жаннетт», где он всегда делал покупки, пока учился в Париже на врача.
1
Ботанический сад является частью Музея естествознания. – Примеч. перев.
2
Перемирие было заключено правительством Виши с гитлеровской Германией после поражения Франции в 1940 году. – Примеч. ред.