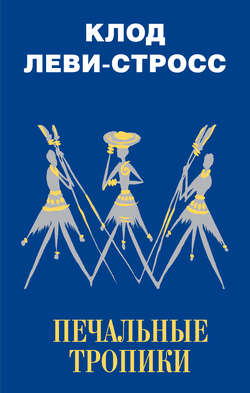Читать книгу Печальные тропики - Клод Леви-Стросс - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Первая часть
Конец путешествий
II. На борту
ОглавлениеКак бы там ни было, мы не предполагали, что в течение следующих четырех или пяти лет наша немногочисленная группа за редким исключением будет путешествовать первым классом на грузопассажирских судах, принадлежавших компании морских перевозок, которая в то время обеспечивала сообщение с Южной Америкой. На выбор предлагались каюты второго класса на роскошном судне или первого класса, но на более скромных судах. Были те, кто в погоне за сомнительной выгодой – с пользой провести время в компании послов – выбирал первый вариант, оплачивая остаток суммы из собственного кармана. Мы же отдавали предпочтение второму и хоть и тратили на дорогу лишние шесть дней, но зато могли почувствовать себя полновластными хозяевами и посетить по пути множество гаваней.
Сегодня, по прошествии двух десятков лет, мне бы хотелось по достоинству оценить то неслыханное великолепие, то исключительное по-королевски привилегированное положение, дарованное нам, путешествующим в составе восьми или десяти человек: палуба, каюты, курительный салон и столовая были в нашем полном распоряжении – и все это на корабле, рассчитанном на сто, а то и сто пятьдесят пассажиров. На корабле, который на протяжении девятнадцати дней, благодаря отсутствию посторонних, казался нам бескрайним пространством, целой страной, – и наши владения двигались вместе с нами. После двух или трех поездок, едва поднявшись на борт, мы тут же возвращались в привычный мир: мы поименно знали всех первоклассных марсельских стюардов, усатых, в обуви на толстой подошве, от которых исходил резкий чесночный запах, когда они подавали нам филе пулярки или тюрбо. Обеды, и без того пантагрюэлевские, становились еще обильнее из-за нашей малочисленности. Но даже при самом большом желании мы не смогли бы уничтожить все запасы корабельной кухни.
Конец одной цивилизации, начало другой, внезапное осознание того, что, возможно, наш мир становится слишком мал для людей, его населяющих… Не столько цифры, статистические данные и революции открыли мне эти очевидные истины, сколько ответ, полученный несколько недель назад по телефону, пока я тешил себя мыслью пятнадцать лет спустя вновь обрести молодость, вернувшись в Бразилию, – как бы ни складывались обстоятельства, мне следовало бы заказывать каюту за четыре месяца.
А я ведь наивно полагал, что с появлением авиарейсов между Европой и Южной Америкой только редкие чудаки предпочитают путешествовать по морю! Увы, как мы заблуждаемся, когда думаем, что вторжение одного предполагает исчезновение другого. Наличие комфортабельных авиалайнеров не способствует сохранению прежней безмятежности морских перевозок, так же как и Лазурный берег не превращает окрестности Парижа в деревенскую глушь.
Однако именно между чудесными морскими путешествиями 1935 года и странствиями 1941-го, о которых я старался позабыть, произошло и другое событие, в будущей значимости которого я никоим образом не сомневался. На следующий день после перемирия, благодаря дружескому вниманию к моим этнографическим работам и неустанной, почти родственной заботе Роберта Х. Лоуи и Андре Метро, живущих в США, я получил приглашение от нью-йоркской Новой школы социальных исследований в рамках совместной с Фондом Рокфеллера программы спасения европейских ученых, находящихся в немецкой оккупации. Нужно было ехать, но как? Первой мыслью было вернуться в Бразилию и продолжить свои довоенные исследования. В маленьком помещении на первом этаже в Виши, где находилось посольство Бразилии, когда я добивался возобновления визы, произошла короткая, но трагичная для меня сцена. Бразильский посол Луиш ди Суза-Данташ, которого я хорошо знал, поднял печать и уже было приготовился поставить ее в паспорт (он сделал бы это, даже если бы мы не были знакомы), как вдруг один из советников почтительно-холодным тоном напомнил послу, что подобные полномочия были с него только что сняты правительством. На несколько секунд его рука зависла в воздухе. Глядя на советника тревожным, почти умоляющим взглядом, посол пытался заставить его отвернуться, чтобы печать все-таки коснулась бумаги, тем самым позволив мне уехать из Франции и отправиться в Бразилию, а может, и не только туда. Но все было тщетно, взгляд советника застыл на руке посла, и она машинально рухнула рядом с документом. Я не получил визы, и удрученный посол вернул мне паспорт.
Я возвратился в свой дом в Севеннах, недалеко от которого, в Монпелье, по велению судьбы, ввиду прекращения военных действий я был демобилизован, и отправился в Марсель. Из разговора в порту выяснилось, что один из кораблей вскоре направится к берегам Мартиники. Бродя от причала к причалу, от дока к доку, я наконец понял, что вышеупомянутое судно принадлежит той самой Морской транспортной компании, которая еще со времен нашей университетской французской миссии в Бразилии, а то и раньше, предоставляла услуги только особенным, самым верным клиентам. В тот день в феврале 1941-го дул северный ветер, я все же отыскал в холодной и запертой на все замки конторке одного чиновника, который когда-то представлял нам эту компанию. Да, корабль существовал, да, он должен был вот-вот отправиться, но попасть на него было совершенно невозможно. Почему? Я не понимал, а он не мог мне этого объяснить. Все уже не так, как раньше. Но как же быть? Ах, все будет так долго и так утомительно. Он даже представить себе не мог меня на корабле.
Бедняга все еще видел во мне представителя французской культуры; а я уже чувствовал себя жертвой концентрационного лагеря. К тому же, я провел два года сначала в гуще девственного леса, потом в стремительном отступлении от одного населенного пункта к другому, уходя от линии Мажино в Безье переправами через Сарт, Коррез и Аверон, ехал в вагонах для перевозки скота. Так что щепетильность моего собеседника казалась мне неуместной. Я уже видел себя прежним странником, разделяющим и труды, и скудную пищу с горсткой матросов, брошенных на произвол судьбы на затерянном в океане судне, и, казалось, слышал шепот волн за бортом.
В конце концов я получил билет на судно «Капитан Поль-Лемерль», но только в день отплытия начал понимать, пробираясь сквозь ряды жандармов в касках и с автоматами в руках, которые стояли по обе стороны причала и ударами и бранью обрывали прощания пассажиров с провожавшими их родственниками или друзьями: приключением это было только для меня, а больше походило на отправку каторжников. Но даже грубость жандармов не поразила меня так, как численность уезжавших. Около трехсот пятидесяти человек набилось на борт маленького суденышка, где – и я собирался это тотчас же проверить – имелось всего две каюты с семью койками. Одна из них была отдана трем дамам. Другая – разделена между четырьмя мужчинами, среди которых был я – непомерная милость со стороны месье Б. (хотя бы здесь я смогу его отблагодарить), который не мог допустить, чтобы один из его прежних пассажиров первого класса ехал как скот. Все остальные, мужчины, женщины и дети, теснились в темных душных трюмах. Спать им предстояло на соломенных тюфяках многоярусных коек, сколоченных на скорую руку корабельными плотниками.
Итак, в привилегированном положении оказались четверо мужчин: австрийский торговец металлами, прекрасно понимавший, во что ему обошлось это превосходство; молодой «беке» – богатый креол, отрезанный войной от родной Мартиники и заслуживавший особого обращения, ведь он, единственный на судне, не был евреем, иностранцем или анархистом; и наконец, последний, чудак, житель Северной Африки, который собирался в Нью-Йорк всего на несколько дней (странный замысел, учитывая, что только на дорогу туда уйдет не меньше трех месяцев), носил в чемодане Дега, и хотя был, как и я, евреем, казался персоной грата вблизи всей этой полиции, охраны, жандармерии и служб безопасности колоний и протекторатов – в такой ситуации это казалось какой-то непостижимой тайной, раскрыть которую мне так и не удалось.
Среди пассажиров, или попросту «сброда», как говорили жандармы, были Андре Бретон и Виктор Серж. Андре Бретон, ощущавший себя узником на этой галере, бродил взад и вперед на редких свободных участках палубы. В своей мягкой бархатной куртке он напоминал синего медведя. Между нами возникла прочная дружба, которая продолжалась и на протяжении всего бесконечного путешествия: мы обменивались записками и обсуждали связь эстетической красоты и абсолютной самобытности.
Что касается Виктора Сержа, его прошлое сотрудничество с Лениным смущало меня, и я никак не мог сопоставить этот факт с его личностью. Он скорее напоминал старую деву с принципами: гладкое, лишенное растительности лицо, тонкие черты, чистый голос в сочетании с чопорными, сдержанными манерами. Он казался почти бесполым – похожие черты я позже наблюдал у буддийских монахов на бирманской границе. Такой характер, лишенный мужского темперамента и стремления к излишествам, французская традиция обычно ассоциирует с так называемой подрывной деятельностью. В любом обществе, раздираемом довольно простыми противоречиями, возникают сходные культурные типы, которые используются каждой из враждующих групп для выполнения разных социальных функций. Тип Сержа стал революционером в России. Ну а кем бы он стал в другом месте? Ведь отношения между двумя обществами складывались бы лучше, если было бы возможно создать упорядоченную систему мер для оценки действий аналогичных человеческих типов при исполнении различных социальных обязанностей. Вместо того чтобы сравнивать врачей с врачами, промышленников с промышленниками, преподавателей с преподавателями, как это любят делать сегодня, лучше бы обратили внимание на сходства более неуловимые: между отдельными людьми, исполняющими различные роли.
Помимо людей корабль перевозил какой-то тайный груз: в Средиземном море и на западном побережье Африки мы постоянно слонялись из порта в порт, по-видимому, ускользая от проверок английского флота. Владельцам французских паспортов иногда разрешалось сойти на берег, остальные же томились в тесноте, где на каждого приходилось несколько десятков квадратных сантиметров. Из-за жары – нараставшей по мере приближения к тропикам и делавшей нестерпимым пребывание в трюмах – палуба превращалась в столовую, спальню, ясли, прачечную и солярий одновременно. Но самым неприятным было то, что в армии называют «соблюдением санитарных норм». Экипаж соорудил две пары построек из досок без света и воздуха. Располагались они симметрично вдоль леера: слева по борту для мужчин и справа по борту для женщин. В одной из этих построек можно было принять душ, и то только по утрам, когда они снабжались водой. Другая была оснащена длинным деревянным желобом, обитым оцинкованной жестью, он выходил в океан и служил для известных целей. У тех, кто не выносил слишком тесного соседства и испытывал отвращение к коллективному приседанию, такому неустойчивому из-за бортовой качки, был только один выход – просыпаться очень рано. И на протяжении всего путешествия проходили соревнования между самыми «деликатными», так что в итоге на относительное одиночество можно было надеяться только около трех часов утра. Кончалось тем, что спать вообще не ложились. В течение двух часов то же происходило с душевыми, где главной была забота уже не о стыдливости, а о возможности занять место в толпе. Вода, которой и без того было крайне мало, словно испарялась в контакте с такой массой влажных тел и еле доходила до кожи. И в том, и другом случае все спешили поскорее закончить и уйти. Эти непроветриваемые постройки были сколочены из свежих еловых досок. Доски же, пропитавшись грязной водой, мочой и морским воздухом, закисали под солнцем и источали приторный тошнотворный запах, который, сливаясь с другими испарениями, становился невыносимым, особенно во время качки.
Когда через месяц в ночи показался маяк Фор-де-Франса, сердца пассажиров наполнились надеждой, но надеждой даже не на мало-мальски приличный обед, кровать с простынями или тихий безмятежный сон. Все эти люди, которые до поездки пользовались, как сказал бы англичанин, «прелестями» цивилизации, больше чем от голода, истощения, бессонницы, тесноты и даже презрения, устали от грязи и жары. На борту было немало молодых, хорошеньких женщин. Разумеется, у них появились поклонники и завязались отношения. Для этих женщин было делом чести показать себя перед расставанием в благоприятном свете, и в глубине души они надеялись, что достойны оказанного внимания. И не было, следовательно, ничего смешного и ничего торжественного в этом крике, который вырывался из каждой груди, заменяя «Земля! Земля!» (традиционное в рассказах о морских путешествиях) на: «Ванна! Наконец ванна! Завтра ванна!». Именно это слышалось со всех сторон, пока происходила лихорадочная инвентаризация последнего куска мыла, чистого полотенца, блузки, припасенной ради этого великого случая.
К сожалению, эта «гидротерапевтическая» мечта заключала в себе слишком оптимистический взгляд на плоды цивилизаторского труда, которых можно ожидать от четырех веков колонизации (так как ванные комнаты редки в Фор-де-Франс). Едва мы встали на рейд, пассажиры поняли, что их грязный и переполненный корабль был идиллическим жилищем по сравнению с приемом, который им уготовила местная солдатня, страдающая коллективной формой умственного расстройства. Этот недуг, несомненно, заслужил бы внимания этнолога, если бы тот не был занят использованием интеллектуальных ресурсов с одной-единственной целью – избежать неприятностей.
Большинство французов пережили «странную войну», но войну офицеров в гарнизоне на Мартинике трудно классифицировать по ее роли. Их единственная миссия (которая состояла только в том, чтобы охранять золото Банка Франции) была провалена кошмарным образом, и не злоупотребление пуншем являлось тому виной. Скрытые, но не менее существенные причины обусловливались самой островной ситуацией: удаленность от метрополии и историческая традиция, богатая воспоминаниями о пиратах, позволили североамериканскому контролю и секретным миссиям подводного немецкого флота занять место главных действующих лиц – одноглазых с золотыми серьгами и деревянной ногой. Так, например, несмотря на отсутствие военных действий и какой-либо видимой угрозы, большинство военных патологически боялось осады. Что касается островитян, их болтовня ограничивалась двумя темами: одни говорили «Трески не стало и остров проклят», другие утверждали, что Гитлер – это Иисус Христос, спустившийся на землю, чтобы наказать белую расу за то, что та в течение двух предыдущих тысячелетий плохо следовала его заветам.
После перемирия младшие офицеры предпочли не «свободную Францию», а режим метрополии. Они продолжали оставаться «в стороне от дела»; их физические и моральные силы были истощены, они утратили боевой дух, если только он вообще у них когда-нибудь был. Их воспаленный иллюзией безопасности рассудок заменял врага реального, но такого отдаленного, что он стал невидимым и как будто абстрактным – немцев – врагом выдуманным, но который казался близким и ощутимым – американцами. Впрочем, два военных корабля США постоянно курсировали на рейде. Ловкий помощник командующего французскими силами каждый день завтракал у них на борту, тем временем как его начальник старался разжечь в рядах своих подчиненных ненависть и злобу по отношению к англосаксам.
Что же до врагов, на которых можно было выплеснуть накопленную в течение долгих месяцев агрессию, виновных в поражении, к которому здешние вояки, будучи в стороне от сражений, чувствовали себя непричастными, но в котором смутно ощущали свою вину (не являлись ли они самым наглядным примером совершенной беспечности, иллюзий и безразличия, жертвой которых, в определенной мере, страна и пала?), то наш корабль предоставлял им полный, тщательно отобранный «комплект». Создавалось впечатление, что, разрешая нашу отправку, власти Виши просто направили этим господам толпу козлов отпущения, на ком те смогли бы выплеснуть свою желчь. Вооруженная группа в коротких штанах и в касках в кабинете командира занималась не столько допросом каждого из прибывших, сколько оскорблениями, которые мы молча сносили. Те, кто не были французами, были врагами, французы же врагами не являлись, но обвинялись в том, что подло покинули свою страну. Упрек не только противоречивый, но и достаточно странный из уст людей, которые, начиная с объявления войны, фактически жили под прикрытием доктрины Монро…
Прощайте, ванные! Решено всех поселить в лагерь, названный Лазаретом, расположенный с другой стороны бухты. Только трем людям было разрешено попасть на остров: «беке», который не принимался в расчет, загадочному тунисцу после предъявления документа и мне, благодаря особой милости командующего морским управлением, моего старого знакомого. Он плавал старшим помощником капитана одного из кораблей, на которых я путешествовал перед войной.