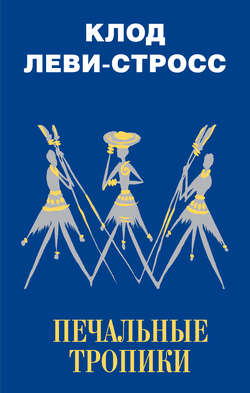Читать книгу Печальные тропики - Клод Леви-Стросс - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Вторая часть
Путевые заметки
V. Оглядываясь назад
ОглавлениеМоя карьера началась в одно осеннее воскресенье 1934 года, в 9 часов утра, с телефонного звонка. Звонил Селестин Бугле, директор Эколь Нормаль. На протяжении нескольких лет он оставался благосклонен ко мне, но при этом всегда был несколько холоден и сдержан: ведь я не относился к числу студентов, но даже если бы было и так, я не принадлежал к его «конюшне», к которой он питал исключительные чувства. Вероятно, Бугле не мог сделать лучшего выбора, так как достаточно резко спросил меня:
– Вы по-прежнему хотите заниматься этнографией?
– Конечно!
– Тогда выставите свою кандидатуру на должность профессора социологии в университете Сан-Паулу. Там вокруг полно индейцев, вы им посвятите ваши выходные. Нужно, чтобы вы дали окончательный ответ Жоржу Дюма до полудня.
Не могу сказать, что Бразилия и Южная Америка что-то значили для меня. Тем не менее я и сейчас отчетливо вижу образы, которые вызвало это неожиданное предложение. Экзотические страны казались мне полной противоположностью нашей. В данном случае мое сознание наделяло термин «антипод» смыслом более богатым и более наивным, чем его буквальное значение. Мне не верилось, что животный или растительный вид может одинаково выглядеть по разные стороны земного шара. Каждое животное, каждое дерево, каждая травинка должны были коренным образом отличаться, при первом же взгляде выказывая свою тропическую сущность. Бразилия рисовалась в моем воображении зарослями изогнутых пальм, скрывающими причудливые архитектурные формы, благоухающей ароматами курильниц. Обонятельная деталь добавлена, видимо, подсознательно отмеченной омофонией французских слов «Brésil» (Бразилия) и «grésiller» (потрескивать). И сегодня, когда я вспоминаю о Бразилии, этот запах начинает витать в воздухе.
Оглядываясь назад, я понимаю, что эти представления все же соответствовали действительности. Ведь достоверность сведений заключается не в ежедневном наблюдении за объектом, а в кропотливом детальном анализе исследований, результаты которого неоднозначность происходящего побуждала меня высказывать в виде каламбура – средства выражения символического вывода, который я не был в состоянии ясно сформулировать. Исследование – это не столько пройденный путь, сколько тщательные поиски: порой случайная сцена, уголок пейзажа, внезапно пришедшая мысль позволяют составить верное понимание происходящего.
Но в тот момент сумасбродное обещание Бугле относительно индейцев вызывало немало сомнений. Откуда взялось убеждение, что Сан-Паулу или, по крайней мере, его окрестности заселены туземцами? Вероятно, по аналогии с Мехико или Тегусигальпой. Этот философ, который когда-то написал работу о кастовом укладе Индии, даже не удосужившись сначала поехать посмотреть страну («в потоке событий только институты держатся на плаву», – надменно провозглашал он в своем предисловии 1927 года), как будто не считал, что положение аборигенов должно быть честно отражено в этнографическом исследовании. Однако он не был единственным среди признанных социологов, кто выказывал подобную безучастность, примеры которой мы наблюдаем.
Как бы там ни было, я сам был слишком несведущ, чтобы не принять такие благоприятные для своих планов заблуждения. Жорж Дюма также имел по этому вопросу представления весьма неточные: он знал южную Бразилию в эпоху, когда истребление местного населения еще не достигло своего предела; вращался в обществе диктаторов, феодалов и меценатов, был доволен своей успешностью и мало занимался изучением коренного населения.
Итак, я был крайне удивлен, когда во время обеда, на который меня привел Виктор Маргерит, я услышал в словах посла Бразилии в Париже отзвуки погребального колокола: «Индейцы? Увы, мой дорогой месье, прошел не один десяток лет, как они все исчезли. О, это печальная, даже постыдная, страница в истории моей страны. Но португальские колонисты XVI века были людьми алчными и кровожадными. Как их упрекнуть в повсеместной жестокости нравов? Они отлавливали индейцев, привязывали их к пушечному жерлу и заживо разрывали на части залпами. Такими они были до вчерашнего дня. Вам предстоит, как социологу, найти в Бразилии много удивительного, но индейцы… Не думайте больше о них, вы там ни одного не встретите…»
Когда я сегодня вспоминаю эти слова человека высшего общества 1934 года, они кажутся мне невероятными и напоминают, до какой степени бразильская элита того времени (к счастью, она с тех пор изменилась) испытывала отвращение к любому намеку на туземцев, даже не допуская его в интерьере. Вместо того чтобы признать – и даже подчеркнуть, – что именно индейская прабабка подарила их облику неуловимую экзотичность, что эти несколько капель или литров черной крови придавали им особую утонченность (в отличие от предков императорской эпохи), они пытаются заставить забыть об этом. Тем не менее индейская восходящая линия родства Луиша ди Суза-Данташа не вызывала сомнений, и он мог легко ею гордиться. Но, будучи бразильцем, в отрочестве радушно принятым Францией, он не интересовался действительным положением дел в своей стране и предпочел заменить его в памяти чем-то вроде официального и изящного шаблона. В соответствии с некоторыми воспоминаниями, оставшимися у него, он счел удобным также, полагаю, очернить бразильцев XVI века, чтобы отвлечь внимание от любимого развлечения его предков во времена юности, а именно: собирать в лечебницах зараженную одежду больных оспой, чтобы развесить ее вперемешку с другими подарками вдоль тропинок, по которым еще ходили индейцы. В итоге был получен блестящий результат: штат Сан-Паулу, величиной с Францию, на картах 1918 года на две трети обозначенный как «неизвестная территория, заселенная только индейцами», не насчитывал, когда я приехал туда в 1935 году, больше ни одного туземца, кроме группы из нескольких семей, проживающих на побережье, которые торговали по воскресеньям на пляжах Сантуса так называемыми диковинками. К счастью, индейцев еще можно было найти, пройдя три тысячи километров в глубь страны.
Я не мог бы упомянуть об этом периоде, не остановив дружеского взгляда на другом мире, знакомству с которым я обязан Виктору Маргериту (который ввел меня в бразильское посольство). После непродолжительного периода службы в качестве его секретаря на протяжении моих последних студенческих лет мы остались в теплых отношениях. В мои обязанности входило обеспечить выход одной из его книг – «Человеческая родина», – нанося визиты сотне важных парижан, чтобы доставить экземпляр, подписанный для них мэтром, – он настаивал, чтобы его так называли. Я должен был также составлять статейки и так называемые отзывы, побуждая критиков к соответствующим отзывам. Виктор Маргерит остается в моей памяти не только из-за его доброго отношения ко мне, но также (что в данном случае больше всего меня удивляет) из-за противоречия между его личностью и его произведением. Насколько последнее может показаться простым и шероховатым, несмотря на благородство автора, настолько память о человеке достойна долговечности. В его лице были чуть женственные приятность и тонкость черт готического ангела, и все его манеры излучали такое естественное благородство, что его недостатки (среди которых тщеславие занимало не самое последнее место) не шокировали и не раздражали, поскольку казались подтверждением превосходства крови или ума.
Он жил в квартале 17 округа в большой квартире, мещанской и обветшалой, где его окружала активной заботой уже почти слепая жена. Ее возраст (который исключает слияние, возможное только в молодости, черт физических и душевных) превратил в некрасивость и живость то, что некогда казалось пикантным.
Он принимал у себя очень редко, не только потому, что считал себя непризнанным молодыми поколениями, и потому, что официальные круги отвернулись от него, но в особенности потому что он взобрался на такой высокий пьедестал, что ему становилось крайне трудно найти собеседников. Случайно или намеренно, я никогда так и не узнал этого, он содействовал учреждению международной ассоциации сверхлюдей. В ее состав входили пять или шесть человек: он сам, Кейзерлинг, Владислав Реймонт, Ромен Роллан и, кажется, какое-то время Эйнштейн. Основная их деятельность состояла в том, что каждый раз, когда один из членов ассоциации издавал книгу, другие, разбросанные по миру, спешили приветствовать ее как одно из самых высоких проявлений человеческого гения.
Особенной чертой Виктора Маргерита была наивность, с которой он хотел видеть в себе всю историю французской литературы. Это было несложно, ведь он происходил из литературной среды: его мать была двоюродной сестрой Малларме. Забавные истории и воспоминания подкрепляли его позерство. У него в гостях так же запросто говорили о Золя, Гонкурах, Бальзаке, Гюго, как о дядях, дедушках и бабушках, от которых он получил наследство. И когда он восклицал с раздражением: «Говорят, что я пишу без стиля! А Бальзак, разве у него был стиль?», можно было подумать, что ты беседуешь с потомком королей, объясняющим одну из своих проказ вспыльчивым характером предка, настолько известным, что простые смертные воспринимают его не как индивидуальную черту, а как официально признанное объяснение одного из самых больших потрясений современной истории; и вздрагивают от восторга, видя его новое воплощение. Были и более талантливые писатели, но мало кто из них сумел с таким изяществом сформировать аристократическое восприятие своей профессии.