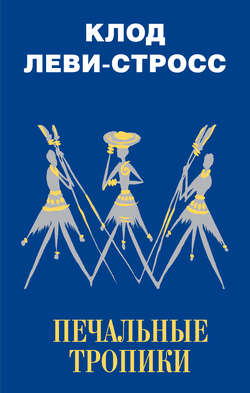Читать книгу Печальные тропики - Клод Леви-Стросс - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Первая часть
Конец путешествий
IV. Поиск власти
ОглавлениеЕдва уловимые запахи, дуновения, как предвестники сильных волнений – какое-то ничтожное происшествие дает мне это понять и остается в моей памяти предзнаменованием. Отказавшись от продления контракта с университетом Сан-Паулу, чтобы посвятить себя долгой работе во внутренних районах страны, я опередил моих коллег на несколько недель и сел на корабль, идущий обратно в Бразилию. Впервые за четыре года я был единственным преподавателем университета на борту. И впервые было так много пассажиров: не считая иностранных представителей деловых кругов, корабль был забит членами военной делегации, направляющейся в Парагвай. Привычное путешествие стало неузнаваемым, так же как и атмосфера судна, некогда такая безмятежная. Офицеры и их жены путали трансатлантическое путешествие с колониальной экспедицией и службой, словно готовились со своей малочисленной армией, по крайней мере морально, к оккупации завоеванной страны. Палуба была превращена в учебный плац. Роль туземцев досталась гражданским пассажирам, которые не знали, куда деться от такой наглости и шума. Даже команда не скрывала недовольства. Совершенно иначе вели себя руководитель миссии и его жена – люди скромные и с деликатными манерами. Однажды они заговорили со мной в укромном месте, где я пытался избежать шума, осведомились о моих прошлых работах, о цели моих исследований и намеками дали мне понять, что бессильны изменить обстановку и фактически являются лишь сторонними наблюдателями. Контраст был настолько очевиден, что наводил на мысль о некой тайне. Три или четыре года спустя я вспомнил этот случай, встретив в прессе имя этого офицера, чье личное положение было и в самом деле парадоксальным.
Не тогда ли я впервые понял, что меня многому научили обескураживающие обстоятельства, в которые я попадал во время своих поездок? Путешествия, волшебные ларцы с несбыточными мечтами, вы больше не отдадите своих нетронутых сокровищ. Бурное нашествие цивилизации навеки разрушает тишину морей. Благоухание тропиков и человеческая неискушенность испорчены вторжением затхлости, которая умаляет наши желания и искажает нашу память.
Сегодня, когда полинезийские острова залиты бетоном и превращены в непотопляемые авианосцы посреди Южных морей, когда Азия приняла облик грязного захолустья, когда трущобы разъедают Африку, когда коммерческая и военная авиация отравляют девственный американский или меланезийский лес, прежде чем окончательно его уничтожить, сможем ли мы в путешествии обнаружить исторические корни нашего нынешнего существования? Великая цивилизация Востока подарила нам множество чудес, ничтожными копиями которых мы пользуемся. Словно самое знаменитое ее творение – это громада архитектурных сооружений непостижимой сложности. Порядок и гармония Запада требуют устранения бесчисленных жалких подражаний, которыми сегодня заражена земля. То, что вы, путешествия, в первую очередь нам показываете, – это наш мусор, брошенный в лицо человечеству.
Я понимаю воодушевление и безумные заблуждения рассказов о странствиях. Они приносят иллюзии о том, чего больше не существует и что должно было бы существовать, чтобы не дать нам осознать, что на карту поставлены двадцать тысяч лет истории. Ничего не поделаешь, цивилизация больше не тот хрупкий цветок, который лелеяли, заботливо взращивая на облагороженных почвах, оберегая от близкого соседства с другими культурами, более грубыми и живучими, но которые могли разнообразить посевы. Человечество осваивается в монокультуре; оно готово плодить цивилизацию как свеклу. Его повседневная пища будет состоять только из одного этого блюда.
В былые времена рисковали жизнью в Индиях или Америках, ради добычи благ, которые сегодня стали для нас привычными: древесина брэз, подарившая название Бразилии, красная краска или перец, завоевавший такую популярность при дворе Генриха IV, где каждый имел при себе бонбоньерку с этим «лакомством». Эти визуальные или обонятельные потрясения – жаркая радость для глаз, пикантное жжение для языка – добавляли ярких красок в тусклую палитру чувств цивилизации. Стоит ли говорить, что современные Марко Поло поставляют из тех же земель, на этот раз в виде фотографий, книг и рассказов, духовные «пряности», в которых нуждается общество, погибающее от скуки?
Однако современные «духовные специи», хотим мы это замечать или нет, – всего лишь подделки. Честный рассказчик не в силах больше соблюсти достоверность повествования. Он вынужден, порой неосознанно, искажать реальные события, тщательно отбирать воспоминания, чтобы заставить нас слушать себя. В этих рассказах можно встретить карикатуры на якобы дикие племена, сохранившие до настоящего времени свои нравы и обычаи, уместившиеся в несколько небольших глав. Еще во времена студенчества целые недели уходили у меня на изучение трудов, посвященных исследованию действительно диких племен, которые десятилетия спустя после первого контакта с белыми людьми гонения и эпидемии превратили в горстку несчастных, потерявших корни. Одну из таких жалких групп сумел открыть и досконально изучить за двое суток юный путешественник. Тщательно замаскированы детали, которые указали бы на существование поста миссионеров, в течение двадцати лет постоянно общающихся с коренными жителями, или маленькой судоходной линии для поездок в глубь страны, но опытный взгляд ловит мелкие несоответствия, например, когда в кадр попадают ржавые ведра в месте, где это «нетронутое цивилизацией» племя занимается стряпней.
Суетность целей, наивное легковерие, которое их одобряет и даже порождает, признание наконец, которое является следствием стольких бесполезных усилий (если они не наносят значительного вреда, который старательно пытаются скрыть), все это задействует мощные психологические силы, больше у актеров нежели у их зрителей, и способствует продолжению и расширению исследований местных нравов. Этнография вынуждена улавливать настроения общества и использовать их в своих интересах.
У значительного числа племен Северной Америки социальный престиж определяется тяжестью испытаний, которые подросток переживает в пубертатном периоде. Некоторые сплавляются на плоту в одиночестве и без запасов съестного; другие ищут уединения в горах, не защищенные от хищных зверей, холода и дождя. В течение дней, недель или месяцев, в зависимости от случая, они воздерживаются от пищи: едят только грубую пищу или голодают в течение долгого времени, усугубляя физиологическое истощение употреблением рвотных средств. Кому-то и этого недостаточно: продолжительное пребывание в ледяной воде, добровольное калечение пальцев, разрыв аноневрозов – под спинные мышцы вбиваются заостренные колышки с привязанным грузом, который нужно тащить. Не все доходят до таких крайностей, но все изнуряют себя порой в самых бесполезных занятиях: удаление растительности с тела волос за волосом, обдирание еловых веток, пока на них не останется ни одной иголки, выдалбливание каменных глыб.
Доведенные этими испытаниями до состояния отупения, изнеможения или горячки, они надеются установить связь со сверхъестественными силами. Они верят, что только благодаря физическим страданиям и молитвам к ним явится мистическое существо – дух, который будет отныне охранять их, наречет их своим именем, станет их покровителем, чья власть даст им привилегии и положение внутри социальной группы.
Можно ли полагать, что этим дикарям нечего ждать от общества? Само его устройство и обычаи кажутся им всего лишь механизмом, чье монотонное функционирование не допускает случайности, везения или таланта. Единственный способ обмануть судьбу – это рискнуть пойти против общества, где социальные нормы теряют смысл одновременно с исчезновением гарантий и требований группы: дойти до границ культурной территории, до границ физиологического сопротивления или физического и морального страдания. Балансируя на этом краю, рискуешь или упасть и больше не вернуться, или, напротив, поймать в океане неиспользованных возможностей, который окружает человечество, собственный шанс, свой личный запас сил. Только благодаря этому незыблемый социальный порядок будет нарушен в пользу смельчаков.
Тем не менее такое толкование можно считать достаточно поверхностным и неполным. Ведь в племенах, населяющих североамериканские равнины и плоскогорья, нет места личным убеждениям, идущим вразрез с коллективным учением. Оно же, в свою очередь, способствует процветанию обычаев и философии группы. Именно от группы индивиды получают знания. Вера в охраняющих духов – это дело группы, это она учит своих членов, что жизнь возможна только внутри социального строя, что попытка покинуть его – отчаянный и бессмысленный поступок.
Только слепой не увидит, насколько этот «поиск власти» почитается в современном французском обществе под видом бесхитростных отношений между публикой и путешественниками. Нашей молодежи позволены детские выходки в стремлении вырваться за границы цивилизации: в высоту – совершая восхождения в горы; на глубину – спускаясь в бездны; или же по горизонтали, продвигаясь в глубь самых отдаленных регионов. Наконец, из-за отсутствия чувства меры и моральных принципов некоторые из них попадают в ситуации настолько сложные, что выбраться из них живыми не представляется возможным.
Общество выказывает полное безразличие к разумным результатам таких путешествий. Результатом, как правило, становится само путешествие, а не его цель. Целью же является не научное открытие, не поэтические и литературные исследования, а лишь собирание неприглядных фактов. В нашем случае молодой человек, который на несколько недель или месяцев оставляет общество, чтобы пережить (то с серьезностью и искренностью, то, напротив, с осторожностью и изворотливостью, но туземцы в этих случаях достаточно проницательны) некое приключение, возвращается наделенный влиянием, которое выражается статьями в прессе, огромными тиражами публикаций, докладами в закрытых кабинетах, но чей магический характер вызван процессом автомистификации общества, которая и объясняет этот феномен. Все эти первобытные люди, которым достаточно нанести визит, чтобы вернуться освященным, эти обледеневшие вершины, пещеры и непроходимые чащи, храмы, таящие возвышенные знания, – все это, под разными именами – враги общества, которое пред самим собой разыгрывает комедию, возвеличивая их именно в тот момент, когда решает окончательно уничтожить. Но это же общество испытывало по отношению к ним только ужас и отвращение, когда они были сильными противниками. Несчастные жертвы, попавшие в сети механизированной цивилизации, дикари амазонского леса, слабые и беспомощные, я могу смириться с пониманием неизбежности вашей гибели, но не готов быть обманутым этим чародейством, еще более жалким, чем ваше, которое размахивает перед жадной публикой альбомами цветных снимков, заменяющих ваши уничтоженные маски. Она что, действительно полагает, что с их помощью ей удастся разгадать суть вашего волшебства? Еще не осознав, что уничтожает вас, она стремится лихорадочно насытить вашими тенями тоскливый каннибализм истории, жертвой которого вы пали.
Седой предшественник этих «исследователей» бруссы, неужели я остался единственным, кто не удержал в руках ничего, кроме праха? Мой голос, станет ли он одиноким свидетелем позорного бегства? Как индеец из мифа, я тоже забрался настолько далеко, насколько позволяет земля, и когда достиг края света, люди и вещи поведали мне о его разочаровании: «Он остался там весь в слезах; молящийся и стонущий. Но его слух не мог уловить ни одного таинственного звука, сон покинул его и вместе с ним возможность перенестись в храм магических животных. Сомнений больше не оставалось: никакая власть, ни от кого, не была дана ему…»
Сон, «бог дикарей», как говорили первые миссионеры, подобен ртути, ускользающей из рук. Где он оставил для меня несколько сверкающих частиц? В Куябе, чья земля была когда-то богата золотыми самородками? В Убатубе, ныне пустующем порту, где две сотни лет грузили галеоны? Или, может быть, в полете над пустынями Аравии, розовыми и зелеными, как перламутр морского ушка? Посчастливится мне в Америке или Азии? На равнинах Ньюфаундленда, боливийских плоскогорьях или холмах бирманской границы? Я выбираю случайное название, еще окутанное очарованием легенды: Лахор.
Летное поле в каком-то пригороде. Нескончаемые широкие улицы засажены деревьям и окружены виллами. Укрывшийся за оградой отель напоминает нормандские конные заводы – выстроенные в линию многочисленные однотипные здания, словно ряд маленьких конюшен, двери которых, расположенные на одинаковом расстоянии, ведут в одинаковые номера: в передней части гостиная, в задней – туалетная комната, посередине – спальня. Километр улицы ведет к площади, где находится здание супрефектуры и от которой отходят другие улицы с редкими лавочками: фармацевт, фотограф, книготорговец, часовщик. Я – пленник этой безликой бесконечности, моя цель кажется уже вне пределов досягаемости. Где этот старый, этот настоящий Лахор? Чтобы обнаружить его на краю этого пригорода, неумело застроенного и уже дряхлого, нужно еще преодолеть километр рынка, где ряды торговцев дешевыми ювелирными изделиями, которые обрабатывают механической пилой листы золота толщиной с жестяные, соседствуют с продавцами косметики, медикаментов, импортных пластмассовых безделушек. Найду ли я его в этих тенистых улочках, пробираясь по которым нужно прижиматься к стенам, чтобы уступить дорогу стаду баранов с шерстью, помеченной голубой и розовой краской, и буйволам – каждый размером как три коровы, – которые вас дружелюбно оттесняют, но чаще всего – грузовому транспорту? Скрывается ли он за деревянными панелями, которыми обшиты стены, ветхими и источенными годами? Я мог бы различить кружевной узор резьбы, если бы проход не был перегорожен паучьей металлической сетью электрического оборудования, которой опутан от стены к стене весь старый город. Время от времени мелькнет, конечно, на несколько секунд, в нескольких метрах, образ, прозвучит отголосок из глубины веков: на улочке чеканщиков по золоту и серебру – звон безмятежного и светлого ксилофона, вызванный рассеянными ударами тысячерукого гения. Я выхожу оттуда, чтобы тотчас утонуть в просторных очертаниях проспектов, грубо обрывающих развалины (возникшие вследствие недавних мятежей) старых домов возрастом в пять сотен лет. Их разрушали и восстанавливали так часто, что их невыразимая ветхость больше не имеет возраста. Таким я себя узнаю – путешественник, археолог пространства, тщетно старающийся воссоздать экзотику с помощью крупиц и обломков.
Вот так, потихоньку, иллюзия начинает плести свои сети. Я хотел бы жить во времена настоящих путешествий, когда зрелище во всем его великолепии еще не было испорчено, опошлено и извращено; не преодолевать эту преграду самому, а как Бернье, Тавернье, Мануччи… Однажды начатая, игра в предположения не имеет конца. Когда нужно было увидеть Индию, какая эпоха могла принести истинное удовлетворение от изучения бразильских дикарей, показать их в наименее искаженной форме? Что было бы ценнее – приехать в Рио в XVIII веке с Бугенвилем или в XVI с Лери и Теве? Каждое пятилетие, отложенное назад на шкале времени, позволяет мне сохранить обычай, застать праздник, разделить еще одно вероисповедание. Но я слишком знаком с законами истории, чтобы не знать, что лишая себя века, я отказываюсь заодно от знаний и новинок, способных обогатить мои наблюдения. И вот передо мной замкнутый круг: чем меньше человеческие культуры были способны сообщаться между собой и терять самобытность от этих контактов, тем меньше эмиссары различных культур были способны почувствовать богатство и значение этого разнообразия. В конечном счете я являюсь пленником альтернативы: или древний путешественник, столкнувшийся с необыкновенным зрелищем, в котором все или почти все от него ускользало – хуже того, вызывало насмешку или отвращение; или современный путешественник, бегущий по следам исчезнувшей реальности. На этих двух картинах я теряю больше, чем кажется: сожалея о тенях прошлого, не отгораживаюсь ли я от спектакля настоящего, который разыгрывается именно в это мгновение и для просмотра которого я слишком невнимателен?
Через несколько сотен лет в этом самом месте другой путешественник, такой же отчаявшийся, как и я, будет оплакивать исчезновение того, что я мог бы увидеть и что ускользнуло от меня. Жертва двойного недуга – все, что я замечаю, раздражает меня, и беспрерывно я упрекаю себя в том, что недостаточно смотрю.
Долго парализованный этой необходимостью выбора, я стал тем не менее замечать, что туман в моем сознании начал рассеиваться. Мимолетные формы обретают очертания, смятение постепенно исчезает. Что же этому способствовало, как не обычное течение времени? Собирая воспоминания в единый поток, забвение не просто воспользовалось ими и погребло под развалами памяти. Внушительное здание, которое оно выстроило из этих фрагментов, придает моим шагам более устойчивое равновесие, моему зрению более ясный рисунок. Один порядок был заменен другим. Теперь на расстоянии между двумя этими отвесными скалами – моим взглядом и его целью – годы, которые разрушают их, начали нагромождать обломки. Края истончены, целые полотнища обрушиваются: времена и места сталкиваются, наслаиваются друг на друга или перемешиваются, как отложения, потрескавшиеся от дрожания постаревшей поверхности. Мелкая деталь, самая незначительная и древняя, возвышается как пик, тогда как целые пласты моего прошлого оседают, не оставляя и следа. События, никак между собой не связанные, происходившие в разное время и в разных местах, проносятся в памяти и внезапно замирают наподобие небольшого замка, проект которого задумал архитектор более мудрый, чем моя история. «Каждый человек, – пишет Шатобриан, – несет в себе мир, состоящий из всего, что он видел и любил, и куда он беспрестанно возвращается, даже тогда, когда кажется просто прохожим или же жителем чужого мира»[3].
Отныне переход стал возможен. Между жизнью и мной время проложило тропинку, и она длиннее, чем я успел пройти. Через двадцать лет небрежения я отправляюсь на свидание с прошлым опытом, некогда отказавшем мне в глубине, но теперь я пройду этот путь до конца, чтобы постичь его смысл и сделать по-настоящему своим.
3
«Путешествия в Италию», 11 декабря.