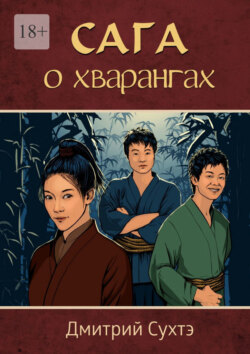Читать книгу Сага о хварангах - - Страница 18
Третий круг
3.2 Страж торфяных болот
ОглавлениеУкутана в саван туманный,
Не так уж красива вроде бы
Старинная, тихая, странная,
Но всё же любимая родина!
Суровые здесь места, дикие! На десятки километров раскинулись труднопроходимые болотные хляби, среди которых островками торчат приземистые белёсые сопки. Их открытые всем ветрам песчаные склоны поросли черникой и вереском. Чахлые сосны делят скудное островное пространство с редкими елями и зарослями кривых берёзок, затрудняющих и без того нелёгкое пешее передвижение по болотным тропам.
Даже в нынешние времена человек тут редкий гость! А ещё лет двести назад болотная Terra Incognita полностью принадлежала своим коренным обитателям – животным и растениям… Кабаньи и лосиные лёжки, комариный звон, крики водоплавающих птиц, яркие пятна цветущего иван-чая и багульника, чёрная пахучая жижа и под всей этой красотой – огромные залежи драгоценного торфа.
Первые добытчики дармового топлива появились в болотном краю в середине девятнадцатого века. Местные мужики резали пласты торфа простыми лопатами, сушили полученные куски на солнце, а потом использовали для своих скромных нужд. Объёмы добычи были ничтожными, кроме того, благоразумные крестьяне предпочитали не углубляться в неведомые болотные дали, копаясь в ямах неподалёку от своих деревень.
Всё круто изменилось лет через десять. Чтобы обеспечить растущие потребности производства, фабриканты Морозовы организовали многочисленные посёлки торфоразработчиков и стали добывать топливо в промышленных масштабах. Стоя в гнилой воде по шестнадцать часов кряду, рабочие вручную резали торф и формировали из него кирпичи. Спали в бараках на голых нарах. Скудно питались и часто болели…
Через некоторое время разработки стали механизироваться, а в советские годы достигли технологического совершенства – торф теперь добывался при помощи комбайнов и другой специализированной техники, из него прессовали удобные топливные брикеты для котельных и электростанций.
В годы войны на краю болот был основан фильтрационный лагерь №0325, в котором содержались советские военнослужащие, прошедшие германский плен. А в 1946 году к лагерю пристроили бараки для пленных немцев. Их пригнали на разработку огромных торфяных залежей, расположенных между посёлком торфяников Губино-Кусок и рабочим посёлком им. 1-го Мая, в простонародье «Майский».
Сто семнадцать немцев и четырнадцать охранников из конвойного подразделения расположились в новом трудовом лагере. Условия содержания пленных были вполне щадящими, кормёжка нормальной, дисциплина строгой, но без издевательств и рукоприкладства. А кроме того – свежий воздух, посильная работа и возможность хорошенько подожраться за счёт многочисленных даров щедрой местной природы.
Большие неприятности начались в середине мая, когда в тартарары провалился новёхонький «Универсал», пригнанный из Владимира на болотные испытания. Чудом спасшийся тракторист нёс какую-то околесицу про «разверзшиеся хляби», «чрево зве́рево» и «хищную пасть», поминал Христа и апостолов, а потому был немедленно отправлен в Орехово-Зуево для тщательного обследования в тамошней психушке.
На место происшествия нагнали пленных с длиннющими шестами, кирками, баграми, тросами и вёдрами. Трое суток немцы лопатили торфяную жижу, откачивали воду, пытались шестами и баграми нащупать трактор, но безуспешно. Раскопали такой котлован, что туда запросто можно было бы поместить грузовой железнодорожный вагон. Всё напрасно! Сгинул трактор в неведомых болотных глубинах.
А через неделю неподалёку от гиблого места раздражённое торфяное начальство затеяло оборудовать новую разработку…
С раннего утра понедельника десять флегматичных фрицев начали неторопливо забивать на площадке колья, ставить вехи, вдумчиво вырубать болотный чапы́жник68 и корчевать старые пеньки.
Четверо конвойников, под предводительством усатого белоруса старшего сержанта Тихона Тихоно́вича, покуривали, сидя на пригорке, лениво переговаривались и гоняли комаров свежесрезанными берёзовыми веточками.
Нежданными вестниками беды и первенцами, распахнувшими ворота ужаса, стали камрады не разлей вода Карл и Удо – работящие, послушные парни, весельчаки и балагуры.
– Граждан нашалтнихь, майн бомбалук трещит шов, велит бросайт бомб за тот далний куст! – округло сформулировал просьбу облегчиться «по-большому» Карл.
– Ихь прикривайт дас бомбер, битте! – присоединился подлиза Удо.
Солдатня привычно заржала над шутниками, а старший сержант обстоятельно зевнул, почесал могучую грудь, с минуту задумчиво пялился в безоблачное небо, а потом изрёк вердикт:
– Тока, слышь, рысью туда-сюда, мухоморы там не жрать! Бео-о-ом арш!
Немцы потрусили облегчаться, а Тихон невозмутимо оглядел своё икающее и рыдающее от смеха войско, ещё раз зевнул, любовно огладил ППШ и закурил очередную папироску.
Меж тем время шло – пять минут, десять, а чёртовы камрады не возвращались…
– Етить твою дивизию! – сипло выдавил наконец встревоженный Тихонович. – Неужто в побег рванули? Но куда? Тут болотень до горизонта, трясина… Пойду, мож, гляну? А вы тут в оба смотреть! – рявкнул он на притихших солдат.
И Тихон глянул… Чуть было сам не наложил в штаны от страха! Мёртвые немцы лежали на небольшой гаревой69 полянке. Скрюченными пальцами покойники ухватились за ветки вереска, а ногами выкопали в земле мощные борозды. Но самым жутким зрелищем были лица мертвецов – тёмно-фиолетовые, искажённые ужасной гримасой, с выпученными глазами и длинными, синими, закрученными спиралью языками.
Трупы прикрыли драными рогожами. Быстрый на ноги рядовой рванул в караул с докладом. На дребезжащей полуторке прилетел растерянный дежурный старлей с радистом и санинструктором, заглянул под рогожи, проблевался в зарослях камыша, после чего стал настойчиво связываться по рации с дежурным по штабу. Пленных угнали в лагерь. Бледные притихшие солдатики присели поодаль, стараясь не смотреть в сторону мертвяков. Солнце палило нещадно…
С момента ЧП прошло уже более трёх часов, а старший сержант Тихонович так и стоял, замерев, на кромке чёрной торфяной воды, молча курил папиросу за папиросой, гримасничал, о чём-то напряжённо думал… Потом внезапно и совершенно безумно завертел головой, беспорядочно замахал руками, шагнул по колено в болотную жижу, сорвал с плеча ППШ, пронзительно по-бабьи взвизгнул и всадил непрерывной очередью семьдесят одну пулю в разогретое марево горизонта.
Это происшествие добавило суеверной жути в размеренную лагерную жизнь! О том, как крутили руки впавшему в буйство и враз поседевшему Тихоновичу, долго потом шептались и служивые, и сидельцы. Ну а Карла и Удо старались не поминать вообще, дабы не навлечь на себя беду…
Но та уже протоптала дорожку к людям… Чем дальше, тем больше! Что ни день, то в лагере военнопленных новые трупы. По одному, по два, а то и по пять человек разом. Росло в трёх километрах от бараков кладбище. Росли в душах местных обитателей паника и отчаяние. Неведомая тёмная сила сеяла смерть, а причина так никем и не выяснена…
Приезжала, конечно, комиссия – плешивый подвижный профессор с бегающими глазами, мрачный патологоанатом, криминалист и двое молчаливых серьёзных мужчин в кожаных плащах и в шляпах. Следствие вели три дня, осмотрели трупы, опросили охрану и напуганных пленных, что-то невнятно объяснили про какой-то болотный газ да спешно отбыли восвояси.
Когда смерть забрала восемьдесят шесть душ – четверых арестантов из фильтрационного лагеря, двух конвойников и восемьдесят немецких пленных, высокое начальство повелело «это дело прекратить»! Заключённых отправили по этапу в другие колонии и поселения, а лагерные постройки безжалостно спалили дотла, чтобы дурной окрестный люд не растаскивал из опасного места ценные стройматериалы.
Сидит бабка на пеньке,
Держит туесок в руке…
Как коряга сгорбилась,
Знать, она испортилась!
Историю о страшной смерти на болотах мужики рассказывали Витьке Дубровину ещё в бытность его комбайнёром на торфоразработках. Он всегда считал эту байку страшилкой, предназначенной для впечатлительных новичков или суеверных деревенских девок. Всерьёз не воспринимал. А тут сам Сухов – почтенный и авторитетный человек, заподозрить которого в желании потешить публику ну никак невозможно, лично повёл речь о делах минувших лет:
– И вот, слышь-ка, считай, годов пятнадцать тихо всё было, – вёл он обстоятельный рассказ.
Рабочие-вахтовики недавно отужинали, собрались у костра пить чай, курить и слушать стариков. Дед Женя Веселов сегодня больше помалкивал, посасывая трубку и поглядывая на собравшихся исподлобья. А вот Сухов был непривычно словоохотлив:
– Года с три назад сызнова неладно. Степановну Мухину-то многие, поди, помнят, ветеринарку? Так пошла она в августе по грибы, сюда, на Ану́тку, а дале вниз, к кабанячей кормушке черти её потянули, стало быть… Так она, вишь ты, на старое кладбище немецкое и вышла! – Сухов раскурил козью ножку70, прищурился, разогнал едкий махорочный дым ладонью и продолжил рассказ: – Там её аккурат и нашли – синющую, жуткую, а рот, слышь-ка, как у клоуна из шапито, до ушей, словно улыбается она чему…
Витькино воображение вмиг нарисовало синюю Антонину Степановну, криво ухмыляющуюся, с мутными мёртвыми глазами. Стало не по себе… А Сухов продолжал нагнетать:
– Ладно, схоронили. Через год опять чертовщина! Опосля пожаров лесничество кинулось полосы защитные копать, а народа лишнего в деревнях нет. Срядились с шабашнёй ореховской. Уж не знаю, може и студенты, как говорили сами, но рожи, доложу вам, доверия не внушают… А и хрен бы с ними, не в рожах дело! Две лошадёнки им выделили на пятерых, плуги, бороны, лопаты, пилы, топоры. Обеспечили всем… – Сухов помолчал, словно припоминая детали происшествия, потом махнул рукой, указывая на восток: – Вон тама я через два денька лошадёнку нашёл, а вот вторая сама вышла к Жене на огород. Скажи, Жень! – обратился рассказчик к хмурому Веселову.
– Было, – подтвердил лесник, – приходила. Свёл я её в лесничество, а сам, вот с Суховым, тремя мужиками и участковым пошёл шабашню искать, – Веселов кивнул, передавая слово Сухову, устроился на пеньке поудобней и вновь насупился. Было видно, что разговор этот ему неприятен и тягостен, но он считает его обязательным, как считает и его напарник Сухов, который незамедлительно продолжил историю:
– Вот, значит, выходим на бивак шабашей – он, вишь, слева под горкой, почти в самой болотени оказался. Глядим – инструмент в телеге лежит, плуги в бороздах не вынуты, на столе дощатом котелок с кашей простывшей… И сами мужички тута, ага – один в костре потухшем обугленный, мордой вниз, другой мертвец глазом на ветку насаженный, так и стоит, трое на спине под ёлкой лежат – пальцы скрючены, бельма выкачены, рожи перекошены. Во, етьба-молотьба, опять да сразу пять! – Сухов саркастически помотал головой и фыркнул. – Следствие, вишь ты, определило, мол, самогону дрянного те работяги перепились и сдохли. Как же, самогону! Ни бутылей, ни банок, ведро одно с чаем наполовину. И рожи у них синюшные, как и у прежних, языки наружу, а сами перекорёженные! Не-е-е, брат, тут дело жуткое, то самое…
Витька, воображение которого оказалось ярче, чем он думал, долго сидел оцепенев, поражённый страшной и загадочной былью. Разошлись спать по времянкам притихшие мужики, уехал верхом на свою сторожку дед Сухов. А Витька всё сидел у полуночного костра, смотрел на мерцающие угли, отрешившись от окружающего мира…
Сердце мечтателя замерло и упало вниз, по телу пробежала морозная волна мурашек и волосы зашевелились на голове, когда чья-то рука твёрдо легла на его плечо. Не дав Витькиному испугу панически развиться, в тусклый круг света вступил дядя Женя Веселов. Он приложил палец к губам, повелевая молчать, серьёзно и внимательно посмотрел Витьке в глаза, а потом поманил его жестом ладони за собой в глубь ночного леса…
Они шли по упругому моховому ковру, надёжно гасившему звук шагов, меж чёрных свечей можжевельников и серебристых стволов сосен, чьи ветви на фоне звёздного неба напоминали Витьке восточные иероглифы. Звонкая тишина наполняла окружающее пространство, а темнота, наоборот, понемногу отступала, позволяя различать всё новые детали и контуры.
Витьку переполнял восторг. Похоже, нынче сбудутся его заветные мечты – он прикоснётся к той неведомой тайне, которая будоражила его мысли многие годы. Он чувствовал, что жизнь его круто и навсегда меняется, оставляя в прошлом обыденность повседневного существования…
Остановились путники на поляне, покрытой белым исландским лишайником. Здесь было гораздо светлей, чем в лесу, просторней. Веселов замер, вслушиваясь в тёмную даль, потом глубоко вдохнул и громко выдохнул:
– Ф-фус-с! – подождал несколько минут, а потом опять, громко и резко: – Ф-фус-с!
Повторив раз десять эти странные звуки, дядя Женя сокрушённо обратился к недоумевающему Витьке:
– Не идёт, понимаешь, опасается! С первого раза не подзовём, надо полагать…
– Кто не идёт-то, дядь Жень? – выдавил из себя главный вопрос Витька.
– Ну, кто, кто… Фус не идёт! Осторожный лешак… Да ты не бойся! – заметил крайнее изумление Витьки Веселов, улыбнулся, ободряюще взял за рукав. – Во-он, глянь, сторожка моя, пойдём-ка, купчика71 намутим, побеседуем.
Шёл час за часом, а в уютной сторожке лесника Витьке Дубровину раскрывались тайны сокровенные, фантастические, невероятные, умопомрачительные, вмещавшие в себя многолетнюю историю и обширную географию. На столе дымился крепчайший чай. Пахло хвоей и лесными травами.
– Я в то время детишкам преподавал, – мягко и откровенно рассказывал длинную историю дядя Женя, – ботаникой очень увлекался, зоологией, рисовал маленько. Пошёл в начале октября с этюдником на Глухушу – бурелом посмотреть да опят подсобрать… Глядь, а в осинках молодых, что деревом трухлявым привалило, детёныш малый застрял, лешачонок! Зажало его так, что почти не дышит, попискивает жалобно, да ещё нога, похоже, сломана. Взял я его домой, выходил. Звали его Фус. Очень сдружились мы! С родичами его тоже потом знакомство водил. Они тут вот рядом на свои праздники собирались, по два-три раза в год. Особое место у них… Станут в кружок, за лапки свои потешные возьмутся да пойдут хороводы водить, умора! – Веселов хрипло рассмеялся и утёр широкой ладонью выступившие слёзы.
Витькино буйное воображение помогло в очередной раз – он практически видел, как под ярким лунным светом на песчаной поляне водят свои хороводы маленькие забавные человечки – лукавые и волшебные! А лесник рассказывал дальше:
– С войны я двух лешаков молодых привёз, из самой Германии. Спасти их удалось там… Ух, была история! Но то дело прошлое… Поселил их с местными. А те чужаков как родных приняли! Устроили. Детишки пошли у них потом – Ус, Оса… Фус к тем годам уж вырос, стал хозяин в племени. – Веселов начал задумчиво растягивать фразы и явно менять нить повествования на серьёзную и печальную. – Нынче Сухов-то не зря страсти говорил, я его попросил. Как те дела жуткие начались, пришли ко мне лешаки – Фус и дед его Хоц. Я тогда уже в лесники пошёл, чтобы, значит, помогать им выжить да от людей уберечь. Так вот они мне и поведали о Чёрном Страже, который тысячи лет спал в болоте, пока люди его не пробудили! Очень, говорили, зол он теперь, свиреп! Все лешаки из Глухуши ни ногой, хороводов не водят, какой уж год ныкаются по логовам, боятся.
Веселов надолго замолчал, понурился. Сидел за кухонным столом неподвижно, сосредоточенно шкворчал трубкой, лишь изредка отхлёбывая чай из солдатской кружки да хмуря седые брови. Витька тоже замер, чтобы не мешать дяде Жене подойти к самому главному.
– Ты, Вить, вот что, послушай меня внимательно, – заговорил наконец-то Веселов, – тебе верю твёрдо, с детства твоего приглядываюсь… Сухов не в счёт. Он как брат мне, но старик уже, да и в той же стезе опасной подвизался, что и я – хотим мы, короче говоря, узнать, что за Чёрный такой и как его усмирить. Тому обучены, не бойся! А тебе хочу заботу о лешаках передать. Пропадут они без защиты нашей. Вот на днях с Фусом сведу тебя, сдружитесь, дело и пойдёт! – дядя Женя опять повеселел и заулыбался.
Витька временно потерял дар речи. Его самые смелые мечты превзошла весть о предстоящей службе – большой и настоящей! Тысячи мыслей теснились у него в голове, пытаясь облечься в слова, ком подкатил к горлу, а обуревавшие чувства увлекали беспорядочным нервным кружением. Однако, чувствуя важность момента, Витька смог собрать волю в кулак и молвил просто и ясно: – Я не подведу, верь мне, дядя Женя!
На тропе, где в полуночный свет
Окунается лик беды,
Я пытаюсь найти ответ…
Я туман, я твои следы!
Я забыл – что такое день,
На охоте, порой ночной,
За тобою скольжу как тень,
Вязкий мрак за моей спиной…
Многое в ту ночь рассказал Витьке добродушный дядя Женя, но Смотрящий Евгений Веселов рассказал ему, конечно же, далеко не всё.
Не рассказал он о том, как выучил язык малых народцев в амурской дальневосточной экспедиции, в которой довелось ему вступить в контакт и доверительно общаться с этими очень малочисленными и скрытными разумными существами.
Не рассказал Веселов историю проникновения дальневосточных малых народцев в Европу, а история сия весьма увлекательна и поучительна…
По современной классификации Смотрящих эти маленькие разумные гоминиды именуются «пещерные альвы». Сами же себя они называют а́су {22}.
В горных регионах корейского государства Силла местные жители звали их оп. В 546 году для спасения их популяции государем Силлы была отправлена специальная экспедиция в Ямато. Она успешно перевезла несколько семей оп в безлюдные и благодатные японские земли.
В Японии оп именовались коробоку́ру, жили мирно, плодились и хранили свою культуру, развивали ремесло и преумножали традиции. Но времена меняются – некогда уединённые районы становятся густонаселёнными, а отношение людей к непонятным существам оскверняется страхом и ненавистью… В семнадцатом веке несколько семей коробокуру, спасаемые от полного истребления, были вывезены из Японии в Европу.
При содействии Смотрящих недалеко от Рейна была найдена старинная выработанная каменоломня. Её обустроили для безбедного проживания альвов, а кроме того, подготовили в подземелье тайники для хроник, книг и артефактов. Асу с давних времён славились как надёжные хранители, потому взаимная выгода была очевидной.
Не рассказал дядя Женя восторженному Витьке всю историю о том, как он, многократно рискуя жизнью, вывез из Германии при содействии своих Братьев из «Глобер. Звезды» пару спасённых альвов. Умолчал также о том, что считался в военные годы лучшим специалистом Европы по малым народцам, в совершенстве знающим их язык и культуру.
Не рассказал тогда. И не смог рассказать в будущем… Через два дня после важного разговора с Витькой труп Евгения Тихоновича Веселова был найден на лесной дороге, ведущей к старому кладбищу немецких военнопленных.
Сухов спалил свою сторожку и навсегда уехал из родных мест.
Виктор Дубровин через год подался на Крайний Север за длинным рублём.
Чёрный Страж притаился на время, оставаясь грозным и неизвестным…
68
Чапы́жник – частая молодая лесная поросль, кустарник.
69
Га́ревая – выгоревшая, выжженная.
70
Козья ножка – самодельная папироса, свёрнутая воронкой и согнутая пополам.
71
Ку́пчик (купец) – очень крепкий чай.