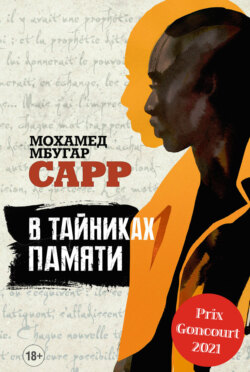Читать книгу В тайниках памяти - - Страница 18
Книга первая
Часть вторая
Летний дневник
11 августа
ОглавлениеВозможно, ответом Элимана в этой истории стало молчание. Но что это за писатель, который молчит?
* * *
Во вчерашнем номере «Ревю де Дё монд» сообщается о выходе у одного начинающего издателя «весьма необычного дебютного романа, автором которого будто бы является чернокожий, некий африканец из Сенегала».
А мы смело вычеркиваем это скептическое «будто бы»: эта изумительная книга, «Лабиринт бесчеловечности», – шедевр чернокожего автора, африканца до мозга костей […].
Потому что месье Элиман – действительно поэт и действительно негр. […]. Под описанными в романе ужасами скрывается глубокий гуманизм. […].
Автор, которому, по словам издателя, месье Элленстейна, едва исполнилось двадцать три года, оставит след в нашей литературе. Скажу больше: за ранний возраст и великолепие поэтических видений его можно назвать «негритянским Рембо».
Огюст-Раймон Ламьель
«Юманите»
Год тому назад я упивался счастьем каждого дня, наполненностью каждой недели, безудержным ликованием каждого нового начала: я понимал, что влюблен, и молился, чтобы это никогда не кончалось. Аида, как ей казалось, своевременно предупредила меня о грозящей опасности. Но это «своевременно», конечно же, запоздало: я уже достаточно долго любил ее к моменту, когда она призналась, что не может позволить себе такую роскошь, как привязанность. «Рано или поздно работа потребует моего присутствия в другом месте, возможно надолго, и я уеду», – сказала она.
Это было честно, следовательно, жестоко. Я любил ее с бешенством ребенка, который не в состоянии найти язык для выражения своих чувств, испытывал ярость, сам не зная, кто из нас двоих ее вызвал. Поскольку каждый день или каждая ночь с Аидой могли оказаться последними, я проживал их с необычайным волнением, с болью, а порой (хоть я и старался побороть это чувство) даже с надеждой: вдруг она останется со мной, а не отправится куда-то на край света фотографировать вспыхнувшую там революцию? Величайшее из потрясений происходит на твоих глазах: смотри, я влюбился в тебя. Она отворачивалась. Но на меня это не действовало. Я не сдавался.
Однажды, в порыве отчаяния или, наоборот, в безумной надежде, я произнес роковые три слова. В ответ – ничего, ни осмотрительного «я тебя тоже», ни даже вызывающего «а я тебя нет». Аида вообще не ответила, и я знал: ставить ей это в вину несправедливо, ведь я еще раньше понял, что рассчитывать на взаимность не могу. Если уж совсем честно, в глубине души мне это даже нравилось. Наверное, в любви я, подобно многим другим, был мазохистом. Я словно играл в теннис с невидимым партнером, перебрасывал признания в любви, как мячики, поверх сетки. Они падали в темноту на другой половине корта, и я не знал, прилетят они обратно или нет: эта пытка неизвестностью доставляла мне извращенное удовольствие. Кто в неведении, в том еще живет надежда; из молчания Аиды могли воссиять несколько слов, как свет жизни из первозданного хаоса. У меня было много мячей. Я подавал снова и снова. Я был готов к тому, что матч окажется сверхдолгим.
Но вышло иначе. Однажды ночью Аида сказала, что уезжает на родину, в Алжир, где назревает историческая народная революция. То есть нам осталось шесть месяцев жизни. Я был как человек, у которого диагностировали рак в терминальной стадии. Той ночью я втайне от всех начал писать «Анатомию пустоты». Роман о любви, прощальное признание, свидетельство разрыва, прелюдия к одиночеству: все сразу. Я писал его три месяца, и в это время мы продолжали встречаться. Почему? Сознание, что она живет со мной в одном городе, а я с ней не вижусь, было мучительнее, чем сознание предстоящей разлуки. Я любил любить ее, amare amabam[10], любил свою любовь, любил наблюдать за собой, охваченным любовью. Жизнь как картина, изображенная на другой картине, сведенная к одному-единственному измерению. Это было не обеднение, а сосредоточение всего моего существа на одной-единственной цели. Если бы в тот момент меня спросили, чем я занимаюсь в жизни, мой ответ был бы скромно-горделивым и трагическим: я просто люблю. Я уже жил так, словно был запечатан; а когда на ваше тело поставлена печать, это означает слепую покорность.
Я написал «Анатомию пустоты», никому об этом не сказав, очень быстро, и послал ее в одно дружественное издательство. Три недели спустя я, к своему величайшему удивлению, получил от них письмо (обычно они отвечали самое раннее через три месяца), в котором они сообщали, что хотели бы выпустить книгу как можно скорее. «Анатомия пустоты» вышла в свет за три дня до отъезда Аиды. Я посвятил книгу ей. Но ее это не удержало. Она отправилась в Алжир освещать революцию. Перед отъездом я спросил у нее, сможем ли мы остаться на связи. И получил ответ в духе Бартлби[11]: она бы предпочла отказаться. И объяснила почему: оставаться на связи значило бы надеяться, пусть и безотчетно, что наши отношения однажды могут возобновиться. А ей не хотелось, чтобы мы запрещали себе любить снова, любить чьи-то другие лица. Мне было нужно только ее лицо, но я согласился с ее решением – то ли от любви, то ли из малодушия. Она удалила свои аккаунты в социальных сетях, закрыла почтовый ящик и предупредила, что, прибыв на место, сменит номер телефона, так что писать ей бесполезно. Я каждый раз говорил «да». В наших отношениях тон всегда задавала она. Так я в один прекрасный день оказался один, и задать тон было некому. К одиночеству нельзя подготовиться, но можно постепенно привыкнуть, спускаясь со ступеньки на ступеньку; я же был сразу низвергнут на самое дно. Но я дал клятву.
10
Я любил любить (лат.).
11
Персонаж рассказа Г. Мелвилла «Бартлби, переписчик».