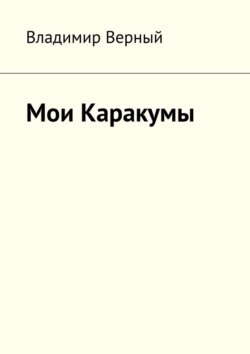Читать книгу Мои Каракумы. Записки гидростроителя - - Страница 20
Часть 1
Каракумский Канал
Земля (1-я очередь ККК)
Немного о «политике»
ОглавлениеНе могут внешние умы
Вообразить живьем.
Ту смесь курорта и тюрьмы,
В которой мы живем.
И. Губерман
Мне говорят: невозможно рассказывать о том времени и умолчать о тогдашних политических потрясениях. Признаться, это совсем не входило в мои планы. Я хотел рассказать о том, что видел и пережил только я, о чем никто другой не расскажет. А что нового могу сказать я о советской власти вдобавок ко всему уже сказанному без меня? Но, надо, так надо. Попробую.
О культе
Наш передвижной поселок стоял глубоко в песках в районе 200-го километра трассы, когда в феврале 1956 года пришла весть о разоблачении культа Сталина. Информация могла быть только официальная: газеты, радио. Никаких закрытых писем я не видел, я не был членом партии. И тем более, никакого самиздата. И бурных дискуссий не помню: вокруг очень мало народа, перебазировка только началась. Да и о чем дебатировать? Действительно, культ Сталина уже в мои студенческие годы набил оскомину и, что самое страшное для любого культа, зачастую уже воспринимался с юмором: всем дыркам затычка, всем стенкам украшение. О репрессиях же поначалу говорилось глухо и мало.
И, тем не менее, это было потрясение: во что верить? В тот вечер я выскочил из юрты и долго бродил в темноте и холоде, переваривая услышанное. Не скрою, радости не было. Была тревога, досада и недоумение: рушился прекраснодушный мир моих понятий.
Моя родословная
Мой отец – одессит, из семьи скромного еврея-белошвея. Отец – убежденный коммунист, член партии с 1920 года, а еще до революции арестовывался полицией за участие в нелегальных сходках. Очень сожалел, что ещё тогда не оформился в партию. Образование – четыре класса хедера при синагоге, но всю жизнь много читал. Десять лет в 1911—1921 годах служил писарем в армии, сначала в царской, затем в Красной. С 1914 по 1918 был на фронте. Потом был и профсоюзным деятелем, и управлял леспромхозом в Сибири, работал в системе промкооперации.
Три его брата в тринадцать лет уходили из дома, рвались из «черты оседлости», активно делали революцию, прошли каждый своё: подполье, аресты, эмиграция.
Старший (Николай) годами был на нелегальном положении, менял фамилии, много раз сидел. После революции стал известным журналистом.
Средний (Моисей), ювелир, устраивал в своей киевской квартире сходки социал-демократов, был под наблюдением полиции. Будущая красавица-жена поставила условие: или я или революция. И они эмигрировали в Париж.
Третий (Насеналь-Александр) был на нелегальном положении в Киеве. Со скоротечной чахоткой попал в больницу. Здесь его и накрыли жандармы, взяли под охрану в палате, сами тайно и похоронили, когда он умер. Отец взял его имя.
А самый младший (Абрам), бывший советский подводник, имея белый билет после аварии на подводной лодке, добровольцем ушел на фронт и погиб под Пулково.
Надо ли говорить после этого о моих политических понятиях. Оглядываясь на предков, я всегда считал, что еще не достоин быть коммунистом.
Мама, на моей памяти, еще до войны работала врачом в колонии.
Казалось бы, четкая сторона баррикады.
Это с одной стороны. А с другой…
О среднем брате отца в семье ни слова: ведь это «родственник за границей». Связей никаких.
Со старшим и того хуже: «враг народа», сидел с 1937 года по 1956.
Мама врач, врач санитарный, а работала терапевтом в госпиталях в Сиблаге и Ростове. К слову, она и во время войны была завотделением в эвакогоспитале. И неплохо работала. Сейчас по документам я увидел: она окончила Новосибирский мединститут в июле 1935 года, а на дипломе от руки приписано: выдано в августе 1937. Только через два года! А пока, работай, куда пошлют. Послали в госпиталь Сиблага. Попробуй, откажись! Потребовалось год времени и два переезда в Ростов-на-Дону и Краснодар, чтобы вырваться из этой системы.
Я немало думал об этом и вот что понял.
Во-первых, работала она там не по своей воле.
Во-вторых, читая тех же Солженицына и, особенно, Шмелева, становится ясно: врач в этой системе был едва ли ни единственным светом в окошке для заключенного. В-третьих, в очень редких её рассказах о той поре я помню в адрес заключенных всегда тон сочувствия, и даже восхищения их умом, талантами, знаниями. Уж точно – не осуждение. Наконец, мама не раз брала меня с собой в
Мои родители Ида Яковлевна и Александр Ефимович Верные
колонию под Ростовом у Россельмаша. Я играл там со сверстником, сыном кого-то из заключенных. Торчал в сапожной мастерской, мне было очень интересно. Вряд ли она решилась бы на такое, если бы там была атмосфера враждебности к ней. Наоборот, много лет у нас в семье были подарки маме тех лет: красочные фигурки нищих старика и старухи, вылепленные из хлебного мякиша и вышивка на подушечке: на черном бархате ярко желтый паук в паутине.
Нет, ни мне, ни моим детям, ни внукам не должно быть стыдно за моих родителей.
Пятый параграф
Я рос в русской среде. Томск, Новосибирск, Ростов, Краснодар, Южно-Сахалинск, Ленинград. В семье – ни еврейских обычаев, ни языка, «идиш» звучал только в случае секретов от меня. Все друзья – русские. И паспорт получил с §5 – «русский». Кончил школу на Сахалине, поступил в Ленинградский Политехнический институт. Был нормальным комсомольцем, два срока отработал в стройотряде. Учился неплохо, бывало, получал повышенную стипендию.
Но… Уже на четвертом курсе в 1953 году шел я из института в общежитие. Мой путь лежал мимо разъезда Кушелевка через парк Лесной академии. Где-то в безлюдном месте увидел на стенде газету: «Врачи-убийцы». И сплошь еврейские фамилии. Меня как ошпарило! На следующий день отнес в милицию заявление: «Прошу исправить §5». Там очень сильно удивились, даже пытались отговорить. Я настоял.
Аукнулось при распределении. Из потока в 50 человек 20 должны были остаться в Ленгипроводхозе, где я писал диплом. По баллам я с запасом входил в первую десятку. С родственниками планировал жизнь и работу в Ленинграде. Мне предложили Прибалтику. Я отказался, встал и ушел с комиссии. Потом мне вручили распределение в Карелию, последнее, что осталось после всех.
В многолюдной общаге, празднующей выпуск, я не знал куда деться. Уткнулся в ночное окно, молча трясся в истерике и боялся отойти, чтобы не встретить сочувствующих взглядов ребят.
Тогда я надумал ехать в Москву, проситься на Сахалин. Вадьку и агитировать не надо было. Паша решил двигаться с нами. В результате мы втроем оказались на Каракумском канале.
Казалось бы, вполне достаточно, чтобы люто возненавидеть советскую власть. Нет, не могу этим похвастаться.
О жертвах репрессий
Работали на Канале многие амнистированные. Ведь это и были жертвы репрессий. Ну, и кто это? Они особенно не откровенничали, были разные, но запомнились настоящие подонки: воры, бывшие полицаи, уголовники. Вспомнить того же Веревкина с компанией. Был некто Нагиев. Иначе как «фашист» мы его не звали: человек с лютой ненавистью ко всем и вся, обожавший только себя.
Нет, симпатии эти «жертвы» у меня не вызывали. Откуда нам было знать в то время, что по сталинской амнистии выпускали в первую очередь именно уголовников. Да и последующие амнистированные, действительно политические жертвы, возвращались в столицы, города, а не ехали на стройку в пустыню. Некому было поведать нам из первых рук о несправедливостях репрессий.
Вообще, у меня сложилось такое впечатление, что ужасы сталинских репрессий по-разному ощущались в столицах и в провинции. Может быть, именно поэтому и сейчас два-три десятка миллионов человек, в основном из провинции, голосуют за коммунистов в нищей России?
Чуть полемики
Строительство ККК в те годы имело немалое политическое звучание.
Но первые полтора – два года на Канале условия жизни и работы были такими, что глубоко в душе я не верил, что доживу хотя бы до своего тридцатилетия. Наши высокие начальники (те же Калижнюк, Янов) имели опыт строительства силами заключенных и не очень сентиментальничали и здесь. Условия фронтовые или лагерные, только не стреляют.
А с какой стати? Нет, такой вопрос у нас не возникал.
Отнести это на счет системы в голове не укладывалось. Глубоко укоренилось понимание, что бесконечные трудности всегда временные. И всегда был кто-то или что-то тому причиной. То на нас напали со всех сторон, а белые – изнутри, то, затянув ремни, поднимали индустрию, то троцкисты вредили. Только что прошла страшная война. Теперь вот строим в таких условиях потому, что надо страну восстанавливать да еще танки и ракеты делать. Всегда: «еще немного, еще чуть-чуть».
На Канал я приехал комсомольцем, сразу «двинули» меня депутатом в Керкинский Совет от Карамет-Нияза. Но я не жаждал такой деятельности, так ни разу и не выбрался на сессии Совета. Потом по возрасту выбыл из комсомола. С головой зарылся в работу. После институтской обиды в партию не тянуло, хотя, с другой стороны, искренне считал себя пока не достойным быть партийцем в моем понимании.
А встречал ли я таких? Да!
Сейчас очень расхожи штампы: «коммуняки», номенклатурные большевики, карьеристы, шагающие по чужим головам, жадюги, все подгребающие под себя, доносчики. Это кто? Все девятнадцать миллионов членов партии? Но это же ложь! Я встречал немало коммунистов кристально честных, самоотверженных, скромных, бескорыстных. Могу назвать немало имен, о ком рассказал и еще, возможно, расскажу.
Это механик Файнберг, гидростроитель Савченков, проектировщики Лавроненко и Дмитриенко, это начальник Подземвод инвалид войны Никифоров, это болезнено честный снабженец Ксенофонтов, это безотказный слесарь Широков… Да мало ли кто еще?
Думаю, порочна не коммунистическая идея справедливости, а порочна власть над людьми и жадность человеческая. Что, современные «демократы» и толстосумы порядочнее коммунистов? Что, девиз «больше успеха, больше денег» благороднее бескорыстия? Что, Онасис, имея в собственности целый флот, остров и жену красавицу-президентшу, был самым счастливым на Земле? Может быть Березовский действительно умнее и трудолюбивее меня во столько раз, во сколько он богаче (даже не касаясь путей обогащения)?
Конечно, все бесконечно сложнее, очень многое лежит за пределами моего жизненного опыта, поэтому и не хотел я касаться «политики». Но каждый из нас имеет своё понимание жизни, у меня оно такое, а я хочу здесь на этих страницах быть честным.
И, чтобы покончить с этой темой, скажу, что еще через полтора десятка лет я стал-таки членом партии. К тому времени очень потускнели мои романтические понятия, много было видено и пережито. После Канала восемь лет проработал я главным инженером в управлении Подземвод в Ашхабаде. Мне сказали: есть для тебя работа очень интересная, масштабная и творческая. Главным инженером республиканского водохозяйственного треста. Но эта должность только для членов партии. И я вступил в партию. Без аппетита и радости, но и не против своих убеждений. И проработал в тресте двадцать четыре года до пенсии.
А настоящее разочарование в советских порядках пришло где-то в конце семидесятых годов. Хозяйственная бестолковость, творимая на моих глазах и в чем-то моими же руками, перевесила все социальные блага (бесплатное жильё, лечение, учение, доступный отдых). До меня «дошло», что все эти блага из рук власти есть крепкий поводок, на котором нас держат и не отпускают. Зато зарплата втиснута в нормы очень далекие от истинной цены труда. Поэтому мало желающих «выкладываться», работают «спустя рукава». Отсюда низкая эффективность всего хозяйства.
Оказалось, что светлые идеалы – это одно, а сложившаяся жизнь – совсем иное.