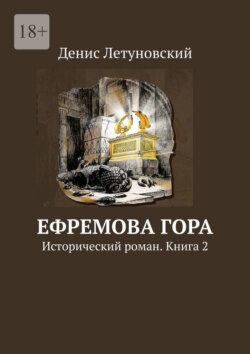Читать книгу Ефремова гора. Исторический роман. Книга 2 - - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ГИВА
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Оглавление1
Мало кто догадывался, что именно Сихора был главным зачинщиком избрания израильского царя. Этот филистимлянин, после поражения пеласгов переметнувшийся на сторону евреев, походил на спрятавшегося за ширмой кукловода. Даже на празднике в доме Самуила его присутствие было хоть и не явно, но очевидно. Конечно, не он сам, а его глаза и уши – Мизирь и Аша, – радуясь и веселясь, дабы ничем не отличаться от гостей, наблюдали и запоминали. Кто, где и с кем сидел, о чем говорил, а главное, о чем умалчивал. К кому обращены были речи Самуила, о здравии кого поднимались тосты. Малейшая деталь не ускользала от зоркого ока Сихоровых соглядатаев. И если такие подробности, как разнообразность блюд, напитков, имена приглашенных, наряды и прочее, не остались ими не замеченными, то тем более обратили они внимание на прекрасного, рослого и застенчивого юношу, с которым Самуил так скоропоспешно удалился на кровлю. Ни под каким предлогом за ними нельзя было последовать, поэтому в самый разгар застолья Аша, незаметно для всех, удалился, оставив Мизирь для дальнейшего наблюдения.
– Помчался! Хозяину самое лакомое донесет, а мне тут… – Мизирь обвела гостей скучающим взглядом, но вдруг вспомнив о Сихоровом обыкновении посылать вслед за соглядатаями других доносчиков, которые следили бы за первыми, как-то нервно и не ясно от чего рассмеялась, крикнув кувшин вина. Вскоре она так вошла в роль приглашенной на пир, что уже едва отличила бы морщины заклятого врага от лица и улыбки верного друга.
Великолепие Экрона, вынужденное переселение в Израиль, убийство Черемши… Каждый раз, когда Мизирь вспоминала тот злосчастный день, она до боли зажмуривалась, в знак траура покрывала голову. Чье-либо присутствие ей было невыносимо. Она впадала в необъяснимый ступор, могла часами сидеть, не замечая ни других, ни себя самой. Не слишком заботилась она и о завтрашнем – просто жила от утра до вечера, от вечера до утра. Мизирь так свыклась с однообразностью, что и вовсе перестала обращать на нее внимание. Слепо исполняла приказания Сихоры. Когда случались одиночные радости, отдавалась им со свойственным ей добродушием. Ей не доставляли удовольствия редкие ее мужчины. Она презирала их – не каждого в отдельности, а «всех их».
Глядя на эту черноволосую, высокую, сильную двадцатилетнюю женщину, можно было безошибочно сказать, что она давно разочаровалась в жизни.
После нескольких глотков сикеры ее мутный, безразличный взгляд просветлел. Уже не наблюдая, не высматривая, Мизирь стала вслушиваться в разговоры, вглядываться в лица, плывущие в хмельном угаре. На шумном застолье все располагало к открытости: подобно новостным стрелам1, смех передавался от гостя к гостю, так что скоро уже весь дом был наполнен общим весельем. Мизирь сначала осторожно, а потом все проще и заразительнее, с удовольствием и даже с неким особым смаком, передавала дальше эту скорую эстафету. Уже не заботясь о возможном наблюдении, она напропалую плела небылицы, перемалывала слухи, несла всякую чушь, единственный смысл которой заключался в ее непрерывности.
Тем временем Аша приближался к небольшому постоялому двору на окраине Рамы, который, как и все гостиницы в городе, в тот день пустовал. Путники, входившие в город, видели это двухэтажное строение, обсаженное, в виде забора, кустами тамарикса, дикого винограда и несколькими пальмами.
«Свет, му́лы, овес, насы́пь и зажги, свет, му́лы…» – всю дорогу Аша твердил про себя слова, которые должен был сказать хозяину постоялого двора. Мысли его сбивались. Он воображал, как будет докладывать Сихоре о Самуиле и его рослом любимце. Все путалось, терялось. Аша начинал злиться – на себя, на безлюдность, даже на промозглость ночи.
Потеряв всякую надежду заполучить постояльца, хозяин двора даже не удивился, увидав запыхавшегося посетителя.
– Весь город в доме у Самуила. Если ты туда не пойдешь, то можешь выбрать любую понравившуюся комнату. Возьму недорого. На ужин остался кусок баранины и вино, – сказал он пустым, без настроения, голосом, словно перед ним стоял не сам человек, а его полуденная тень.
– Насыпь своим мулам овса, а для меня зажги во дворе лампу, – воровато оглядываясь, произнес Аша.
Содержатель гостиницы вдруг весь переменился, пристальней вглядываясь в скрытого темнотой путника.
– Проходи, – сказал он участливо, – я уже и ждать перестал. Думал, до утра у Самуила останетесь. Проходи, хозяин ждет тебя. А где твой напарник?
Аша не ответил.
Спотыкаясь на каждом шагу, хозяин гостиницы провел его вдоль обветшалых стен, мимо хлева, откуда в ту минуту доносились ослиные крики. Пахло простоянным сеном. Мирное дыханье ночи никак не предвещало предательств или заговоров. Звезды висели перезревшими гроздьями, налитыми золотистым вином. Где-то неподалеку (не на городской ли площади?) одиноко шумела струйка фонтана.
Некий человек (или косматое – именно косматое, хотя что-либо разглядеть было совершенно невозможно, – животное), завернутый в пастуший балахон из дубленой верблюжьей кожи мехом наружу, сидел на полу посреди просторной комнаты. Казалось, он глубоко спал, тяжело дыша. На столе, рядом с занавешенным окном, догорала переносная лампа. Больше в комнате ничего и никого не было и, если не брать во внимание закутанного человека (или животное), то можно было подумать, что жилище необитаемо или что хозяин постоялого двора ошибся дверью.
Хоть Аша никогда и не видел купца в пастушьем тряпье, а его взгляд привык к роскошным расписным золотыми нитями шелковым халатам своего кормильца, каким-то внутренним чутьем, особым нервом, что отвечает за страх и опасность, соглядатай сразу понял, что перед ним Сихора.
Хозяин гостиницы, оставив на столе заправленную лампу, унес старую, на цыпочках выйдя и без скрипа затворив за собой дверь. Аша встал на колени. Склонив голову, он решил ждать, пока не проснется хозяин.
Время шло, вздрагивая в лампе кошачьими языками пламени. Сихора, как и прежде, дышал тяжело, то и дело разряжаясь увесистым, клокочущим изнутри храпом. Аша не смел поднять головы. Зная причуды кормильца, он был уверен: на самом деле Сихора зорко наблюдает за ним, проверяя его на стойкость и выдержку.
Наконец Аша решился – чуть слышно кашлянул, отчего им овладело трижды проклятое оцепенение, сродни чувству стыда. В который раз он – бывший виночерпий – старался подавить это оцепенение, однако все в нем сжималось, перехватывало дыхание, руки его холодели, и он не мог сказать ничего внятного. Слуга снова собрался с силами, но кашлянул, как ему показалось, даже тише, чем в первый раз. Заливистый храп вдруг прервался, захлебнувшись. Верблюжий балахон закачался:
– Ваал-Зевул, повелитель! – очнулся Сихора, щелками глаз посмотрев сначала на огонь, а потом на склонившегося слугу.
Виночерпий так и не понял, на самом ли деле спал Сихора или все же дождался, когда он – Аша – не выдержит и проявит слабость.
– Гости долго ели и пили, – сбивчиво и несмело процедил слуга. – Мизирь осталась в доме, а я…
Глаза Сихоры сверкнули. Сырость, бряцание казематных ключей: Аша вдруг с ужасом вспомнил, где и когда испытывал подобное! Каждый, кто когда-либо встречал Кир'анифа, хорошо знал этот холодный свет. Сихора – слуга и ученик верховного – всю жизнь, сам того не замечая, перенимал привычки, жесты, а постепенно – мысли и даже душу жреца: лабиринты, неожиданные повороты, выходы, затянутые паутиной.
– Кого выбрал Самуил?! – злобно, по-змеиному прошипел Сихора. От нетерпения у него часто задергалось веко.
– Самуил пока не объявил волю Яхве…
– Ты в своем уме? – Сихора перебил соглядатая, хлопнул себя по коленям, отчего тяжелый балахон повалился на пол. – Или ты, рожденный в земле пеласгов, думаешь, что Бог Израильский, а не человек…
Сихора не договорил. Он встал и увесистыми шагами приблизился к Аше. Это не предвещало ничего доброго.
– Был на празднике Саул?! – взревел Сихора. – Был?! Или тебе нужна Массифа, чтобы убедиться, что царя поставляет не Бог?
«Он не спал!..» – молнией пронеслось в голове слуги.
– Сегодня же ночью, – Сихора не говорил, а со всего маха вбивал гвозди, – ты помчишься в Гиву. Найдешь дом Киса, отца Саула, и словами или золотом сделаешь так, чтобы он выведал у рослого красавчика волю этого горе-судьи. Стань его другом, его братом, его наложником, второй его половиной! Пусть он думает, что он сам хочет поведать тебе всю подноготную своего пасынка.
Сихора замолчал. По-старчески съежился. Все его величие вдруг стало жалким, уязвимым. Он отошел к стене. Аудиенция была окончена. Аша попятился к выходу, стараясь дословно запомнить наказы хозяина, чтобы чего доброго не пришлось переспрашивать. Подобные оплошности Сихора не прощал. Сихора… Аша не видел, как, сгорбившись, этот великий, грозный и властный Сихора дрожащими щипчиками снимал теперь нагар с замасленного фитиля.
* * *
Гости в хижине Самуила, забывшись сном, затихли только под утро.
Непролазный чад, запах снеди и пота – густым туманом в застоянном воздухе. Оборотная сторона праздника! Сухие дюны с перекатывающимся чертополохом. Последние капли драгоценной влаги.
Мизирь лежала ничком на полу рядом с каким-то бритым здоровяком. Одна его рука мертвым грузом давила на ее плечо. Головная боль и ломота во всем теле разбудили белошвейку. Некоторое время она напрасно пыталась вспомнить хотя бы что-нибудь из произошедшего прошлой ночью. С трудом сбросила с себя тяжесть набитых железом мышц. Поднялась на ноги и, качаясь, опрометью выбежала во двор. Вчерашнее веселье потоками желчи рвалось наружу, сотрясая ее измученное, окоченевшее тело.
Умывшись, Мизирь почувствовала облегчение.
Тихо и незаметно рассвет оставлял повсюду свои розовые ленты. Это простое зрелище так увлекло Мизирь, что она едва не упустила из виду вышедших из дома судью и его рослого красавца ученика. Позади них осторожно ступал, стуча перед собой палкой, слепой солдат. То, что это был именно солдат, белошвейка определила сразу: не раз ей приходилось видеть на мужчинах точно такие же серебряные браслеты. Притаившись, она поспешила за ними, мысленно благодаря Астарту с похмельным Дагоном за подвернувшуюся удачу: «Не Аше достанется слава. Купец щедро заплатит мне за труды!».
Сихора не раз рассказывал Аше и Мизирь о всех приближенных Самуила, в том числе и о Сауле как о возможном претенденте на царство. Служанка сразу узнала его – вчерашнего юношу, с которым Самуил удалился на кровлю. Многие – вспоминала она – еще посмеивались, говоря между собой, что так судья предпочитает провести последнюю ночь своего судейства…
«Выше него, – служанка проговаривала про себя слова Сихоры, – нет никого в Израиле! Разве только из пеласгов».
– Да, да, – твердила она, глядя на рост Саула и прячась за выступы домов, – это он!
У самых городских ворот судья что-то сказал солдату, и тот, выходя из города, пошел уже один. Забыв обо всем и стараясь не делать лишних движений, Мизирь с замиранием сердца и ужасом смотрела, как Самуил откупорил рог. А дальше – золотистые масляные струи, благословения судьи, скорый и такой непонятный побег юноши. Виденное глазами – загородный пустынный пейзаж, раннее утро… – шло вразрез с происходящим. «Саул – помазанник!» – стучало в висках откровением, немыслимой очевидностью. Мизирь стояла огорошенная, уже не заботясь, увидит ее кто-нибудь или нет.
Они поравнялись с Самуилом (вероятно, он принял ее за горожанку), разминулись. Белошвейка вышла за ворота. Она видела, как Саул приблизился к солдату, взял его под руку и вместе они продолжили путь.
Сначала Мизирь размышляла о том, как и в каких словах передать увиденное Сихоре. Но потом у нее возник другой план.
– Купец мне больше не господин! Прощай, Аша! Прощай, филистимское прошлое! – поспешала она за удаляющимися силуэтами израильского царя и его слуги.
2
Гива! Гива! Вениаминов холм, увиденное во сне взгорье2. Сладкая, близкая сердцу явь. Забуду ли что подаренное тобой? Отцовские пастбища тянутся до горизонта, где начинается новое, неизведанное. Родное, предвечное – здесь. Наследие мое, сила моя. Где бы я ни был. Однажды забудусь, не хватит воздуха. Другие наступят на след мой. Протоптанными пойдут тропами. Исхожена ты от ворот до колодцев, от уличных изгибов до загородных застав. Гива! Над всей окрестностью вознесена – колыбель, измученная роженица. На полях твоих окрепла душа моя. Куда теперь гонишь? Ангел мой, матерь моя – Гива!..
Дом Кисов располагался на самой вершине города. Каменные толстые стены в несколько этажей, пологая крыша, многочисленные лестницы, террасы. В сад выходило большинство окон, тогда как снаружи дом оставался неприступной крепостью. Кто, проходящий мимо, в сердцах или вслух не мечтал поселиться в ней! Редким счастливчикам удавалось побывать внутри, увидеть собственными глазами немыслимое великолепие фонтанов и разноцветие красок, услышать звонкоголосых птиц, насладиться дурманом ароматов. Богатства Кисова дома стали мифом. Про них складывались легенды. Говорили, например, что Кис ходит по начищенным зеркальным полам. Многим не терпелось насочинять, что именно так он подбирает для себя спутниц – через отражение заглядывая под их длинные одежды. Еще рассказывали, будто на одном из деревьев в его саду всегда зрелые плоды и что в любую погоду на нем поет диковинная птица, похожая то на одну, то на другую девушку, которую выдают замуж. Кому-то даже якобы удавалось тайно проникнуть в этот необыкновенный сад, увидеть это сказочное дерево, услышать редчайшее пение птицы и узнать в птице знакомую девушку, что вот-вот должна была покинуть отцовский дом.
Правда это или выдумки, дом Киса оставался главной городской достопримечательностью, источником россказней и прибауток. Сам Кис про славу своего жилища, конечно же, знал и всячески способствовал распространению самых нелепых слухов.
Что же касается Саула, то нравом он был прост и, вместо того чтобы прожигать с друзьями отцовское состояние, целыми днями пропадал на пастбищах, досматривая за бесчисленными стадами. Играл для четвероногих своих приятелей на псалтири, хотя для людей петь стеснялся. Готов был драться за каждого вверенного ему ягненка, однако за человека едва ли когда вступился бы. Застенчивый, далекий от мира и сплетен, от худых и толстых кошельков, от сиюминутных радостей и ежедневных попечений, он был диковат и прям. За нанесенную обиду мог мстить отчаянно, с неуемным запалом. Саула и любили, и сторонились. Порой и вовсе нельзя было сказать, что у него на уме: вроде ходит и говорит как все, а потом вдруг остановится и посмотрит не своим – чужим взглядом. Кис догадывался, отчего горожане косо смотрят на его сына.
«Самуил, – говорили многие и при этом трижды плевали в сторону Силома, – да, да, Самуил и его сумасшедшие пророки повредили Саулову душу. Если бы мальчик не кликушествовал с этими бездельниками…» – и качали головами, с нескрываемой завистью глядя на красоту, рост и силу Саула.
Сколько раз пробовал Кис оправдать судью, не находя в его заботе о сыне ни погрешностей, ни вины! Все тщетно: Киса обвиняли в бессердечности и слепоте перед очевидным.
«Богатство, – разносилось по городу, – затмило ему глаза так, что и грубую землю, и нечистоты он готов называть золотом».
«Богатому, если он не беднеет, все по совести».
«Священники не лучше: Кис им шекели, а они ему – полоумного сына».
С тех пор поговорка (ее уже знали во всем Израиле) о том, что неужели и Саул пророк, приобрела другой, совсем противоположный смысл. Теперь так говорили, когда речь шла о человеке талантливом, красивом или богатом, но который стал неразлучен с вином, погорел, покрылся язвами или вмиг обнищал. На Саула показывали пальцем, приводили его в пример молодым людям, намеревающимся последовать за пророками. Многие знатные семьи сватали за него своих дочерей, но вскоре свадьбы расторгались по непонятным причинам: то будущие невесты заболевали в самом преддверии торжества, когда гости уже готовили и примеряли свои белые одежды, то сам Саул не являлся в назначенный день. Обиняки сыпались на голову Киса, в сторону Самуила и «его пророков» летели проклятия, Саула же называли не иначе как лишенным разума пастухом.
«Это ж надо, – трясли над собой руками взбешенные отцы, – не прийти на собственную свадьбу! Ты, Кис, не только плохо воспитал сына, но еще и опозорил свой род, потому что лишь моя Цилла могла согласиться на такого никчемного мужа».
Кис отводил взгляд. В такие минуты даже самая богатая одежда в мире, увы, не скрыла бы его отчаяния и позора. Поступки Саула делали его несчастным. Иногда Кис жалел о том, что забрал юношу из дома Самуила, назвав его своим сыном и тем оставив ему в наследие дом, пастбища, а главное – память.
«Но как, – негодовал он, – сохранит Бог память в потомках его, если Саулу нет никакого дела до продолжения рода?!»
Прежняя его любовь остывала. Между отцом и сыном образовалась сначала едва заметная расщелина – засы́пать которую, казалось, можно было и немного погодя. Затем расщелина углубилась и начала проваливаться, образовав небольшой котлован, как от упавшего в рыхлую землю тяжелого камня. Еще можно было перескочить его, повесить над его чернью мост, но чем дальше, тем эта задача казалась все более невыполнимой – да и ненужной. Каждый оставался на своем отрезке, глядя на другую сторону как на нечто противоположное и чуждое. Теперь, когда Киса спрашивали: «Где сын твой и как найти его?» – он отвечал или словами Каина, или хранил тревожное, а спустя годы – безразличное молчание.
* * *
Полуденное солнце развороченным осиным гнездом одаривало округу жужжащей зыбью. Аша подходил к дому Киса. Вокруг него блеяло с десяток отборных овец. Чтобы выведать, что же открыл судья Саулу, слуга Сихоры из виночерпия решил сделаться пастухом, пасущим свои стада неподалеку от Кисовых.
Привратная стража даже не посмотрела в его сторону – мало ли кто приходит на поклон к господину. Однако в сам дом Ашу не пустили, поэтому он дожидался Киса снаружи, во внутреннем дворе. Когда вышел седобородый, рослый Кис, лицо Аши осветилось надеждой. Его предупреждали, что иногда люди по многу дней дожидаются беседы с господином, поэтому отлучаться – на постоялый двор или по девкам – не советовали. «Займут твою очередь, потом доказывай, что стоишь уже с неделю!»
Аша был готов ко всему – к вынужденным лишениям, к ссорам с соседями-просителями. Ко всему, но только не к такому скорому появлению господина. Новоиспеченный пастух растерялся. Поклонился, переводя дух и все еще не веря своему счастью.
– Твои овцы отбились от стада, – начал он говорить заученный текст, но от волнения выходило коряво, – и раб твой привел их и поставил их перед глазами твоими.
– Разве не Саул досматривает за пастбищами? – удивился Кис.
– Саул, Саул, – согласился Аша. – Но после того, как он вернулся от Самуила…
Кис строго оборвал его, будто на всем скаку осадил мерина:
– Что ты знаешь о Самуиле и кто ты такой?
Виночерпий пролепетал что-то нечленораздельное, но Кис уже не слушал, махнул страже, и та поволокла беднягу под руки в приемную господина. Аша не сопротивлялся – то, чего многие добивались через связи или путем длительного ожидания, для него открылось вдруг и без особых усилий.
– Благодарю тебя, что согласился выслушать раба твоего, – затараторил слащавым тенорком Аша, когда они остались наедине. – О, несчастный из несчастных отцов!
Кису показалось, что он ослышался.
– Или солнце слишком напекло тебе голову, или ты бредишь, называя меня несчастным.
Аша, как это часто делал Сихора, потер рука об руку, весь выпрямился, но снова сгорбился в знак своего полнейшего умаления. От переполнявшего его восторга он заморгал и громко проглотил клейкую слюну. Кис отвечал так, как он и предполагал!
– О, великий Кис, больший из вениамитян! Пусть высохнет в белой проказе мое тело, а дух мой пусть не вернется из ночных блужданий, если я наговорил на тебя… Я был в доме Самуила на званом пире…
Кис насторожился. Прежнее его желание всыпать этому наглецу двадцать ударов сменилось любопытством.
– В какой-то момент, – с жаром продолжал Аша, – Самуил объявил, что для избрания царя Бог снова созывает Свой народ в Массифу.
– Ты филистимлянин, – смутился Кис. – Отчего язык твой говорит о Боге и об Израиле, словно они дороги тебе?
– Да, – ничуть не сбившись, виночерпий снова согласился, видимо слыша подобное не однажды. – Родители мои не знали веры твоих отцов, и глаза их не созерцали пастбищ, известных тебе с детства. Но я так долго живу в земле меда и молока, что не помню ни обратного пути в Пятиградье, ни имени оставленных мною богов. Яхве стал покровом моим, Его обетованиями полна душа моя.
Слушая, Кис одобрительно кивал в такт словам Аши, вспоминая, что не только евреи стали наследниками обещанной Аврааму земли, но и другие народы, вышедшие с ними из Египта.
– Продолжай, – велел он. – Расскажи мне все, что видели глаза твои.
– На званом вечере я сразу приметил рослого, как ты, юношу. «В Пеласгии, – подумал я, – встречаются такие великаны, а для Израиля это редкость». Самуил разговаривал только с ним. «Принеси, – позвал он повара, – ту часть, которую я дал тебе, чтобы ты отложил ее у себя». Гости зашептались между собой, как некую тайну передавая друг другу: «Это Саул, вениамитянин, сын знатного Киса!». Твой сын смущался и краснел от такого внимания к нему. Потом Самуил, сославшись на усталость и опершись на Саулово плечо, удалился на кровлю. Одни говорили о похожести их имен3, другие жалели о своих сединах и о том, что не осталось никого, кто бы вот так был рядом. Но больше перед именем Саула, затаив дыхание и с видимым недоумением, произносили немыслимое: «Царь»!
Кис не перебивал, не переспрашивал – слушал, как слушают ручей или пение овсянки. Эмоции были чужды этим слезящимся от старости и пустынного ветра глазам. Аше показалось, что Кису было абсолютно все равно. «Царь, ну что ж, пусть царь. Мне-то что до этого?» – говорило его лицо. И если бы ему принесли вести о гибели Саула, Кис точно так же напоминал бы глиняного божка – глухонемого и безучастного.
– Итак, – неожиданно спросил Кис, – ты пришел рассказать мне об овцах, отбившихся от стада, или о сыне моем?
Слышно было, как за дверью сновала туда и обратно прислуга. Запахло обеденной снедью. В тенистом саду устраивали лежаки, взбивали подушки. Музыканты с танцовщицами в любую минуту готовы были начать – завораживать трелями своих голосов, виртуозной игрой на инструментах, гибкими телодвижениями.
Но Кис и не ждал ответа.
– Ты хитрый слуга, – сказал он. – Ты выдаешь себя за пастуха, хотя одежды твои не пахнут полями и шерстью. Не знаю, прислал тебя Самуил или еще кто, но просто так тебе не уйти отсюда.
От волнения Аша расплылся в туповатой ухмылке. Хозяин дома набросил на плечи легкий халат и направился к выходу:
– Останешься здесь, а после обеда я решу, что с тобой делать.
Дверь, обитая железными шипами, захлопнулась. «Смотрите, чтобы не проскочил!»
Не стражников копья – Кисовых слов гири ударили о каменный пол. Аша остался один, не зная, оплакивать ему свою бедную, пропавшую зазря голову или еще повременить.
* * *
После гибели Авиила и его жены при Афеке Кис взял Нира, а потом и Саула на воспитание в свой дом. Долгие годы, пока Саул жил при скинии, Кис считал Нира единственным выжившим в той памятной войне. Мальчик скоро превратился в статного юношу – высокого и красивого лицом. Кроме того, Нира украшали доброта, сострадание, чувство меры и справедливости. Он мог один работать за нескольких сильных наемников. Собирал пшеницу, возил урожай на ток, колотил цепями, веял, вращал тяжелое мельничное колесо. Нир не знал покоя, откладывая на потом посиделки с друзьями. «Вот, – говорил он по-хозяйски, – набьем закрома хлебом, тогда будет и отдых, и веселье!»
Кис не мог нарадоваться, глядя на серьезного не по годам племянника.
«Бог не дал детей, назову Нира сыном, сделаю его наследником дома моего, и так останется о брате моем Авииле и обо мне память в Израиле».
Однажды случился неурожайный год, и Кис, подобно Иакову, отправил Нира с небольшим караваном на север – к подножью горы Фавор. «Там бедуины-перекупщики. Среди прочего товара у них всегда есть хлеб. Пойди, выторгуй у них столько зерна, сколько смогут унести горбы моих верблюдов».
Прибыв к вечнозеленым фаворским долинам, Нир не задумываясь менял шекели на пшеницу, помня слова Киса о том, что никакое золото не перевесит хлебной лепешки. За все долгое и далекое путешествие караван Нира не ограбили разбойники, встречавшиеся на дорогах не реже, чем мирные путники. Никто из рабов не заболел, не покалечился. Спустя одну полную луну, когда все домашние уже начали беспокоиться, Нир вернулся с тучными тюками хлеба. Еще издали мальчишки увидели запыленную даль и стремглав помчались к белым стенам Кисова дома. Весь город собрался тут – шутка ли, из такого далекого и опасного путешествия вернулся невредимым (да еще с такой поклажей) наследник первого богача! Жены, стоявшие в толпе, попрекали мужей: и толстосумы, мол, работают и за хлебом ездят, а моему бы только сикеры меньше не стало!
После того как отец с сыном обменялись приветствиями, Нир подвел к дому сидевшую на верблюде женщину. Она была завернута в длинные бедуинские куски белого самотканого льна.
– Отец, – сказал Нир, – ее зовут Цфания. Родитель ее – простой и незнатный, во владении его небольшое поле земли вблизи Фавора. Это его хлеб, и спасением от голода и разорения мы обязаны ему. Но теперь позволь сказать другое…
Кис замешкался: что-то непоправимое читалось в опущенном взгляде этой женщины. Она как-то уж слишком отличалась от девушек, которых вводили в другие дома, покрывая их детские головы прозрачной фатой.
– …Для меня, – продолжал Нир, – твой дом тоже некогда был чужим, позволь же и ей обрести здесь покой и полноту жизни, сделавшись тебе дочерью, а мне – женой.
Так неожиданно, так коротко, так отчаянно! Кис стоял, опустив голову. Самое худшее уже случилось: Нир прилепится к молодой жене, Саул – к странствующим пророкам и послушным стадам, а он один останется доживать нерадостные дни.
Наполненный праздным людом двор словно опустел. Безликие тени ходили, перебегали с места на место, и он лишь по привычке продолжал называть их по именам или роду занятий.
Ни в тот день, ни после дом уже не был прежним. Внешне, как и раньше, все оставалось на месте: Кис занимался с утра до вечера хозяйством, распоряжениями, сделками с торговцами и караванщиками; Нир, женившись, поселился с Цфанией в отдельной пристройке; Саул неделями, а порой и целыми месяцами пропадал в полях, где за дуновением сухих ветров, за мычаньем волов и за козьим блеяньем не было слышно житейской суеты.
Ежеминутно Кис без остатка отдавался работе, чтобы не видеть и не чувствовать: всё, что он считал обетованием и благословением, безвозвратно рушилось. Нир и вовсе перестал показываться ему на глаза, а невестку свою он только однажды видел после свадьбы… Как-то вечером она прошла рядом. От Цфании веяло чем-то затхлым, паленым, а на ее шее ожерельем висели нанизанные на бечевку петушиные гребни. Киса (будто он встретился лицом к лицу с мертвецом или услышал голос из подземелья) невольно обдало холодом. Он пытался поговорить с Ниром, но все тщетно. Сын только ухмылялся – мол, не стоит возводить напраслину на недельного ягненка.
– Разве ты не видишь?! – негодовал Кис. – Она ходит по ночам на высоты! На глазах твоих бельма, хотя и говоришь, что видишь.
– Отец, – возражал ему Нир, – она жена моя, а не Астартова жрица. Или после твоих подозрений мне выгнать ее? А может, ты этого и хочешь? Выжить нас? Саулу – далекие стада, а Ниру – попутный ветер?
Кис уходил, рвал на себе одежды, обливался слезами, молил Бога простить и вразумить ее. Однако, сначала как бы случайно, а потом и явно, в доме стало происходить необъяснимое. Все – и Кис и прислуга – заметили, что некоторые вещи странным образом то перемещаются, то вовсе пропадают, а спустя какое-то время снова появляются на своих прежних местах. На стенах, на полу, на потолке – раньше такого никогда не было! – появились подтеки, темные пятна, похожие на лужицы пролитого вина или… крови. А однажды во флигеле для прислуги сразу у трех рожениц случились выкидыши. Видом синих бездушных существ омрачился тот день. Стали поговаривать о ворожбе и косо поглядывать на пристройку молодоженов. И днем, и ночью их окна были занавешены. Туда не входили – боялись! – рабы. Нир всячески увиливал, не пуская Киса дальше порога. Он изменился: не видели его больше ни на полях, ни с вилами, ни с сохой. Хлеб кое-как убирали наемники, оставляя на хозяйском гумне лишь часть урожая, а все остальное растаскивая по своим норам и торжищам.
Если днем еще в доме было шумно от посетителей и всякого просящего или торгующего люда, то вечерами и по ночам это богатое нагромождение каменных стен превращалось в оставленное подземелье, населенное призраками и далекими воспоминаниями. Кис запирался у себя и до первых лучей, когда уже не пахли ночные цветы, ходил или сидел, чувствуя, как начинает коснеть его тело. Оставался недвижимым, ни о чем не думая, не засыпая.
С рассветом бледность сходила с его лица, но пустота, сравнимая с тоской самоубийцы, все больше впечатывалась в глаза, очерчивая их темными полуободами. Он отправлялся по своим обычным делам. Как на жертву – с рвением и без оглядки – набрасывался на любое занятие, будь то мелкие распоряжения по дому, званые обеды и прочее, только бы отдалить хоть на сколько-нибудь ночное бдение-забытье.
3
В то утро Мизирь бежала за Саулом и Иеминеем до самых ворот Гивы, оставив преследование лишь у городского колодца. Расспросила женщин, выходивших черпать воду. Узнала, что «молодой исполин» живет в доме отца своего Киса, но бо́льшую часть времени проводит на пастбищах, досматривая за стадами коз, коров и ослов. А солдат – его верный слуга.
Подниматься в город было задачей не из простых. Расположенная в нескольких милях от патриархального Салима, Гива стояла особняком от соседних с ней Рамы и многих кочевых поселений. Удобная точка для наблюдения. Мало кто из недругов решался на осаду небольшой Гивы. Про нее говорили: «Орлиное гнездо», «Соседка небесным светилам», «Чтобы одолеть гивян, надо иметь крылья».
Но если подниматься в город было не легко, то вниз дорога вела вдоль хлебных посевов, а оливковые с гранатовыми деревья дарили за так щедрые островки тени. Через Гиву проходили все, кто шел с северных Голанских высот в южную Вирсавию с ее вечными хамсинами и огнедышащей Негев, с восточных земель Аммона на запад к разбитым филистимлянам.
Не заходя в Гиву, Мизирь для начала отправилась в Галгал – в дом Сихоры, где столько лет была слугой, приживалкой, наложницей. Уже к полудню она дошла до границ колена Вениамина, а с наступлением сумерек стояла перед долиной священного Галгала. Не ощущала она ни истоптанных до кровавых мозолей ног, ни жажды, ни голода. «Аша транжира, – шептала она, подходя к домовой стене (там под камнями, прикрытый кустами шиповника, был вырыт потайной лаз). – Тратил на горькое вино медные шекели – крохи! Сихора – вор! Одаривал нас безделушками – а то и побоями! Вспомнит он свою Мизирь, когда хлопнет в ладоши, но никто не прибежит на зов его!»
Она огляделась: не люди – безлунная и беззвездная ночь была ей самым верным союзником, скрывая от случайных прохожих ее истрепавшийся в дороге хитон. Осторожными движениями Мизирь раздвинула колючие заросли. «На месте! Никто не засы́пал, слава богам!» Пролезла сквозь узкий проход, зацепившись за терновник и чуть не вскрикнув. От страха быть в любую минуту настигнутой стражей она часто дышала, слыша каждый предательский удар своего заячьего сердца. «Только бы выбраться целой из этой чертовой переделки!»
Лишь перед главным входом горели факелы и слышалась перебранка ночной стражи. Мизирь хотела уже было выйти из укрытия и пуститься наощупь по неосвещенным дорожкам, которые – знала она – привели бы ее к другому входу, предназначенному для прислуги. «Там нет этих шнырей, можно будет отсидеться». Но не успела она выйти из кустарника, как в нескольких шагах от нее прошли двое стражников. В руке у каждого на цепи болталась масляная лампа.
– Ночь что зубы у нашего десятника, – сказал один, размахивая огнем.
– Это точно, – осклабился другой, – такая же черная и кривая! Ха-ха!
Мизирь даже показалось, что с одним из шедших они встретились взглядами. Белошвейка замерла, вся словно высохла, слилась с кустом шиповника, стала его частью, отростком. Она вдруг позавидовала не пышным женам царей Моава и Амалика, а придорожному камню.
«Мимо него пройдут не остановятся, не посмотрят», – твердила она про себя заклинанием.
Мгновение продолжалось и продолжалось, соединив никак не связанные обычно между собой стрекот цикад, кожаные шлемы и серебряные браслеты солдат, впившиеся в спину шипы. Камни, дорожная пыль, заветный кошель с нерастраченными монетами…
Каким-то чудом солдаты не заметили ее. Мизирь отдышалась, и все еще не веря в успех своей ночной вылазки, без оглядки побежала к прислужному входу: «Мимо пройдут, не остановятся, не посмотрят…».
За столько лет – монета к монете – скопленный скарб. Старая кладка, необожженный кирпич. Мизирь без труда отыскала схороненные деньги. Ей заново представились все лишения и унижения, которые пришлось перенести. Теперь все позади. Отныне этот небольшой самотканый мешочек являл собой беззаботное завтра и безбедную старость. Оставалось выйти из дома незамеченной, сменить одежду и – имя. «Другая жизнь, полная перемен и опасностей» – ступала она словно по воздуху, переждав, пока стража еще раз не обойдет вокруг дома.
Потом все произошло как в полусне: кусты шиповника, знакомый лаз, безлюдная улица, городские ворота и, наконец, дорога, ведущая назад в Гиву.
Понемногу Мизирь пришла в себя. Россыпи звезд висели над ней огнями неведомого небесного города. Пронизывающий холод, блаженное одиночество, расстояние – впервые в жизни она ничего не боялась. Как уже наступившее завтра, крепче сжимала она кошель. После зимних ливней дышалось легко и морозно.
К утру белошвейка добралась до Гивы, остановившись на постоялом дворе. До самого утра она не гасила в комнате свет: перебирала вещи, что-то подшивала, что-то перекраивала. На рассвете хозяин гостиницы, приняв ее за нищенку, даже не взял платы.
Выйдя с постоялого двора, она направилась к дому Киса. От ее вида шарахались в стороны. «Пророк Божий!» – летело ей вслед. Для пущего вида она размахивала руками, бормотала под нос, выкрикивала то и дело ничего не значащие слова.
Кису тут же доложили: на пороге один из кликушествующих странников спрашивает Саула. Печально и как-то рассеянно отдав распоряжение о покосившейся черепице сарая, Кис никак не отреагировал на весть о пророке. «Снова вы говорите мне, что западный ветер дует с моря» – читалось в его взгляде.
Пророков чтили, боялись или шарахались от них. А потому – из страха, а может, и уважения – простоволосой «пророчице» все же сказали:
– Саул недалеко от города, на ближайших пастбищах. Ты просто отыщешь его играющим на псалтири или вытачивающим древко копья. Зачем он тебе? Или хочешь увести его в пустыню, чтобы глаза Киса совсем – хоть изредка – перестали видеть сына?
Мизирь ничего не ответила. Насмешки с камнями сыпались ей в спину. «На ближайших пастбищах» – выходила она из города, вдыхая долгожданную свободу, перемешанную с нежными весенними ветерками, и – «Ахиноамь!» – вслух произнося свое новое имя.
1
По всей стране были размещены гарнизоны. Важные новости передавали от заставы к заставе: днем – перебежками, ночью – кострами или (в любое время суток) стрелами с особыми наконечниками. Надрезы или привязанные ленты, а также цвет, размер, форма и т. д. означали опасность (наступление врагов, непогоду), просьбу о помощи, начало нового месяца, праздников, постов и т. п. Таким образом новости доходили достаточно быстро: можно было послать сообщение на другой конец страны и получить в течение нескольких часов ответ.
2
Гива – «возвышенность» (евр.).
3
Имена пророка и царя связаны семантически: Саул (шауль, «испрошенный») является частью имени Самуил (шауль меЭль, «испрошенный у Бога»).