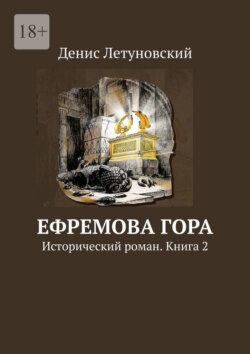Читать книгу Ефремова гора. Исторический роман. Книга 2 - - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
БРАТЬЯ
ГЛАВА ВТОРАЯ
Оглавление1
Небо вот уже несколько ночей подряд оставалось чистым. Ни облачка. Щедрыми жменями рассыпанные созвездия мерцали будто в речной глади; то там, то здесь срывались косые росчерки комет, таща за собой – беличьи с лисьими – хвосты. Так же внезапно они исчезали в наполненной, обитаемой черноте, что начиналась сразу за тлеющим хрустом сухих веток – нехитрым костром кочующих пастухов.
Ночь заполняет, выравнивает дневные зигзаги. Кроме догорающих углей и блеющих неподалеку коз, ночью ничто более не отвлекает. Можно, улегшись на постеленной шерсти, забыться, не произнося ни слова и, не дыша, смотреть, смотреть… Даже закрыв глаза. Сквозь теплое потрескиванье ветоши, сквозь запах дыма и жареной саранчи слышится еле уловимое вздрагиванье медных колотушек на шеях животных. Тогда все в округе наполняется самым глубоким и сокровенным смыслом: бреющий полет ночных птиц, пузырьки вскипающего молока, запах собственной одежды, влажность росы, сонное бормотанье Иеминея.
Ночные размышленья всегда приносили Саулу радость, но теперь мысли доводили его до отчаянья. «Почему именно я!?» – глядел он впереди себя на бескрайние миражи, на силуэты, всполохи костра, на россыпи звездных топазов – молчаливых и безучастных.
После его помазания прошло несколько месяцев, но от Самуила не было никаких вестей. Говорили, что он живет, как и жил прежде: ходит судить народ в Галгал и Вирсавию, а потом возвращается к себе в Раму… Словно судья забыл о нем.
«Царь израильский! – Саул подбросил хворосту в тлеющий огонь. Иеминей дремал, сидя, опершись на дорожный посох. То и дело из темноты вздрагивали медные бренчанья, доносилось небрежное блеянье. – Что мне делать? Никто даже не знает, что Самуил… Народ ждет, когда судья снова созовет всех в Массифу, чтобы объявить наконец волю Яхве… Никто не знает, что воля Его уже… Я?!.»
Костер вспыхнул, затрещали отсыревшие сучья. В запертой, наглухо задраенной темноте раздался вороний окрик. Саул вздрогнул оттого, что вместо картавого карканья, вместо шипенья еловой слезы услышал: «Кис-с-с!» – имя отца. Внезапной тенью промелькнуло оно, всполошив недавние воспоминания… После того как Саул вернулся из Массифы, отец все не отставал от него: хотел выведать волю Самуила… Однако к тому, что ослицы его нашлись, Саул не посмел ничего прибавить. Стушевывался, бормотал – только бы не сказать, не намекнуть о страшном, о непроизносимом, о сокровенном.
«Царь? Скажи я им, что я их царь, они бы меня на смех подняли, а если бы и поверили… Разве такое возможно? Вот я родился, рос, все в округе видели меня мальчиком, потом юношей… Слыхано ли, чтобы вот так из дворового пострела – и царь! Лучше уж овец пасти, как и всегда пас, чем такое… Самуил не спросил – благословил, после чего ни слова, ни наставлений. Как править? Кем править? С младенчества рука моя не держала тяжелее оружия, чем праща. Филистимляне, увидев такого царя, побегут с поля боя, только не от поражения, а чтобы позвать и другие народы посмотреть на израильского помазанника. И посмеяться! „Придите, мол, посмотрите – безбородый отрок правит землей меда и молока!“ Самуил продолжает судить народ! Для чего ему тогда понадобился еще царь? Хороша потеха! Не знает ли он, что Вениамин – наименьший из всех колен? Или Бог открыл ему погибель мою от лица людей?»
Саулу вспомнился Нир. Некогда они были близки с братом, но после войны при Афеке и долгих лет жизни в Силоме многое переменилось, пошло не так, как мечталось в детстве, – иначе. Нир бен Авиил был старшим и по своему старшинству считался в доме мужчиной. За ним сохранялся неоспоримый авторитет. Многие льстили ему, предвидя в мальчике наследника богатого дома Авиила. Однако брат не возносился, всех – не только Саула – выгораживал перед отцом, заступался, не раз терпел незаслуженные – предназначенные другим – выговоры и затрещины. За то младшие братья и сестры называли его милостивым. «Наш брат милостив!» – кричали дети, едва завидев широко, как и полагалось первенцу, ступающего Нира.
«Где ты теперь, брат?..»
После штурма Афека Саул долгое время был уверен, что Нира он уже не увидит среди живых, как вдруг в Силом пришли Кис и другие паломники, среди которых он узнал повзрослевшего, возмужавшего… Встреча, долгие ночные разговоры, молчание, когда речь заходила о погибших родителях, и восторженные рассказы о любви и щедрости родственника их Киса, который посчитал своим долгом усыновить братьев, оставшихся без крова и без родных…
От налетевшей ночной сырости Саул закутался в козью шерсть. В причудливых плясках разыгравшегося костра он вдруг почувствовал приближение, и даже присутствие, чего-то недоброго, чуждого. Со всех сторон оно обступало, сдавливало, расставляло тут и там свои липкие сети. Из бесформенного, намотанного кое-как клубка оно постепенно превращалось в воспоминание, образ. Еще немного – и Саул смог бы назвать его по имени. Мучительно цеплялся он за названия предметов, блюд, припоминал запахи, цвета и звуки. То ему недоставало какой-то самой нелепой малости, чтобы наконец сказать, о чем он думает, то малейший шорох, похрапывание Иеминея сбивали его с верного направления, и он окончательно терялся, все больше и больше запутываясь, стараясь ухватиться за мелкие, не спасающие хворостинки, которые обжигали, мирно потрескивали в огне, превращаясь в угли, тускнея и рассыпаясь в пепел.
Саул сидел, не смея повернуть голову – зная наверняка: как только он это сделает, фантазия его тотчас же развеется, ускользнет золотистой рыбиной или упорхнет зажатой в ладони пичужкой. Снова же приблизиться к ней не будет уже никакой возможности. Наощупь перебирал он невидимые нити, по наитию оставляя в дрожащих пальцах лишь те, которые довели бы его до желанной цели. Из этих нитей – он слишком, почти физически ощущал их – можно было соткать походный плащ, венчальную хупу или саван.
«Саван, – проговорил Саул, проверяя на прочность это слово, которое стало вдруг продолжением его нити. – Сиван4… Месяц сиван приходит под знаком близнецов. Все верно – близнецы, братья! Сиван – время5. Много прошло месяцев. Нир, брат мой. Долгая разлука… Отчего стала между нами? Разлука. Разлучница… Цфания!!!6 – произнес он вслух имя Нировой жены, – украла ты потерянное, а потом снова найденное и потому вдвойне дорогое сокровище!»
Так после многодневного блуждания по незнакомым окрестностям, по лабиринту, неожиданно сворачиваешь вправо (хотя уверен был, что надо держаться левой руки!), и вот – долгожданный выход. Саул покачнулся, поднял голову, глядя на созвездие Близнецов – сверлящие, направленные на него наконечники стрел. «Цфания! Цфания! Вот кто разлучил нас. И впрямь говорят: „ведьма околдовала“!»
Что-то треснуло в темноте. Саул прислушался… Снова вспомнил стремительный, необъятный, даже огненный и вместе с тем спокойный и кроткий образ пророка: в ту ночь Самуил сказал ему:
– У царя не может быть ни братьев, ни сестер, ни матери, ни отца, ни жены, ни детей.
– Как? – спросил Саул. – А наследники? А утешение? А могила отца? А колыбель первенца?
– Все верно, – ответил судья, – но ничто из этого не должно быть выше царства, а царство – выше Бога.
– Но как царь, слушая Бога, станет управлять людьми, для которых Бог – звон и глина пустых истуканов?
– Царь на виду, все знают, где дворец его, каждый может сказать, как он выглядит и кто его военачальники. Про Бога такого никто не скажет, потому что не знают ни где Он, ни какое лицо Его – старое или молодое, мужское или женское, человеческое или подобное ветру. Оттого и кричат: «Поставь нам царя, и будем как другие народы!». Хотят быть как другие, но не знают самих себя, хотят держать в руках меч, но не умеют обращаться с ним.
Все казавшееся Саулу в ту ночь далеким теперь звучало по-новому. Если бы тогда он мог догадаться, что каждое слово судьи предназначалось ему! Наверно, Самуил рассказал, объяснил бы. «Ни отца, ни брата!..» Хорошо, если умеешь владеть этим мечом, а если нет… Так ведь можно и самому напороться.
Саул поднялся. Ноги его затекли и теперь гудели, рассыпаясь. Потрескавшееся стекло, тонкий и ломкий лед, под которым бегут юркие ручейки. Вставая, он задел и опрокинул мех с прокисшим молоком. Белые змеи вмиг заструились по сырому от ночного морока щебню. Словно ужаленный, Саул хотел отдернуть ногу, но не мог. Судорожное, резкое движение – и лед со стеклом разлетелись на острые, ранящие осколки. Саул не двигался – застыл, ожидая, пока пройдет минутный недуг.
От шума проснулся Иеминей.
– Ашера Матерь! – прорезался его заспанный старческий голос. – Среди ночи… Стада на месте – козий запах стоит перед ноздрями моими… – Каким-то только ему понятным способом слепец узнал Саула. – Маешься!.. Которую ночь не спишь. Суетное это все! Вздремни, тоска от пьяных и спящих сама убегает.
– Скажи, Иеминей, – Саул, вновь почувствовав свои ноги здоровыми, подсел поближе к солдату. – А страшно воевать?
Слуга привстал, оправился. Теперь его бельма смотрели прямо, а не наугад, как прежде, когда он еще не привык к слепоте.
– Раньше я бы ответил тебе «страшно» или «очень страшно», но после той ночи, при Афеке… – Ему сложно было говорить, но, чтобы не подать виду, он закашлял и, будто спасаясь от сырости, закутался в теплую, кусачую власяницу. – Я же тогда не воевал, не убивал никого, не бежал на смертоносные пики, не слышал победных кличей. Ничего, что мне приходилось видеть прежде. Но там было страшно, во сто крат страшнее, чем просто страшно. До седины и глубоких рытвин-морщин. Господь смирил глаза мои, но до сих пор мне снится грохочущий рев филистимлян… – Солдат раскрыл сухой рот и полушепотом прокричал: – Изра-иль!!!
Лицо его стало серым, измученным, беспокойным и заострившимся. Иеминей почувствовал, как Саул отвернулся.
– А ведь он еще жив! – сказал солдат, отчего юноша вздрогнул и похолодел. – Напрасно все думают, что наступил мир. Совсем скоро пеласги вернутся. Не такой это народ, чтобы просто рождать детей и удить рыбу. Слепой не видит, но слышит лучше других.
– Что же ты слышишь? – Саул догадался, что солдат говорил о Голиафе, но напрямую не решался спросить.
– Топот! Каждую ночь слышу топот, ржанье лошадей, бряцанье доспехов. Надвигается, наползает. Вороньими стаями разносится, песчаной бурей.
«А не слышишь ли ты голос того, кто бы освободил Израиля от напасти?» – хотел спросить Саул, но Иеминей, выпучив полные свои луны, только повторял: «Топот, топот, топот…».
Внезапно Саул ощутил легкое дребезжанье земли. Словно где-то недалеко воевали осадными орудиями. Не просто камни, а огромные валуны. Падая, они разрывали под собой черные воро́нки. Вот-вот, казалось, под сандалиями образуется трещина, сначала небольшая… Разрастется, даст новые трещины и наконец поглотит их целиком.
Солдат, прикорнув, снова уснул.
«Как можно придаваться снам, когда… землетрясение!» – подумал Саул, хотел дотронуться до спящего или окликнуть его, но земля снова содрогнулась и раскололась. Дребезжали угли в костре, дребезжало древко недоточенного копья, тряслись мехи с вином и молоком, ломались и падали ветви редких оливковых деревьев. Саул не слышал уже медных козьих колокольчиков. Всю ночь они наполняли слух его, а теперь точно пропали, провалились. Ослицы, козы… Одних обрел, других растерял. Самуил далеко, чтобы сказать: «Нашлось то, что искал ты…». Светало уже, и вот снова мгла непроходимая. Кто осветит ее? Кто сквозь нее проведет?
Вдалеке покачнулась дотоле неподвижная мгла. С наскоком, с нахлестом приближалась она – вот-вот настигнет. Сминая под собой холмы с одинокими кустарниками, неслась оголтелая. Напропалую, навылет шальным дротиком, безумной стрелой насквозь. Похолодевшими ладонями Саул напрасно прижимал к груди кипарисовое копье. Куда из гортани пропали слова? Один! Иеминея не добудишься. Еще мгновенье – и настигнет, сомнет, искромсает под железом копыт. Трещина ширится, воронка внизу живота затягивает внутрь, все опрокидывая, круша. Из сырости, из зияющей зыби вышла человеческая – человеческая ли? – тень. Гигант! Чешуи на шлеме и на плечах его играют в скудном отблеске звезд. Филистимлянин! Голиаф! Уже видно лицо его – изборожденное шрамами, обезображенное войной и злобой. Уже открыл он рот и хочет прокричать: «Изра-иль!» – но… разливается мех с молоком, и белые змейки свадебными лентами рассыпаются кто куда…
Из отдаленной – за несколькими холмами – рощи доносилось соловьиное пенье. Саул любил предрассветное время и, чтобы не пропустить эти сладостные минуты, порой не ложился всю ночь. В самом воздухе чувствовалась уже иная свежесть. Темень, рассеиваясь понемногу, оставляла на земле крупные капли туманной испарины. Костер догорал, передавая свое свечение наступающей заре. Час предрассветной прохлады, необычайного, почти священного затишья. Еще немного – и жернова следующего дня вновь застонут и заскрежещут, перемалывая в муку́ события и имена.
Саул проснулся. Вокруг было спокойно и необычайно тихо. Еще он помнил, оглядываясь по сторонам, треск и дребезжанье ночных видений, но солнце, только-только на золотой ободок показавшееся из-за Сиона, и Иеминей, мирно беседовавший с незнакомой путницей, понемногу успокоили его.
«Кто эта женщина?» – подумал Саул.
Слуга, услышав, что господин проснулся и, будто угадав его мысли, сказал:
– Вот, Бог Израилев привел к тебе Ахиноамь с посланием от Самуила. Я накормил ее, и она отдохнула с дороги.
«Ахиноамь! – Саул вспомнил свои ночные страхи и переживания. – Нир, брат мой! И здесь ты заступился за меня7!»
Женщина держала в руках свежую мучную лепешку. Голубой полупрозрачный газ8 покрывал ее голову, ниспадая до самых плеч. Коричневое платье с красным нагрудником и поясом, богато расшитое золотыми с жемчужными нитями и монетами, скрывало молодое, сочное тело. Кто бы подумал, что в дорожной суме Ахиноами на самом дне лежали пророческие лохмотья, а среди них – заветный кошель?
– Среди ночи ты нашла меня, – Саул присел напротив женщины. – Видно, Самуил велел передать что-то срочное.
– Именно так, мой господин, – сказала Ахиноамь. – Судья и пророк Божий приветствует тебя, а для того, чтобы царство твое укрепилось, велит тебе взять меня в жены. И уж затем он позовет за тобой, чтобы идти в Массифу.
Все что угодно готовы были услышать Саул и солдат, но не такое. Женщина, видя их недоумение, спокойно добавила:
– Самуил предупредил меня: «Ему, – сказал он, – потребуется время свыкнуться с мыслью, что отныне у него есть жена».
– О чем ты говоришь?! – не понимая ни слова, воскликнул Саул, а солдат, хватаясь за живот, еле сдерживался от смеха. – Вы что, сговорились и решили надо мной подшутить? Иеминей, кто эта женщина и почему она знает то, что ведомо только Самуилу, тебе и мне?
– И рабе твоей тоже, – перебила его Ахиноамь. – Ибо открыл Самуил мне твою тайну, прежде чем отпустить.
Женщина потупила взгляд, стараясь не смотреть на озадаченного Саула. Наконец солдат перестал смеяться, взял его под руку и отвел в сторону.
– Если не веришь Ахиноами, то сам рассуди, – сказал слуга, – откуда ей знать про твое помазание? Тогда было раннее утро, никто не видел вас, а даже если бы и видел – мало ли Самуил благословляет путников! К тому же ни для кого не секрет, что ты – один из пророков. На что угодно судья мог благословить тебя, не обязательно на царство. Мне думается, она не лжет. Впрочем, если в сердце твое закрались сомненья, позволь, я пойду к Самуилу и сам все узнаю.
Саул будто не слышал, что говорил ему Иеминей. Стал мрачнее колодезной глубины.
– Как же так, – казалось, он говорил сам с собой, – сначала учитель, не спросив, помазал меня на царство, а теперь вот женить надумал…
– Боюсь, – от солдатского голоса Саул очнулся, – тебе не придется выбирать. В конце концов, у царей много жен – женишься, возьмешь себе другую, потом третью…
От обиды Саул едва не плакал:
– Совсем не так представлял я свою жизнь… Ни жизнь, ни женитьбу!..
Иеминей развел руками:
– Мы – рабы твои подневольные, но ты, царь, еще более подневольный. Воля Самуила – слово Господа. И не думай ослушаться.
– Что же мне с ней делать? – в порыве отчаянья Саул схватил и потряс солдата за плечо, но, заметив, что Ахиноамь наблюдает за ними, отпустил. – До этого дня я не знал женщины.
Иеминей заговорил совсем шепотом, так что и Саулу трудно было расслышать его слова:
– Судя по ее настрою и голосу, она опытна и совсем не девица. Просто зайди с ней в шатер, а там все произойдет само. Главное – ничему не удивляйся и ни перед чем не робей.
Саул посмотрел на Ахиноамь и громко сказал, словно обращаясь не к Иеминею, а к ней:
– Как же без благословения?
Женщина поднялась со своего места, подошла и стала на колени, склонив голову:
– Самуил уже освятил и благословил наш брак. – Из рукава она достала и протянула Саулу какой-то предмет. – Вот кольцо, которым судья благословил нас. Надень его на палец мой, и я стану женой тебе по закону Моисея и Израиля.
Не видя решимости в действиях Саула, Иеминей на правах свидетеля взял и соединил их руки:
– Счастливой и хорошей свадьбы! – сказал он, проводив молодоженов до шатра и зашторив за ними плотную шерстяную завесу.
2
Несмотря на запреты и предостережения Самуила, в Израиле продолжали приносить жертвы другим богам, гадать по гороскопам, обращаться к магам, чревовещателям, вызывателям духов. Давно уже стало традицией, чтобы каждый «уважающий» себя человек хотя бы раз в год пришел пообщаться с душами умерших родственников. Спрашивали о всякой всячине. Особенно были популярны вопросы о том, куда усопший зарыл перед кончиной кувшин с монетами или как отыскать тайник, в котором схоронены вожделенные слитки, реже – глиняные таблички, оружие, кольца с именными печатями9. Донимали духов также и тайными связями жен и мужей. По хриплости или певучести голоса медиумов старались понять, на самом ли деле так состоятелен жених, который выдает себя за богача, будет ли в следующем году война или засуха, а если нет, то обернется ли успехом тяжба с Левием, у которого денег как у Авраама – Божьего благословенья.
Колдуны и прорицатели, узнав, какого рода услугу закажет проситель, перед началом обряда советовали, как нужно себя вести и как не испугаться завываний потревоженного духа. Объясняли: если голоса будут больше походить на козий тенорок самого колдуна, чем на голос умершего, на то есть особое произволение подземного мира.
Существовали и щедро распространялись календари, в которых значились наиболее благоприятные дни и часы для обращения к новоумершим, к умершим давно, к погибшим на войне или от болезни, к самоубийцам, к младенцам, взрослым. Обращались даже к духам великих: спрашивали у Моисея, вызывали Адама и Ноя, разговаривали с родоначальниками колен, с ангелами и даже – с колесницей предводителя египетского войска.
Колдунов и прорицателей было в те времена великое множество. Каждый на свой манер завлекал к себе народ. Одни уверяли, что магическая сила передалась им от дедов и прадедов, другие в подтверждение чистоты своего дара призывали имя Бога Израильского. Многие использовали в ритуалах краеугольные камни, ветки акаций, лепешки из простой несоленой муки, что должно было напоминать о скрижалях завета, о посохе Аарона, о пустынной манне. Все эти фетиши должны были уверить приходящих в преемственности, в том, что именно этот колдун – от Яхве. Сложилось такое мнение: Самуил может разрешить не все вопросы. Конечно, когда дело касалось стороны закона, тогда шли к нему, но в большинстве случаев…
– Все ли вы мне открыли? – спрашивал судья. – Не осталось ли на сердце вашем недосказанного, с чем пойдете к провидцам и гадалкам? Они отберут у вас все ваше серебро, сказав, что солнце встает на рассвете, а садится за горизонт вечером. Откройте все ваши тайны Богу Израильскому, Который спас отцов ваших от тяжелой руки фараоновой и Который через меня – пророка Своего – может и вам дать ответ.
– Бога, конечно, можно спросить, – переговаривались между собой слушавшие его, – но ответит Он или нет, неизвестно. Прорицатель же пусть и возьмет одного вола, зато скажет мне все, как я хочу.
Неподалеку от Гивы стоял холм, где на склонах росли столетние дубы, журчали источники, кружили голову цикламены и анемоны. Около полуночи на вершине – то тут, то там – зажигались факелы, большие огнища. Каждый из жителей окрестных селений хоть однажды да приходил сюда, участвуя в обрядах и ритуальных трапезах или так, из любопытства и однообразия. С наступлением сумерек народ стекался к подножию. Затем взбирались на вершину, а там расходились по пустырям, дубравам и пещерам.
Но несмотря на открытость и вседозволенность, несмотря на то, что ночью здесь было людно, днем это место считалось проклятым. Родители ни под каким предлогом не пускали детей играть вблизи холма. А если кого-то видели в светлое время суток идущим с вершины, то такого нечестивца могли прилюдно побить камнями.
Каждую ночь Цфания уходила из дома, оставляя Нира в одиночестве. Лишь с первыми лучами она возвращалась – угрюмая и закрытая. Выпивала кувшин воды, ложилась и тут же засыпала. К обеду она просыпалась и становилась прежней. Весь день и весь вечер они вместе занимались по хозяйству, ели, шутили, а то и до самого лунного рожка, не выходя из дому, любили друг друга. Ближе к ночи Цфания менялась в лице, отстранялась от мужа, пекла пресные лепешки, заворачивала в платок колючий стебель акации, привязывала к поясу мешочек с краеугольными камнями, захлопывала за собой дверь, и Нир снова оставался до рассвета один, не зная, идти ему вслед за женой или молить Бога, чтобы с ней ничего не случилось.
Однажды вечером он сам напек хлебных лепешек, сложил цветы и камни, набросил на плечи дорожный плащ. Цфания смотрела на него, не понимая, что он собирается предпринять.
– Я пойду с тобой, – сказал он решительно. – Люди болтают, будто ты волхвуешь. Если даже и так, не хочу, чтобы ты впредь уходила одна.
Цфания лукаво улыбнулась и сощурилась, став похожей на лисицу.
– Люди не врут, но и правды тоже не говорят. Пойдем, и сам все увидишь.
Когда они были уже недалеко от холма, Нир обратил внимание на стекавшихся отовсюду людей.
– Это что, – сказала Цфания. – Вот когда поминовение предков или солнцестояние, здесь и ступить негде. Не только израильтяне, но и от Моава, и амаликитяне наведываются. Даже странно – их-то колдуны посильнее местных.
Нир едва поспевал за женой. Никогда прежде он не видывал ничего подобного. Целыми поленницами подвозили дрова, поливали их какой-то горючей жидкостью. Бросали в огонь охапки трав, от которых поднимались клубы едкого дыма. Одного вдоха достаточно было, чтобы почувствовать… легкость. Казалось, даже если повстречаешь самого заклятого врага своего, то будешь любить его. И все, кто вдыхал необычайные пары́, менялись. Это видно было и по их глазам, полным радости и слез благодарности, и по их желанию помочь всем и каждому. Хотелось танцевать. Незнакомые друг другу люди выстраивались в кольца хороводов. Запевали с одной стороны, мелодию подхватывали с другой, подыгрывали на флейтах, гуслях. Стучали в подвешенные на поясах кимвалы. Лилась песня, в порыве танца пропадали печаль и усталость. От костров валил желанный дым – светлела ночь. Сладость переполняла, из уст в уста передавали ее поцелуями – жаркими и пьяными. Горели глаза. Огонь пылал изнутри. Сбрасывали одежды. Розовыми лепестками, листвой кружились, подгоняемые не ветром – ритмом обтянутых кожей бубнов. Оставляли детей, жен и мужей, оставляли жертвенный скот, забывали дома́, не вспоминали ни имен своих, ни того, зачем пришли сюда.
Нир искал Цфанию, но не мог найти среди оголтелых криков, среди голых танцующих тел. Вместо жены он увидел Лею – ту, что в позапрошлом году пошла за водой и не вернулась. Вся Гива тогда искала ее. Думали, утонула, а она вот где – танцует, как на своей свадьбе. «Эй, Лея!» – позвал ее Нир, но Лея не откликнулась.
В какой-то момент он забылся, потом снова пришел в себя, но уже в объятиях рыжего мальчика – у того закатились зрачки, а изо рта обильно выступала пена. Нир отшатнулся, на миг отрезвел, но его опять закружили, вовлекли в хоровод и понесли. Перепрыгивая через огонь, он вдохнул, ощутив, как туман заполняет, обволакивает все его существо от щиколоток до головы. Как деревенеет он, как не может остановиться. «На самом деле он черный, но от огня кажется, что рыжий» – подумал Нир про мальчика, в тот же миг услышав женский голос. «Цфания!» – вспомнил он, отдаваясь белесым парам желанного, вездесущего дыма.
* * *
Запах горячего молока со сладкой корицей и резкой гвоздикой привел его в чувства. Жена стояла перед ним, протягивая глиняный кубок. Из окна слепило яркой солнечной желчью. Нир протер глаза, но песочная резь все не проходила. Сколько времени он проспал – сутки, двое? По-прежнему кружилась, как при сильном похмелье, голова; тошнило. Он не хотел никого видеть. Единственное, что ему хотелось, – спать: бездонная пропасть, куда он, закрывая глаза, падал все ниже и глубже.
– Вот, выпей, – сказала Цфания. – Сначала будет немного больно, но потом станет легче.
«Это именно тот голос! Я – голос ее!» – носилось в голове, наслаивалось и жужжало. Он мчался вниз по кромке дороги, по горным серпантинам. Сквозь забытье он слышал горячий сладкий и резкий запах, его губы обжигались, после чего вдоль гортани текло раскаленное масло. Не хватало воздуха. Спазмы выкручивали и рвали последнюю тонкую нить, за которую можно было еще хоть как-то держаться.
Наконец все кончилось. Лежа на спине, Нир в незатейливом узоре потолка, обмазанного красной глиной, разглядывал равнины и горные ущелья. Он был голоден. На подносе рядом с рогожей стояла чечевичная похлебка, лежали одна большая луковица и ломоть овсяного хлеба. В кувшине пенилось луксорское пиво. С жадностью Нир набросился на еду и, только когда дожевывал последние куски и вымакивал остатки похлебки, заметил в углу комнаты наблюдавшую за ним Цфанию.
– Ду́хи оставили тебе жизнь не просто так, – сказала она. – Не каждый проходит невредимым обряд посвящения.
Ниру показались странными слова жены.
– Не каждый? – не понял он. – А все эти люди, с которыми мы кружились в хороводе, с которыми пели и прыгали через костер? Но, знаешь, мне уже лучше. Сколько я спал?
– Ты не спал, – оборвала Цфания, налив мужу еще похлебки. – Прости, если бы я тебе сказала заранее, ты мог бы испугаться.
– Испугаться? – жадно и ненасытно он принялся отхлебывать большими и громкими глотками прямо из кувшина. – Разве Бог оставил нас и филистимляне снова идут на Израиль войной или Цфания изменила своему Ниру? – Он улыбнулся ей. – Ну чего мне бояться?
До сих пор Нир оставался в простодушном неведении: желваки радостно перемалывали остатки пищи, он шутил и не понимал, почему жена – его ненаглядная Цфания! – говорит с ним в таком серьезном и резком тоне.
– Там на высоте, – сказала она, – вокруг тебя были не люди… Точнее, люди, но не как мы с тобой.
– Что ты такое говоришь? – Нир отодвинул пустой кувшин, уставившись на жену. На черных усах и бороде осталась жирная каемка пивной пены.
– То были духи умерших, призраки, – она села напротив Нира и попробовала улыбнуться. – Я боялась, что они не примут тебя. Какое-то время они смотрели, как ты себя поведешь. Но потом, когда зазвучала музыка и донеслось пение, я успокоилась. Такие обряды посвящения очень редки – я не помню ни одного колдуна, которого бы приняли так, как тебя.
– Теперь точно вижу, что ты хочешь посмеяться надо мной! – Привычным движением он вытер губы и руки о край гиматия. – Я точно помню живых людей, таких же людей, как и мы с тобой! Или ты думаешь, я не отличу духа от человека? Просто от своих ночных похождений ты не знаешь, что говоришь. Похлебка твоя что надо, но с призраками ты, видно, сама себе напридумывала.
Цфания сидела напротив него, не оправдываясь и не пускаясь в лишние объяснения.
– Хорошо, – сдался он, – пусть это были призраки, но я точно помню, что в какой-то момент все они сбросили свои одежды. А какие могут быть одежды у призраков?
– Если ты или я только по своему желанию захотим стать колдунами, мы не сможем этого сделать, – Цфания, не отвечая на его вопрос, словно читала из книги заклинаний. – Боги и мир духов должны дать на то свое согласие. Но обычно они принимают или не принимают новичка, и на этом первое общение заканчивается. В твоем случае они за один раз провели тебя сразу через два посвящения. Первое состояло в том, что ты был принят…
Нир побледнел, его руки заметно тряслись. Он вдруг вспомнил.
– Ты была рядом, я знаю. Ты все видела. Кто был тот мальчик? – В голове снова пронеслись дикие пляски, пение, закатившиеся зрачки, отблеск рыжего пламени.
Цфания взяла Нира за руку. Слова ее (не как обычно – нежные, мягкие, резкие или грубые) впивались москитными укусами, земляными червями пробирались глубоко внутрь.
– Второе посвящение заключается в соединении колдуна и духа. Последний сам выбирает мага, чтобы сопровождать его во всех делах и покровительствовать ему.
Еще недавно Нир был полон жизненных сил и бодрости. Теперь он напоминал высохшее дерево, вкопанное кое-как в обезвоженную почву.
– Что значит «в соединении»? – беспомощно, шепотом спросил он, не понимая, что с ним произошло, ощупывая свои руки и лицо, словно желая удостовериться, по-прежнему ли они на своем месте. Однако, нащупав и удостоверившись, Нир все же сомневался – точно ли это его собственные члены, а не жреческая маска или искусно отделанная воловья кожа.
В ответ Цфания поцеловала его (его ли?) руку.
– Ничего, – успокаивала она, гладя послушные волосы мужа, – мы все прошли через это. Дух, который выбрал тебя и в котором отныне течет твое семя, только внешне похож на юношу. Впоследствии он сам будет открывать тебе свое настоящее лицо, а в день, когда он скажет тебе свое имя, вы соединитесь навеки. Этот день называется «небесной хупой». Тогда все колдуны будут приглашены на ваш брачный союз, но никто, кроме тебя, даже я, никогда не должен узнать имени твоего духа – это тайна. Если ты ее раскроешь, кто-нибудь сможет ее использовать против тебя и даже вызвать твою смерть.
Нир еще видел перед собой Цфанию, не понимая, почему вместо ее голоса до него доносится трескучий комариный писк, от которого закладывает уши. На голове его лежали и терлись друг о друга огромные улитки. Но он не мог даже пошевелиться, не то что сбросить их.
«Я все отлично помню, – уверял он себя. – Приближалась полночь, все пели и танцевали, все были счастливы…»
Лицо жены начало исчезать, как утопленник – уходя под мутную воду. Вместо него оставалось непонятное пространство, в котором отсутствовала даже пустота. Нир не дышал, чувствуя, что вот-вот начнется новое. Весь мир вокруг преобразится или в одночасье погибнет. Как на поле брани останется он один. Некая неведомая сила поднимет его и понесет – сквозь время, холмы, пустыни, сквозь морские глубины – в ослепительный дворец, каменный, покрытый резным кедром и листами вавилонского золота. Оттуда – из ослепительного дворца – и начнется новое творение. Нира встретят как желанного гостя, возложат венец жениха на его уставшую и поседевшую голову. Подобно глине, возьмут, размочат и вылепят из него нечто, никогда прежде не бывшее, назовут Адамом и вдохнут в него живую душу. Поселят в райском саду, и ему первому выпадет честь или позорная участь повернуть колесо истории.
4
Весенний месяц.
5
Время – зман, происходит от одного корня, свн, с месяцем сиван.
6
Сиван, зман и Цфания объединены одним корнем свн.
7
Ахиноамь – «мой брат милостив» (евр.).
8
Тонкая ткань. Ее название происходит от филистимского города Газы, где ее и производили.
9
Торговцы предпочитали «хоронить» свои кольца, чтобы другие не смогли использовать их имя для заключения обманных договоров.