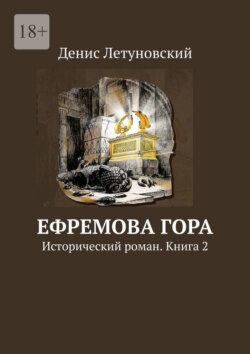Читать книгу Ефремова гора. Исторический роман. Книга 2 - - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ПЕЧАТЬ ВЕНИАМИНА
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ОглавлениеВ те далекие времена люди знали, что если сегодня ты наступил в ту же яму, что и вчера, то вчерашний день прошел напрасно, ибо ничему тебя не научил.
За всю свою жизнь люди могли не выучиться чтению и письму, но предания из прошлого с самого младенчества многие заучивали наизусть, при любом удобном случае пересказывая их. И дети, и старики – никто не оставался в стороне, слушали с удовольствием, преданно, вникая в смысл, переживая и сочувствуя персонажам. Любимы были истории о создании мира, о праотцах-патриархах, о гибели фараонова войска. В какой-то момент и рассказчик, и слушатели становились как бы участниками истории, не разделяя жизнь на вчера и сегодня, на тогда и сейчас.
Среди прочих хранили повествование об истреблении Содома. Когда рассказ доходил до серного и огненного дождя, то по сложившейся традиции все присутствующие закрывали руками глаза и кричали на разные голоса, сильно топая ногами: «Велик вопль на жителей его к Господу! Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть!».
Ставили целые театрализованные представления. Бросался жребий и выбирали двух ангелов, Лота с женой и двумя дочерьми и еще одного содомлянина. Больше всего радовались те, которым посчастливилось быть ангелами и Лотом. Но и жребию дочерей тоже не слишком огорчались. К тому же их утешали: «Напоить отца, чтобы переспать с ним, конечно, неблагочестиво, но ведь они думали, что ангелы уничтожили всю землю, не только Содом. А то, что сыновья их наши враги – Моав и Бен-Амми10, то – по грехам нашим».
Совсем опечаливались Лотова жена и житель города, содомлянин – зять Лота, по сказанию. У обоих были короткие, но малоприятные роли. Жена просто выходила, оглядывалась, и ее тут же покрывали белой простыней, что символизировало соляной столб. Так она стояла до конца представления. Что же касается зятя, то для этой роли всегда выбирался какой-нибудь низкий и толстоватый молодой человек. Слов он никаких не произносил: когда Лот убеждал его бежать, зятю надо было только громко смеяться, держаться за живот, как будто Лот, говоря о гибели города, рассказывал небылицы и шутил…
* * *
Сколько бы в Гиве ни разыгрывали поучительных театрализованных инсценировок, в Израиле про жителей этого города говорили: «Увы, вчерашний день для них прошел напрасно…»
1
За много лет до избрания Саула царем один левит поселился у склона Ефремовой горы. Он приходил в Силом, когда случался его черед, чтобы служить при жертвеннике и ковчеге. В остальное время возделывал он небольшой надел земли, который каждые семь лет брал в аренду11, – собирал какой-никакой урожай. А к тому получал еще свою часть от жертвы. Одному ему вполне хватало. Но как-то задумал он завести себе наложницу: «Если жениться, – рассудил он, – то не всякая женщина согласится, чтобы я надолго уходил в Силом, а наложница родит мне сына, и отпущу ее».
После вечерней жертвы он увидел во дворе скинии неприметную с виду паломницу из Вифлеема. Тут же был и ее отец, который хотел пристроить свою дочь.
«Она уже не девица, – сокрушался отец. – Ждали, ждали ее жениха, но тот так и не вернулся с филистимской войны. Если кто-нибудь ее не возьмет, так и останется до конца дней не благословенной».
Левит поговорил с отцом о намерении взять ее в свой дом, на что родитель ответил слезами благодарности и обильным застольем. Женщина не выбирала, но пошла за ним все же по своей воле. «Левит, – сказала она себе, – значит, богат. Родив сына, оставлю о себе память в Израиле и больше не буду стеснять отца».
Праздник окончился, и левит привел вифлеемлянку к себе в жилище.
– Где же дом твой? – спросила она. – Разве в первую ночь хлев для скота важнее брачного ложа?
Левит смутился, но скрепя сердце ответил:
– Это не хлев, а дом. Всегда он был только моим, но теперь и ты поселишься в нем.
Женщина смутилась не меньше. Потом решила, что он насмехается над ней, но, не увидев игривости в его глазах, все поняла.
– Ты беден!? – воскликнула она. – Спасибо, отец: избавился ты от своей дочери, отдав меня в руки нищему!
Наложница ходила по небольшой, без окон, комнате, с неприязнью разглядывая левитовы «сокровища»: рогожу да лампу, наполовину заполненную маслом.
– Ты же священник, – она не верила своим глазам. – А как же подарки, а часть от жертвы, которую можно продавать или обменивать на товары?!
– Части от жертвы хватает мне только для поддержания жизни в теле моем, о большем я и не мечтаю. Даст Бог, не оставит Он нас милостью Своей.
– Богу твоему одни тучные всесожжения подавай. Какое Ему дело до олуха бедняка!
С той самой первой «брачной» ночи она взяла за обыкновение всячески попрекать его: мол, обманул ее и забрал из отцовского дома, где ей жилось богато и привольно, не то что здесь. Левит махал рукой и уходил. Все чаще он покидал дом, чтобы не слышать вечных упреков в несостоятельности накормить и одеть женщину, с которой живет. О сыне не могло быть и речи. Она применяла все возможные средства, чтобы не понести от левита, а несколько раз, когда запаздывал срок ее обычных дел, даже ходила на высоту к гадалкам и колдунам. Грозилась покончить с собой или уйти назад к отцу.
И вот однажды левит вернулся домой, а в хижине все вещи были перевернуты верх дном, все разбросано. Немытые горшки и кувшины, сваленные в кучу, стояли около порога. Все свое – кедровую коробку со свадебными драгоценностями и серебряного литого божка – она забрала. Не оказалось также и контракта, скрепленного рукой отца ее и левита. Контракт по закону принадлежал мужчине, который волен был сохранить или разорвать его, дав жене разводную, а наложнице – отпускную. Но теперь, когда контракт находился не в его руках, уже сам левит не был свободен и не мог найти себе другую наложницу.
Подождав несколько дней, он отправился в Вифлеем. Шумный город, не под стать пустынному подножью горы Ефремовой. Оазис, окруженный засушливыми полями и пригорками, где – за городскими стенами – днем и ночью ходила вокруг города нелюдимая тишина в соседстве с ветром и блеяньем редких отар. Мудрецы говорили, что Вифлеем стоял еще до сотворения мира. Некоторые связывали его с Эдемским садом, полагая, что когда-то его пределы омывались теченьями четырех рек.
Подобно богатому Иерихону, прибрежным городам Северного12 моря, далекому Тиру и противоположному филистимскому Пятиградью, Вифлеем считался чудом света, одно посещение которого оставалось в памяти надолго. При мысли о нем человек видел заплетенные в косу и виляющие узкими лентами улицы, каменные дома с заборами, террасами и садами, насаженные повсюду и ухоженные финиковые пальмы. «В тени гранатовых деревьев, – пелось тогда в Вифлееме, – я спрячу свою любовь, а в тени оливковых вновь обрету ее». Здесь огненным, вращающимся мечом серафим преградил вход в селения райские, и здесь при въезде в город со стороны Салима Рахиль обрела и тоску, и радость13.
Однако левит не понаслышке знал, что все это было не больше чем давно минувшая история и что сейчас Вифлеем может по праву гордиться своими отборными подлецами и проходимцами, упадком нравов, дурно воспитанной молодежью и разбойничьими – не только ночью! – нападениями. Да мало ли чем… Старики говорили, что, мол, раньше в городе было спокойно и мирно, а количество праведников превосходило торгующих на городских рынках. Но левит мало верил в эти рассказы, ссылаясь на излюбленное стариковское приукрашивание всего, что было раньше.
И вместе с тем Вифлеем всегда наводняли толпы любопытных. Приходили поглазеть на диковинные здания, на самих вифлеемлян, послушать их разговоры. Конечно, целью паломничеств были гробница Рахили и тщетный, устраиваемый только для того, чтобы вытрясти из приезжих кошельков побольше монет, поиск высохшего устья Фисона, Гихона, Евфрата и Тигра. Зеваки толпами, после обязательного поклонения гробнице Рахили-праматери, осматривали, дивясь, местные достопримечательности.
Любой с виду обычный крестьянский дом прятал под своим фундаментом нечто гораздо большее того, что можно было увидеть снаружи. И не только дом отца наложницы, а и почти все вифлеемские дома. Если говорить точнее, был не один, а два Вифлеема. Первый открывался взгляду каждого пришедшего в город – завоевателя ли, мирного ли путника. Что же касается жизни второго города, то она возрождалась лишь с неприятельской осадой и замирала, когда наступал мир.
Под тонким14 слоем плодородной земли, под слоем рыхлого известняка и редких мраморных залежей годами выдалбливались колодцы, туннели. Полученный камень поднимали наверх, возводя одно- и двухэтажные постройки из ослепительно белых блоков. Колодцы с туннелями постепенно расширялись, превращаясь в настоящие коридоры, где уже не в три погибели, а в полный рост перемещались рабочие-каменщики. Со временем ниши стали настолько велики, что многие – даже в мирные годы – на лето предпочитали селиться в этих подземных помещениях.
Здесь располагались маслодавильни, куда по осени на ослах свозили огромные корзины жирных плодов, голубятни, расположенные немногим выше человеческого роста, чтобы лисы не могли забраться в гнезда. Голубей разводили себе в пищу, на продажу или для обмена. Весь птичий помет сгребали в ямы, откуда его поднимали на поверхность через колодезные отверстия. Вдобавок к плодородной почве, помет использовали для сельскохозяйственных удобрений, что превращало вифлеемские земли в цветущие на протяжении всего года сады. Но несмотря на щедрость полей, основная часть населения – из-за нескончаемых войн и всевозможных поборов – была среднего и ниже среднего достатка, а посему голуби использовались также в качестве жертвы15.
Дом, куда пришел левит, которого позади, как полуденная тень, сопровождал слуга, являл собой более чем скромное завершение подземного мира. С обветшалыми стенами и покосившейся крышей, он растворялся без остатка в соседстве подобных ему хижин, а цветущая вокруг зелень только (нарочно?) подчеркивала бедность крестьянских жилищ.
– Теперь понятно, почему тесть согласился отпустить ее: моя хижина в сравнении с этим убожеством – обещанное обетование Израиля. Но моей «возлюбленной», видимо, ничем не угодишь.
Левит поравнялся с лачугой. Во дворе стервозно и заливисто лаяла собака. Наложница стояла, усмиряя охрипшего пса. Увидев своего господина, она всплеснула руками и, запричитав, скрылась за конопляной завесой.
Через мгновение отец женщины выбежал на порог в одном домашнем – перештопанном на все лады – гиматии. Очевидно, по испуганному виду дочери он решил, что через забор перелез грабитель, и держал в руке бронзовый серп.
Но, только увидев левита, он воскликнул:
– Зять пришел! – и даже не расставил, а распахнул руки, отбросив в заросли репейника проржавленный полумесяц.
– Я ведь не думал уже, не надеялся, – обнимал он и тряс зятя за плечи. – За дочкой пришел? Плохо без бабы? Вот и я говорю… Да что же ты стоишь – заходи!
Женщина держалась в стороне, опустив взгляд. Подносила воду для умывания, нахмурив бровки, но внутренне радуясь, однако не тому, что левит пришел за ней, а тому, что вышло, как она захотела.
Тесть не отставал – после кувшинов с водой велел дочери ставить перед гостем все бывшие в доме съестные припасы.
«Пусть самим не хватает, – говорил он себе в бороду, – Господь не оставит без милости делящихся последним».
Расположившись на полу напротив зятя, он все подливал и подкладывал, расспрашивал, а когда видел, что дорогой гость устал от расспросов и разговоров, звал музыкантов. Но так как на зов никто не приходил – сам брал в руки гусли и затягивал что-то длинное, грустное, военное и несвязное. Хмельным ртом жевал он слова, непослушными пальцами перебирал струны, а когда левит снова начинал зевать – бросал гусли и мчался к «дорогому зятю» обниматься, подкладывать скудных яств и подливать жидких соусов.
Два дня сидели они, не выходя. Дочка то и дело оставляла конопляную завесу открытой, чтобы выветрить застоянный дух. На утро третьего дня левит поднялся со своего места.
– Пойду, – сказал он, – потуже затягивая кошельный пояс, а поверх надевая свой дорожный плащ. – Собирайтесь!
Слуга его, все это время бездельничавший с соседскими приживалками, и наложница даже приподнялись со своих мест: к кому как не к ним обращен был хозяйский голос? Уже хотели они разбежаться в разные стороны, чтобы как можно быстрее нагрузить осла и приготовить в дорогу съестного, но тут тесть с поднятыми руками подошел к зятю:
– Хочешь идти, отправляйся сию же минуту, только… – он сощурил глаза и, широко улыбнувшись, взял левита под руку, – …только смотри! Дочь моя присмирела, но стоит ей покинуть мой дом, как снова возьмется за свое – то ей не то и это ей не так. Заартачится, сбежит от тебя. Снова придешь к тестю? Я-то буду, несомненно, рад: на старости лет мне другой отрады и не надо, чтобы только кто-нибудь провел время со стариком. Видит Бог, не о себе – о вас думаю. Пообожди еще немного, пусть в себя придет, а мы в это время друг дружку потешим. Никогда она из дому не выходила, не привыкла еще.
Левит снял плащ, распоясал кошель и сел на прежнее место. И снова полилась музыка и песни, разговоры, слова. Кубки наполнялись вином, пенились. Наложница только и заботилась о том, чтобы вовремя принести наполненный кувшин, побежать к мяснику, чтобы тот заколол барана.
– Много ли гостей в доме отца твоего? – толстоватый и бородатый мясник все время точил нож о нож.
– Нет, – отвечала она, – один муж мой.
– Если я заколю барана, а ты принесешь гостю говядину, вот тогда и станет он мужем твоим, – смеялся мясник.
Он хорошо относился и к отцу ее, и к ней самой, но всего лишь высказывал общее мнение о том, что она живет с левитом незаконно.
Еще и поэтому она злилась на левита. Уже все в городе показывали на нее пальцем, и она стала думать, как бы уговорить левита, чтобы тот поскорее собрался в обратный путь. «С ним жить одно наказание, но и в Вифлееме тоже мне проходу не будет».
Левиту самому не терпелось уехать. «Гость, даже если ему рады, остается желанным до времени. Быть гостем – целое искусство: надо уйти прежде, чем этого захочет хозяин» – думал он.
– Нет, – упрашивал его тесть, – останься! Ты мне как сын. Если не хочешь оставаться насовсем, то хотя бы поешь, попей и повеселись вдоволь, чтобы не сказал потом, когда придешь в место свое, что я был скуп.
Так и продолжали они сидеть, и когда тесть в очередной раз затянул какую-то нескладную песню, левит словно провалился. Приходили на память звуки, голоса. Они вели его, будто отыскивая выход в хитроумном лабиринте, выйти из комнат-ловушек которого можно было, лишь не думая о цели и забыв о том, что заблудился. Если такое произойдет, то человек сам удивится, когда окажется перед выходом. Тогда он еще подумает – двигаться дальше или остаться.
В одной из комнат-ловушек левит видел, как среди поля растет стебель, а его терзают со всех сторон ветры. Они вырывают его и несут далеко за холмы, в чужие земли, где нет ни дождей, ни добрых слов.
Постояв немного перед чудесным видением, он хотел отступить, совсем уйти, осторожно закрыв дверь, – но протянул руку и снова открыл ее. На пороге стояла его наложница. В руках она держала блюдо с поджаренным мясом. Рядом дремал захмелевший тесть. Все плыло в каком-то тумане, словно видения снились и были навеянной выдумкой. Чувствовалось приближение ночи, а сам воздух начинен был духотой. Хотелось свежести – морозной или вечерней. Но вместо этого пот стекал по раскрасневшимся щекам. И лишь сонное дыханье тестя нарушало непроницаемую тишину.
Левит проснулся от жажды. Солнце уже заходило, слуга и наложница спали, а тесть сидел и лениво дергал гусельные струны. Перед ним на блюде лежали куски остывшей баранины.
– Хочешь идти? – спросил он, видя, как левит подпоясывается. – Ночь на дворе, облачная и беззвездная. Осел твой собьется с дороги, но ты не покажешь ему верного пути.
– И без того задержался я в доме твоем. Как-нибудь в другой раз останусь у тебя на дольше. Если будет у тебя в чем недостаток, навести и ты меня: увидишь дочь свою и передохнешь.
– Я раньше ходил, теперь не те ноги. Видно, уже не свидеться нам. Если родит она тебе, останется обо мне память в Израиле, а если ссориться будете… Ни о чем не сожалею… А то погостили бы еще?
Но левит на этот раз был непреклонен. Они быстро собрались, слуга взвалил на осла дорожную суму – и, после скудных прощаний, ушли.
Всю дорогу левит с наложницей упрекали друг друга: из-за нее он потерял столько времени; у всех поля уже засеяны, а у него на руках только наложница-беглянка. Она не отставала, называя его нищим и безрассудным:
– В ночь ты повел меня по малоизвестным дорогам. А вдруг нападут на нас звери или того хуже – встретим людей? Или ты защитишь меня? А может, твой храбрый слуга или этот сильный осел придут тебе на помощь?
Подходя к Иевусу16, слуга как можно тише, стараясь не подливать масла в огонь, предложил остаться в городе и переночевать там, чтобы утром продолжить путь.
– Не жизнь, а одно помыкание! – левит с силой стеганул животное, направляя его не к городу, а к Кедронскому потоку. – Женщина клянет меня за то, что взял ее в дом свой, а слуге не терпится указать место ночлега, к тому же у иноплеменников17. Ничего не выйдет! Ты, – резко сказал он женщине, – сейчас же замолчишь, а тебе, – поучал он слугу, – лучше держать покрепче осла да смотреть, чтобы не упал мешок!
Когда они уже оказались на подступах к Гиве Вениаминовой, ночь вконец почернела – так что нельзя было разглядеть своих сандалий. «И то хорошо, – подумал левит, – хоть не буду видеть лица ее. Пусть ворчит! Слова ее больше ли ветра?»
Они прошли мимо спящей стражи и оказались среди пустынной городской площади. Лишь по нескольким тусклым огонькам из постоялых дворов можно было хоть как-то сориентироваться. Левит не раз посещал Гиву, но даже если бы он был местным и с младенчества бегал по запутанным заячьим тропам здешних улиц, то и тогда остановился бы, не решаясь идти дальше.
– Стой где стоишь, – отрезал он, обращаясь к наложнице. – Не смей никуда отлучаться, держись за ослиную подпругу.
– А что будешь делать ты? – спросила женщина с некоторой нерешительностью в голосе, словно шла по гулкому подземелью.
– Что я буду делать? – отозвался левит. – Постелю на дороге. Переночуем прямо здесь. Теплые плащи у нас есть – не замерзнем, а милостью Божьей никто на улице нас не тронет.
Сначала всхлипывая, но постепенно все громче и надрывнее, женщина разразилась рыданием, которое вот-вот должно было перерасти в истерику.
«Началось!..» – только и успел вздохнуть левит, как из темноты показалась человеческая фигура, но не слуги (слуга расшнуровывал и снимал с животного седло), а кого-то другого.
– Куда идете? И откуда пришли? – незнакомец оказался дряхлым стариком. Хрип его скорее напоминал заржавелый дверной замок, чем голос.
Левит вздрогнул, но, пересилив себя, отвечал:
– Мы идем из Вифлеема Иудейского к горе Ефремовой. Ночь застала нас в Гиве, и мы не встретили никого, кто бы нас пригласил в дом свой. У нас есть солома и корм для осла нашего, также хлеб и вино для меня и для рабы твоей, и для сего слуги. Ни в чем нет недостатка.
– Добрый человек, – вмешалась в разговор наложница, – не слушай моего хозяина. От вранья он сам уже не понимает, где правда, а где вымысел. Ну откуда взяться хлебу и вину – да еще и соломе! – в дырявой и истертой левитской суме?
После решения остаться ночевать на улице она окончательно возненавидела левита. Каждый его жест, каждое его слово вызывали в ней раздражение, ярость. Женщина уже и не старалась – как раньше – разуверить себя в обратном, сдержаться, смолчать. Легко и с холодным спокойствием отдавалась она волнам желчи и непритворного отвращения.
– Будь спокоен, – как бы не замечая острот наложницы, отвечал старик, – весь недостаток твой на мне. Только не ночуй на улице.
Старик оказался крестьянином – обрабатывал, насколько хватало сил, небольшой надел на одной из принадлежащих городу земель. Жил недалеко от оборонительной стены, так что каждый входящий в город видел прежде площадь собрания с фонтаном, несколько постоялых домов и его – тщедушную, как и сам старик, – хижину. Хоть он и работал на земле, главным его занятием, казалось, было гостеприимство. Но совсем не потому, что он считал себя праведником или любил хорошую компанию…
Среди жителей города он и его незамужняя дочь слыли за простаков, которых можно было безнаказанно обидеть, взять у них взаймы (возвращать деньги старику или «этой нелюдимой», как говорили про его дочь, считалось делом несерьезным, пустым), прийти в их дом и прожить там сколько угодно.
Все знали, что в молодости старик был состоятельным землевладельцем и жил в центре города в большом двухэтажном доме с террасой на крыше и зеленым садом. Но после того, как однажды днем посреди многолюдной улицы изнасиловали его пятилетнюю дочь, он продал свои хоромы и переселился на окраину. Ходили слухи, что с тех пор он тронулся умом, а его дочь перестала разговаривать и стала нелюдимой. Старик только и делал, что оставлял в своей хижине путников, всячески уберегая их от похода в город. Трактирщики жаловались старейшинам: мол, этот полоумный всем приезжим дает бесплатно ночлег, отчего им – трактирщикам – убыток неимоверный. Старейшины и уговаривали его, и старались задобрить и даже запугать, но все без толку – в окнах «умалишенных» каждую ночь теплился для путешественников домашний уют.
Гива! После Содома во всем Израиле не было более развратного и бандитского города. Не проходило и пары часов, как из меняльной лавки выносилось все подчистую; на базарной площади затевались драки, в вихре которых срывали кошельки, наносили увечья богатым и бедным за дело и просто так.
Города-убежища18 были переполнены выходцами из Гивы, про которых говорили не иначе как: «звери», «нелюди». Нравственные устои в городе забылись настолько, что, если девушка оставалась девственницей до своей свадьбы, ее поднимали на смех. Пьяные компании слонялись по городу, ища – и находя! – приключения. У многих молодых людей на теле заметны были ножевые ранения. Все это называлось озорством, хвалилось. О похождениях «молодчика-вора» и «непоседы-дочки» пелись в трактирах и на улицах похабные песенки.
В хижину старика захаживали частенько, зная, что у «полоумных» всегда найдется чем поживиться. Если старик не приютил гостя, значит, можно найти сикеру и дармовой еды, а если в доме остался кто-то еще…
– Эй, открывай, старая ты головешка! – за дверью послышались пьяные подростковые голоса, после чего ногами стали ломать дверь. – Мы знаем, что у тебя гости! Веди их к нам, а не то – побьем так, что если не сдохнешь, то память у тебя отшибет надолго.
– Опять они! – сказал старик, подняв руки, словно прося защиты или говоря: «Пусть будет воля Твоя».
– Может, они покричат и уйдут? – не на шутку испугавшись, предположил левит. – Что им надо?
– Что им надо? – не понял старик. – Все! Еду, питье, женщин, крови…
«Зачем?» – хотел спросить левит, но снова раздался стук в двери. На этот раз били чем-то тупым и тяжелым.
– Ломают… – произнес старик. – Хоть бы не выбили зубы, как тогда…
Он поднялся и неверными полушагами поплелся открывать дверь. Левит хотел остановить его, но вместо этого обронил невпопад свое «зачем?».
– Что ты застыл как идол!? – женщина бросилась за стариком, однако хозяин дома уже скрылся за дверью.
– Как ты мог отпустить его? Разве не понимаешь, что эти…
Она не договорила. Ее лицо выражало отчаяние – глубокое, необратимое. И в этом отчаянии тонуло все – и разбитая жизнь старика и его дочери, и ее собственная жизнь, в которой она больше не видела ни радости, ни будущего. Она хотела разрыдаться, рассыпаться на тысячи осколков, чтобы никто и никогда не смог их собрать воедино. Сердце стучало, захлебывалось, ударяя в голову солдатским маршем, филистимскими кузницами. Удар за ударом выковывались длинные прутья, заплетавшиеся в морские канаты. Вытягивались, обступали кругом. Гадюками, бобовыми вьюнами поднимались они, обнимали, сжимая. Голени, икры. Не давшее плода лоно. Обвивали талию, грудь, руки. Как пузырьки воздуха в воде – бежали вдоль позвоночника. Окутывали шею, еще свежее молодое лицо, на котором так безвременно лежала роковая печать.
За все короткое время жизни с отцом, а потом и левитом она всегда боялась. Боялась всего, даже собственных радостей – до глубины души, до самозабвения. Но теперь, когда мысли ее совпали с движением сердца, она вдруг успокоилась. Легкая улыбка примирения, прощания и решительности озарила всю ее, осунувшуюся и почерневшую от внутренних бурь и противоречий. Не взглянув на левита, просто, как переходят праведники в иной мир, она вышла вслед за стариком.
Левит не успел опомниться, как снова распахнулась дверь и в дом кубарем – его сильно ударили ногой – ввалился старик, сопровождаемый гоготом и фальшивыми куплетами.
Потом все стихло, и лишь:
– Я предлагал им мою дочь, но они забрали ее, – как покаянным пеплом, хозяин осыпа́л себя упреками. – Не отвел напасти! Не уберег!
До утра оставалось немного. Левит не спал, успокаивая старика и дожидаясь беглянку. Когда хозяин дома начал бредить и говорить о пятилетней девочке, левит в нетерпении стал ходить взад-вперед, раздумывая, что же ему предпринять: идти искать ее среди пьяных компаний (он был уверен, что женщина вторично ушла от него, чтобы позлить его) или остаться с теряющим рассудок стариком и его, склонившейся над отцом, дочерью… Тяжелый стук во дворе дома (словно с большой высоты сбросили мешок с зерном) и поспешные удаляющиеся шаги вывели левита из замешательства. Он решительно подбежал к двери, распахнул ее… На пороге, затасканное и испачканное в крови, лежало бездыханное тело.
2
Оплакав женщину, но больше – свое бездействие, он вернулся к горе Ефремовой, взял нож и, взяв наложницу свою, разрезал ее по членам ее на двенадцать частей и послал во все пределы Израилевы… И вышли все сыны Израилевы, и собралось все общество, как один человек, от Дана до Вирсавии, и земля Галаадская пред Господа в Массифу19… И восстал весь народ, как один человек, и сказал: не пойдем никто в шатер свой и не возвратимся никто в дом свой… И послали колена Израилевы во все колено Вениаминово сказать: какое это гнусное дело сделано у вас! Выдайте развращенных оных людей, которые в Гиве; мы умертвим их и искореним зло из Израиля. Но сыны Вениаминовы не хотели послушать голоса братьев своих…20
Еще до восхода отборные войска колена Иуды укрылись в засаде неподалеку от Гивы. К приступам города были посланы лазутчики. В долине, просторы которой не просматривались со стен Гивы, ждали приказа около тридцати тысяч пик, пращей и коротких бронзовых мечей. Солнце только-только давало о себе знать, мучительно рождаясь из слепящих белил, окрашиваясь в желтый, нагреваясь и отражаясь в меди легких доспехов и обувных ремешков солдатских сандалий.
– Вениамин – меньший из всех колен, – бородатый пехотинец сплюнул в песок, рассматривая издали известняковые стены города-бунтаря, – а натворил дел, что и всем сообща не распутать.
– Как распутаешь? – отозвался другой наемник. – С такими все равно что медведя учить, каких овец можно таскать, а каких нельзя.
– Как будто не люди они. Все ж братья!
– Вот и выходит, что от родных хлопот больше, чем от незнакомцев: они тебе не просто нож под лопатку саданут, а еще и скажут что-нибудь этакое напоследок. Нет, как хочешь, но для меня отец, если он предатель, уже не отец – зарублю, не задумываясь. Все это глупые россказни про кровное родство и прочее. Надежный товарищ куда лучше родной матери.
– Лучше-то оно, может, и лучше, да только мать есть мать.
– Какие же вы все темные! Вбили вам сызмала в голову всякие небылицы, а потом еще и военным шлемом затянули, чтобы вы глупости эти не растеряли.
– Что ж плохого в родственниках-то?
– Да нет в них ничего худого! Да и не о том я тебе толкую, что худо в них… Запутал ты меня совсем. Смотри лучше на флажки.
– Не бойся, не пропустим – махнут, все ринутся. Наше дело малое – пойти да без головы остаться. А первым тебя встретит Вениаминова стрела или немного погодя – в том уже нет разницы.
– В другое время тебя за такие речи можно было бы отдать под сотницкий суд за подстрекание к неповиновению, – наемник осклабился, цыкнул через дырку в передних – черных, наполовину сжеванных – зубах. – Да что ты таким серьезным стал? Ты что, и вправду подумал, будто я побегу докладывать о тебе? Чудак!.. Куда ни взгляни – у всех мины хмурые, сморщенные. Поститесь вы, что ли?
– Так всегда перед бойней, – солдат хотел сменить тему. – Все тихо и спокойно, как вчера и третьего дня. А совсем скоро эту благодать захлестнет утробный вой шофара…
– Снова про утренних жаворонков да соловьев во дворе любимой! – другому наемнику, видимо, было все равно, о чем болтать. – Вот увидишь, скоро на земле вообще не будет мира. Тогда лязг железа станет привычнее колыбельных и восторженных речей. Ни один пустослов-философ больше не возьмет верх над силой. Тогда нашему брату будет почет и уважение. Они даже не подозревают, что мы больше ихнего ценим жизнь, а все потому, что мы видели изнанку.
– Из твоего полоумного бреда выходит, мы с тобой вроде счастливчиков, а другим, у которых поля и дети малые, не повезло. Да ты в себе ли? Для чего мы тогда вообще беремся за пику с пращой?
– Крестьянину пахать поле, – рассеянно проговорил наемник, – роженице вынашивать сыновей. Наше занятие война, ради чего бы она ни велась и кто бы после ни называл себя победителем…
В это время один за другим направляющие подняли и опустили треугольные красные флажки. Это был знак: пехота бесшумно поднялась и, ощетинившись, подалась вперед. Бородатый солдат не нашелся, что ответить, да и не время было умствовать. В одном из первых рядов бежали они бок о бок. Ничто не могло разъединить их теперь – намеченная цель и возможная близкая гибель роднила их. С многотысячным войском, с дробью походных кимвалов в один ритм маршировали, дышали, шли. Пот товарищей придавал храбрости, а предчувствие скорой крови меняло страх на дурманящую ярость. Перемалывая щебень с песком в туманные клубы пыли, они все больше становились похожими на стаю – неистовую и, ради наживы, глотка свободы или ради забавы, готовую идти до конца…
Но в два дня вениамитяне положили сорок тысяч израильтян.
Неутешный плач стоял во всех пределах земли. Заклятием израильтяне наложили на себя строгий пост, а пока постились, непрестанно приносили жертву за жертвой – всесожжения с мирными приношениями. Каждый спрашивал себя и других: «Так ли Господь наказывает восстанавливающих справедливость!?». Спрашивали, не находя ответа. А первосвященник с левитами и коэнами, бросив урим с туммимом, приговором объявили волю Яхве снова идти войной на Вениамина.
Вокруг жертвенника собрались военачальники и старейшины одиннадцати колен. Согбенный годами Финеес21 вышел вперед. Несмотря на траур и постигнувшее всех горе, многие не удержались от невольного смешка: похожий на домашнего духа кастрюль и очагов, первосвященник сразу располагал к себе. Финеес неуклюже стянул с правой ноги стертый до ремней сандалий, назвал его Гивой и бросил перед собой, чем вызвал всеобщий смех и одобрение. Затем он прочно воткнул посох рядом с сандалием с одной стороны и аккуратно положил несколько камней с другой.
– Это Израиль! – тихо, но уверенно и властно указал он на каменную горку. – И это Израиль, – постучал он по древку посоха. – Как видите, мы окружили Гиву! Только здесь (он указал на камни) нас мало, а вот тут (первосвященник еще больше налег на посох) скрывается наша основная сила. «И что с того, – спросите вы. – Зачем этот старый жернов созвал нас – отборные маслины с янтарным виноградом – в свою развалившуюся давильню?» И еще скажете: «Посмотрите, он сочиняет нам небылицы, тогда как глаза тысяч матерей и жен полны слез и ропота!». Но поверьте, ничто и никто, кроме Бога, не остается неизменным. И если сегодня горе наше безутешно, то завтра эти пустынные долины покроются травами и цветами и снова будут радовать глаз. Стены дома, в котором погиб сын, вновь услышат плач новорожденного, и в тот час не будет большей радости по всей земле. Сколько ни ухаживайте за деревом, но однажды, когда вы будете далеко, оно распустится и принесет плод, а потом завянет. И те же руки, которые садили его, выкорчуют его цепкий корень.
Первосвященник поправил съехавший на глаза кидар. Наперсник на его груди поблескивал, как стоячая вода на глубине древних колодцев.
– За два дня погибла десятая часть израильского войска, – продолжал Финеес. – Так и колено Вениамина – одна из двенадцати частей – отпало от наследия Авраама. Вам больно было потерять боевых товарищей, семьи их долго не смогут утешиться. Но для Бога потерять Вениамина стало не меньшей потерей. Только поэтому Яхве, по любви Своей, дал вам почувствовать то же, что ощутил Он.
Волна возмущения прокатилась по сомкнутым рядам. Но тут же сменилась волной ликования – Яхве не наказал народ Свой!
– Теперь же, – первосвященник мысленно благодарил за вразумление этого нараставшего бунта, – кому-то из вас предстоит быть посохом, а кому-то рассыпанными камнями. Итак, вы разделитесь. Те, кому выпадет роль камней, пойдут как и прежде и станут в боевой порядок перед городом. Вениамитянам-то что – они, упоенные победой и даже не знающие, что она им в погибель, помчатся куда угодно. Вам только останется показать им свою спину. И вы им ее покажете! Как только выйдут они из городских ворот, чтобы вступить с вами в сражение, вы станете отступать от стен на большие и малые дороги. Увидев, что Израиль дрогнул и побежал, они, охмелев от собственного величия и гордости, будут преследовать вас, оставив Гиву. Вот тут-то и покарает Господь этих содомлян.
Никто не смел пошелохнуться. Все как один замерли, так что и последние ряды могли услышать потрескиванье поленьев на далеком, стоящем около первосвященника, жертвеннике. Собственные раны и не похороненные, начинавшие понемногу смердеть трупы товарищей виделись уже в ином свете – справедливости и скорой расплаты. Будто и вправду голые пустынные камни покрылись вдруг цветущими деревьями и сочными травами.
На «посох» Финеес возложил не менее важную часть похода: когда «камни» будут уже далеко и когда вениамитяне начнут преследовать их по дороге, ведущей к Вефилю, «посох» – десять тысяч пехоты – устремится из Ваал-Фамара в оставленную армией Гиву.
Так совершилось поражение Вениамина. И не помогли городу ни оставшиеся в стенах его лучники, ни семьсот отборных левшей-пращников, которые, бросая из пращей камни в волос, не бросали мимо22. Пала Гива, пали защитники ее. Юноши и старики, мужчины, девицы, младенцы и домашний скот. Просыпался на нее серный дождь зажженных израильских стрел. Вспыхнули крыши, запылали дома, а стены превратились в тлеющие головешки.
Над городом поднялся дым, и Вениамин-победитель, преследующий малую часть Израиля, увидев его, понял, что попал в засаду. Раскололся и разлетелся по дорогам и тропам, ведущим в пустыни. И ни одно селение Вениамина не осталось нетронутым: смерчем прошел Израиль до Менухи и Гидома. Везде, где было дыхание, где билось сердце младшего сына Иакова, лежали теперь вспоротые, задушенные, изрубленные тела. Из всего мятежного колена в живых осталось около шестисот мужчин. Они убежали, и скрылись в пустыне у неприступной скалы Риммон, и оставались там, пока Израиль, обезумевший от наживы и так скоро забывший вчерашнюю боль, не отпраздновал победу… пока в похмелье своем не осознал он, что стал… братоубийцей и что грех его куда больше греха, совершенного Вениамином.
3
И снова пределы Массифы услышали неутешный плач. Израильтяне рвали на себе одежду, постились и посыпали головы пеплом пожарищ – не в память о погибших солдатах, но сожалея об истреблении братьев.
Цепочка проклятий множилась, одно преступление вело за собой другое.
С самого того дня, когда в стан каждого колена доставили части разрубленной наложницы, все одиннадцать племен23 поклялись двойной клятвой: умертвить всякого, кто не присоединится к походу на Гиву, и впредь не выдавать своих дочерей за вениамитян. Поклялись все, кроме Иависа – города из колена Гадова.
Отделенный от остального Израиля горным хребтом Галаада, стоял он высушенной24 проплешиной среди тенистых лесов, тысячелетних болот и полноводных ручьев. На полпути от Геннисаретского озера до Мертвого моря. От Массифы – в нескольких днях изнуряющей дороги с небезопасным переходом через порожистый желоб Иордана. Не только природа поставила эту границу, но и многолетнее (с раздела земель Иисусом Навиным) обособление одних от других. Жители Иависа – главного города Галаадского – никогда с тех пор не приходили в Силом и не слышали ни военного, ни праздничного шофара своих собратьев.
Отсутствие каких-либо контактов положило конец и их религиозному общению. Иависян называли раскольниками, тенью Кириат-Иарима25. В Иависе жили по своим законам, во многом разнившимся с законодательством Моисея. На своих возвышенностях приносили они жертвы.
«Кому приносят они свои всесожжения? – негодовал Финеес, говоря про культ иависян. – Оттого и высох город их, что не Яхве служат, а выкрикивают молитвы свои в пустоту. Как они еще не впали в язычество? Где нет Бога, там идолы. Истуканов, конечно, может, они и не делают, но и Яхве среди них тоже нет».
Многие понимали слова Финееса как призыв к действию. Составлялись небольшие отряды «ревнителей Яхве» и переправлялись через Иордан, в водах которого отражались их напитанные желчью лица и безучастные, готовые делить хлеб и проливать кровь, бронзовые мечи.
Первосвященник не одобрял и даже порицал подобные вылазки, но особо ничего не предпринимал, чтобы остановить их. А со временем разбойничьи походы на Иавис воспринимались уже как прямое повеление Яхве. Бродячие проповедники призывали на площадях идти войной против «нечестия Израиля».
«Один такой поход, – убеждали они, – освобождает от годичной жертвы. Богу приятнее, если в Израиле совсем не останется искажателей религии, нежели если праведники принесут Ему богатое всесожжение».
Удрученный безвыходным положением, Финеес не раз бросал урим с туммимом, советовался с мудрецами коэнами. Но решение пришло не в откровении, не во сне, а как-то само собой.
– Утешьтесь! – выкрикивала согбенная фигура первосвященника. – Рыдания ваши были о том, что вы стали рукой Господа, поразившей братьев ваших. В том еще каялись вы, что оставшимся мужчинам Вениамина не достанется жен, ибо вы поклялись не отдавать за них дочерей ваших, а всех вениамитянок вы истребили. Однако же вы клялись и «умертвить всякого, кто не присоединится к походу на Гиву». Теперь одна клятва освободит вас от другой: двенадцать тысяч пеших и колесничих, по числу колен Израиля, пойдут и уничтожат нечестивый Иавис – от детей до стариков, оставив в живых только девушек, которых мы и отдадим в жены укрывшимся в Риммоне. А если не хватит, то пусть приходят они в Силом на праздник. Пусть спрячутся там в виноградниках и, когда выйдут силомлянки26 танцевать в хороводах, пусть выбегают из кустов и хватают каждый себе жену.
Финеес замолчал, а «Слава!..» и «Да живет первосвященник в милости Божьей!..» еще долго разносились горным – раскатистым и зловещим – эхом.
10
Моавитяне и аммонитяне.
11
У колена Левия не было своего собственного надела земли. См. Вт. 18:1.
12
Тивериадского.
13
Младшая жена Иакова на подступах к Вифлеему родила Вениамина, умерев при родах.
14
Всего в несколько сантиметров.
15
Они стоили дешево. Их приносили в жертву в основном бедняки.
16
Древнее название Иерусалима.
17
До завоевания Давидом Иерусалима город оставался неприступной крепостью языческого племени иевусеев.
18
Города, где, по закону, могли официально скрываться преступники. Но если они оттуда выходили, их судили вне зависимости от того, сколько прошло времени после совершения преступления.
19
Иосиф Флавий называет Силом.
20
Суд. 19:29; 20:1—2, 8, 12—13.
21
Внук Аарона, первосвященник, – Суд. 20:28.
22
Суд. 20:16.
23
Кроме колена Левия по причине того, что это колено священников, которые не могут проливать кровь.
24
Иавис – «высохший» (евр.).
25
Город, считавшийся отступившим от официального поклонения, но в котором (в доме Аминадава), вопреки общепринятым представлениям о праведности, был поставлен ковчег завета после взятия его в плен филистимлянами. Из Кириат-Иарима ковчег был перенесен в Иерусалим Давидом.
26
Дочери левитов.