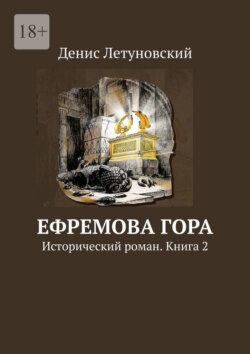Читать книгу Ефремова гора. Исторический роман. Книга 2 - - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ИЗБРАНИЕ
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Оглавление1
– Ты иди, а мы с Иеминеем останемся присмотреть за животными и за шатром.
С утра Ахиноамь принесла четыре меха воды и теперь стояла над деревянной лоханью, ополаскивая и выжимая сальные вещи.
– Ваши гиматии, – засмеялась она, – как старые девы: видать, с самого пошива не были стираны, оттого прохудились и полиняли.
Саул наблюдал за ловкими движениями женщины, мысленно благодаря Самуила за такое благословение.
– Как же вы останетесь, – он лукаво глядел на руки жены, оголенные до локтя, – если судья велел собраться в Массифе всему народу, чтобы никого не осталось ни в доме, ни на полях!
Ахиноамь заметила взгляд Саула, выпрямилась, широким движением сняла с себя верхнюю льняную накидку, оставшись обнаженной до пояса. Ее гибкое, чуть полноватое тело притягивало. Щеки Саула по-юношески зарделись, он стушевался, оробел.
– Не всем корону носить, кому-то надо и белье месить! – Ахиноамь победно отвернулась, сопровождая каждое слово из-за спины зычным причмокиваньем стирки.
После их первой ночи они так и поселились в пастушьем шатре. К Кису даже не наведались – через других передали, что, мол, так и так, Саул женился на некой Ахиноами, дочери некоего Ахимааца27, и вот Ахиноамь уже ходит не праздная, к сезону дождей ожидая первенца. От Киса не последовало ответа.
Песчаные ветры дули со стороны Гивы, поднимая облака пыли. За два шага ничего нельзя было разобрать – ни что, ни кто перед тобой. Даже самый привычный глазу человек принимался за мохнатого четырехрукого духа пустыни. Друг друга сторонились. Обходили кругом редкие кустарники и деревья. От песчаных бурь не спасали ни шатер, ни повязки. Казалось, еще немного и дышать через раз или два будет уже невозможно. Но наступала ночь, зернистость осаживалась. Уже не скрипело на зубах, глаза не сковывала резь. Отверзшееся небо широко открывало свои непостижимые дали. И широта эта висела над всеми мелкими и преходящими заботами-хлопотами.
Иеминей неотлучно находился с ними, помогал молодой жене по хозяйству: выдалбливал шкуры, а по ночам сторожил стада и вход в шатер. Молодожены называли солдата своим ангелом, а он вспоминал и любил рассказывать историю, как давным-давно по дороге в Силом к господину приходил посланник Божий.
– В ту ночь муж твой так ничего и не понял, а я, хоть и сделал вид, что в посещении ночного гостя не было ничего удивительного, до утра не мог уснуть. И пусть глаза мои уже ничего не видели, сон обходил меня стороной. Господин сказал, будто незнакомец ушел, а я лежал и все чувствовал, что вот он – муж в белых одеяниях – стоит рядом и смотрит на нас. Но то совсем не так, как ты, например, смотришь или кто другой – его взгляд окутывал, защищал. И если бы волк или голодный лев увидели нас без палок и пращей, то… не знаю, как объяснить… без страха я слушал бы их шаги. Их вой и рычанье испугали бы меня не больше, чем прыжки гарцующей лани.
Что до Саула, то из памяти его, похоже, стерлось многое: и кровавая бойня, и тысячи мертвых тел, и насилие над матерью и сестрами… но только не голос пришедшего к нему. «Видом он, – вспоминал Саул, – походил на левита из Силома, но говорил он так тихо и спокойно… и еще… глубоко! Ни от кого больше я ничего подобного не слышал».
Солдат часами мог рассказывать Ахиноами про «своего господина»:
– После того как филистимляне отобрали у него семью, а у меня зрение, стал я ходить за ним: куда он поведет меня, туда и пойду. Тогда я еще думал, что не он, а я его в Силом привел! Когда же Самуил оставил его при скинии, я сделался ему слугой, и даже рад и благодарю Яхве и супругу Его – Ашеру, что позволили нечестивым ослепить меня. Иначе как бы мы встретились? Жили бы себе – я в казарме или на паперти, а он на улице. Так и померли бы порознь. Но вот теперь иначе все, и счастлив я больше без глаз, но с господином, чем с глазами, но без него.
Стирая ли, стряпая ли, Ахиноамь со вниманием слушала эти рассказы, не перебивая и не споря с солдатом. Часто она забывалась, слуга же, не замечая, что «госпожа» отвлеклась, продолжал свою тихую, слегка охрипшую сурдинку про былые годы, горести и удачи. Время от времени Ахиноамь просила его пойти проверить, на месте ли стадо. Тогда шатер погружался в бессловесную игру веретена или штопанье прохудившейся одежды – а после возвращения солдата снова наполнялся обычным говорением.
В тот день, когда Ахиноамь объявила Саулу, что не пойдет с ним в Массифу, огонь, как и всегда, охотно и радостно потрескивал в очаге.
– Белье не скиснет без тебя! – чувствуя недоумение Саула, Иеминей заговорил из своего угла. – Если мужа твоего изберут царем, то сегодня станет последним днем прислужной работы.
Ахиноамь только махнула в сторону солдата, ничего не ответив.
– Оставь ее, – сдержано и холодно отрезал Саул. – Не видишь, у нее свои дела, а у нас, – он особо выделил «нас», давая понять, что Иеминей пойдет с ним, – свои.
«Как не видеть? И слепому видать!» – хотел ответить Иеминей, но вместо этого стал потихоньку складывать вещи в дорогу.
– И не забудь пращу и недоточенное копье, – бросил Саул на ходу.
Выйдя из шатра, он отправился к пасущимся вдали овцам. Туда и принес слуга дорожный скарб с трехдневным запасом пищи, шерстяными накидками от ночных морозов и пустынных ветров. Не попрощавшись с оставшейся Ахиноамью, они тотчас отправились верхом на ослах в Массифу.
2
Даже если путник не знал дороги в Массифу, в те дни трудно было заплутать – отовсюду тянулись повозки, начиненные всяким добром и провизией; шли пешком, погоняли верблюдов. Вдоль равнин, пригорков, ущелий… Пристройся к кому-нибудь или иди следом и не ошибешься. Все колена созваны на священный холм!
С юга и севера, от Дана до Иуды, – пылающие, запыленные серафимы слетаются на зов левитов. Сопровождаемые вооруженной охраной, несут они из опустевшего Силома ковчег. Кто видел Бога и остался жив? Кто видел славу Его, говоря «завтра» или «в следующем году»? Падают ниц, прижимаясь к земле, откуда вышли, куда… Нет, не песок, не камни – белая глина, кости отцов. Бездушное жарево, суховеи, редкие тени, лишенные жизни. Земля – престол Его. Кого другого назовут царем своим? Кому другому поклонятся? Камню? Подобной ли себе глине?
С закатом и наступлением сумерек вся округа озарилась огнищами – останавливались на ночь, снимали с животных тяжелые тюки, жгли пустынную, собранную по дороге ветошь. Веяло уютом. Запахи печеного хлеба, жарко́го стлались, стояли в воздухе густой накипью, сдобренной громкими разговорами, смехом, криками животных.
Наши путники прибились к одним из таких привальных. Расположились у костра, достав и разложив перед всеми запасы провизии.
– Ишь какой великан! Не из пеласгов ли?
На лице толстого, как пара тучных коров, симеонита отразились отблески рыжего пламени. Незнакомец вальяжно растянулся на расстеленной рогоже. Причмокивая и то и дело как будто сплевывая, он жевал слова, говорил в нос и картавил, костер называя «о́гнюшком», своих домочадцев – «тринадцатым коленом Иакова», а очередное путешествие в Массифу – «скоморошничеством». В народе такие прибаутки-присказки пренебрежительно называли «южным акцентом», людей – «южанами», хоть бы они и спустились с заснеженного Галаада.
– Отец наш – Вениамин… – отозвался Саул, усаживаясь напротив. – Всё ли в Вирсавии28 так, как хочет того Бог? Вижу, ты из тех краев. Да и люди твои нездешние.
Саул оглядел присутствующих: около десяти человек стояло в запыленных, штопаных-перештопаных обносках, которые и одеждой назвать трудно. С жадностью смотрели на яства, разложенные вокруг толстяка.
– Да и вы не отсюда, – сказал он, громко причмокнув. – Не в пустыне же дом ваш. Чудные вы, вениамитяне, такую мерзость в Израиле сотворить! До сих пор поди дочерей наших воруете?
Толстяк вынул из огня полусырой, только сверху покрывшийся черным огарком кусок мяса. Остервенело вгрызся в него. «Загнанный зверь, стая гончих, живая плоть» – пронеслось в голове Саула, и он почувствовал подступающую тошноту. Симеонит заметил перемену на лице «великана»:
– А ты сразу и раскис! – Широко, наотмашь вытер он рукавом бордовый от крови рот. – Что за народ – ни пошутить с ним, ни серьезно поговорить! А это что – слуга или раб твой? Вон отошли его к моим, пусть там околачивается.
Саул растерялся, не зная, что ответить. Перехватило дыхание, и он не мог произнести ни слова. Хамоватое чавканье словно сковало его. Старый Иеминей немного поерзал на месте, ожидая защиты.
– Ну!? – протянул толстяк, удивленно уставившись на Саула: мол, когда ты уже прикажешь слуге уйти и можно будет продолжить начатый разговор.
Неожиданно – Саул совсем не был готов к навязанному выбору – нахлынули стыд, гнев, желание разбить наглецу голову первым попавшимся камнем, вязкая паутина нерешительности…
Вздохнув, Иеминей поднялся и пошел на оживленное перешептыванье рабов.
– А вы тихо! – рявкнул толстяк и бросил недоеденную кость в притихшую кучку зачумленных людей: послышалось копошение – немая ругань за первенство обладать куском. – Никакой к ним жалости! Рабом родился, рабом и помрет. Ты, однако, молодец – не думал, что отошлешь своего бедолагу. Как ты выдрессировал его, ничего даже не сказал… Мне на моих глотку рвать приходится, иначе не понимают. Совсем от рук отбились. Скормлю их мухе29, блеять пойдут к Азазелу30!
Его маленькие вспухшие пальцы-обрубки копошились, вороша мясо, как бы вынюхивая кусок пожирнее, – выбирали, ощупывали со всех сторон, убеждаясь в его сытности и достаточной поджаренности, и только тогда предлагали его рту. А тот, попробовав и так, и этак, зажевывал, по цепочке передавая вздутым щекам, почерневшим зубам, что исполняли роль молотильни. Наконец вся эта тщательно пережеванная масса проглатывалась одним (словно какая-нибудь устрица) махом. Дальнейшая участь пищи толстяка не интересовала. Как только рот оказывался пустым, губы – эти размякшие и округлые створки – раскрывались, пропуская зажаренное – как надо! – крылышко. Происходило непроизвольное движение, в котором сочеталось все: и жевание, и нетерпеливое всасывание – до самого мозга кости, до самых – радостных и торжествующих – пальцев. «Ну как?» – будто спрашивали они. Но было и без того понятно, что рту кусок пришелся по вкусу. Малиновый, покрытый блестящим жирком, он то и дело восклицал:
– Прекрасные перепела! Клянусь жужжанием самой резвой мухи, если и в пустыне евреи ели так же, то зачем надо было идти в землю, где что ни год, то войны или засуха. А если ни то, ни другое, так что-то третье. И почему не можем мы быть как и прочие народы? Почему всегда глупость идет впереди нас?
– Не глупость это – фараониты!
Только сейчас Саул заметил сидящего рядом с толстяком человека, похожего на него. Но тот, другой, ничего не ел – смотрел на огонь. Саул даже вздрогнул.
– Везде они, фараониты. Ни про кого не знаю, знаю только, что не я.
Он говорил странно. «Бредит или того…» – подумал Саул, рассматривая понурую, тихую, чем-то озабоченную фигуру незнакомца. Походный гиматий его настолько износился, что местами проглядывало сухое, уже немолодое тело. При свете огня видна была часть его лица: горбатый огромный нос каким-то нелепым нагромождением лежал прямо на густой бороде – и рот, и щеки его, и глаза терялись в склоченных, нечесаных зарослях волос. Создавалось впечатление, что говорит кто-то другой, так как ни движения губ, ни самих губ видно не было.
– Эк тебя! – толстяк ленивым движением перебросил кость через ограду в прислужную часть. – Кто же они такие, твои фараониты?
– И кто они, и как их узнать, – ответил тот сухим далеким голосом, который напоминал эхо в пустом кувшине наполовину с жужжанием пчелы, – о том умалчивают от нас левиты.
– Эти безземельные силомляне!? – осклабился толстяк.
– А по-твоему, кому еще скрывать от нас правду? Они как думают? Чтобы держать людей в повиновении и чтобы мы приносили им жертву, надо умалчивать, не до конца разглашать истину.
– Что же они такого знают, чего мы не знаем?
– Вот ты спрашиваешь про фараонитов. А почему, ответь, ни один левит еще не сказал всю правду?
– Да что ты завелся? Какую правду? Правда в том, что если ты сам себя не накормишь, то другие только порадуются твоей бедности.
– Сказанное тобой очевидно, потому что каждый согласится с тобой. А правду надо искать в том, о чем левиты шушукаются между собой. О фараонитах ты, например, не слышал, а им, – значительно и заговорщицки показал он в сторону Силома, – про то все известно. И с тех пор, как я случайно подслушал двоих из их племени, считаю делом всей своей жизни…
Про Саула, казалось, они и вовсе забыли. Саул же старался не пропустить ни слова. Распространенным в те времена в Израиле слухам о том, что якобы левиты что-то умалчивают, он не верил, но решил при встрече пересказать Самуилу услышанную историю.
– Фараониты, – странный попутчик говорил шепотом, до смысла некоторых слов приходилось догадываться, особенно когда дул противоположный ветер, – ты понимаешь, подосланы к нам от фараона. Как пришел к нему Моисей, так и положил он в своем сердце и даже поклялся перед жрецами своими извести народ наш, чего бы это ему ни стоило. Поначалу жрецы его вслед за Моисеем и Аароном и трости превращали в змей, и воды Нила в кровь. И заметь, не просто поверхность воды окрашивали красным порошком, а то настоящая кровь была! Потому и все последующие казни посыпались на Египет, что кровь смердеть начала. Но жрецы продолжали уверять фараона: мол, все это блажь да фокусы… Так продолжалось до смерти его первого сына. В ту ночь во всей фараоновой столице погибли первенцы. На этом чаша гнева фараонова переполнилась. Он собрал десять своих самых приближенных телохранителей и приказал им взять с собой жен и детей, а также множество крестьянского и рабочего люда, чтобы затеряться между нами. Каждому, кто согласится пойти за Моисеем, фараон велел выдать щедрое вознаграждение золотыми и серебряными украшениями и деньгами, которые они должны были отдать Моисею. Израильтяне же, думая, что египтяне уходят с ними по доброй воле, принимали от них золото, весьма радуясь и думая, что обобрали бедняг. Телохранителям же фараон сказал так:
– Последнюю ночь вы пребываете в Египте. Завтра вы уйдете вместе с сынами Израиля в земли их. Будьте как они, во всем исполняйте их законы и обычаи. Детей ваших жените и выдайте замуж за их детей. Примите имя Яхве и наравне со всеми поклоняйтесь ему. Обрежьте плоть свою и ничем не отличайтесь от них – ни вы, ни дети ваши.
Воины клялись своему владыке, что ни за что не оставят его, но, наоборот, готовы умереть за имя его прямо здесь или до последнего издыхания не выпускать иноплеменников из земли их. На это фараон возразил:
– Если вы останетесь здесь, то погибнете напрасно. Я же посылаю вас к сынам Израиля, чтобы вы умерли не зря. Ради преданности имени моему во все дни ваши тайно умерщвляйте народ их. Действуйте невидимо, осторожно, чтобы все думали, что на полях случился пожар по причине грозы, что вода отравлена в колодце, потому что туда свалился прокаженный. Никто не должен улучить вас в священном мщении. Тайну эту передайте детям вашим, и пусть под страхом смерти они несут в себе мои слова, не разглашая их никому из племени Иакова.
На этом фараон умолк и всем им сообщил свое божественное имя, которое знали только немногие жрецы. Божественное имя его и было наградой им, ибо достаточно произнести его на смертном одре, как тут же окажешься в чудесных садах божественного фараона, услышишь журчанье священного Нила и легкий бриз будет обдувать твое обугленное этой грешной жизнью лицо.
– И ты веришь в эти россказни? – толстяк пожевал губами и сплюнул в костер.
– Еще бы я не верил в то, что слышал своими же ушами, и не просто от выпивох каких-нибудь – от левитов!
– А что мне твои левиты, авторитет, что ли? Они же не только про фараонитов толкуют, но и про жертвы и посты. Так что, верить каждому их слову?
– Ты не понимаешь, я тебе об их скрытой личине, а ты мне – о белых эфодах.
Саул поднялся, и двое собеседников переглянулись.
– Ты будто подслушивал! – сказал странный. – Не фараонит ли? Откуда родом? Куда направляешься?
– Оставь его, – добродушно ответил за Саула толстяк, – вениамитянин он, а идет, как и мы, в Массифу.
– В том-то и дело: фараониты живут и среди Вениамина, и в других коленах. За столько лет после исхода они расплодились по всей земле. Сейчас поди узнай, где наш, а где пакостник. Больно ты малодушен. Везде враги, а ты кости обгладываешь. Он, может, потравил их ядом и ждет, пока ты холодеть начнешь.
Толстяк поперхнулся, недоверчиво посмотрел на кусок мяса, повертел его:
– Тоже выдумаешь! – и залился добродушным смешком.
Миновав ограду, за которой помещались рабы, Саул вывел оттуда Иеминея. Они обошли костер и, не попрощавшись, без лишних объяснений, отправились прочь.
– Куда же ты собрался? – со спины донеслись утробные гневливые выкрики. – Что я тебе говорил? Как услышал, что раскусили его, так и тикать, не глядя на ночь. А слуга-то его не такой уж и слепой. Ты что, проверял? – Видимо, после отрицательного жеста толстяка он продолжил: – Вот и нечего! А впредь думай, кого приближать к себе, а с кем держаться подальше.
Между тем Саул и Иеминей отошли уже на несколько дальних бросков из пращи. Саулу никак не удавалось найти подходящие слова, а все, что приходило на ум, казалось слишком ненастоящим. После долгих размышлений и усилий он сказал сухо и неуверенно:
– Сейчас ночь, но мы пойдем, не будем ждать караван – звезды укажут нам путь, а близкий рассвет сделает шаги наши уверенными.
– Мне-то какая разница, – отвечал Иохавед, – день сейчас или рассвет. Все одно чернь непроходимая в глазах. Куда поведешь меня, туда и ноги мои пойдут.
– Пойдем, пойдем… – торопясь, Саул увлекал за собой солдата. – Осторожно, не оступись! Вот здесь выступ, а тут – камень. Здесь замедли шаг и перешагни, а теперь иди прямо…
Иеминей вспомнил о чем-то похожем, что уже было – с ним или с кем-то еще, здесь или совсем в другой земле. Где именно, слуга точно не помнил. Он просто шел, доверясь руке господина – так, словно то была рука не человека, да и вовсе не рука – луч света, букет полевых цветов, ветер, обрезанная давным-давно пуповина…
3
Сбитые, запыленные ступни, надорванные ремешки растоптанной обуви. Каменистые пригорки, скаты. Песочная пыль запеклась по краям губ, глаз. В носу, в ушах, в черных, не выбеленных солнцем кудрях. «Господи, помилуй…» – только и гудит в голове чугунным кузнечным отзвуком. Кактусовые лопухи, мелким настом песка припорошенные следы хищников, потрепанные указатели больших дорог31, дыханье и всхрапыванье ослов, зной, мешковатая, потная усталость – всему одно название, одно имя. «Господи, помилуй…» – скрипит на плече дорожной сумой, пролетает вдали неслышным вороном.
Саул завидел первые разрозненные пешие тени, стекавшиеся – по капле, по ручейку – в одно бурлящее копошенье…
– Массифа! – сказал он с затеплившейся надеждой увидеть наконец учителя, ускоряя шаг и увлекая за собой выбившегося из сил Иеминея.
– Неужели? – оживился тот, повертев головой в разные стороны. – Довела нас Ашера-Матерь! Сами бы не дошли. Пустынный чертополох, чтоб на твой гиматий заплат не хватило!
– Не ворчи, – окликнул его Саул, – давай лучше своих найдем. А то в такой толчее не то что другого отыщешь – себя потеряешь.
Иеминей плелся позади, погоняя непослушных ослов. Пробираться сквозь все больше и больше растущую толпу было задачей не из простых. Поминутно слышалось: «Посторонись!.. Эй! Телега с посудой, помале́й! Не рви! Надорвешь подпругу, вся работа назад в печь!..».
То издали, то над самым ухом. Горловые, с хрипотцой, заливистые бабьи, детские дудочки. Верблюжьи, собачьи, смешанные, отрывистые. С нахлестом, с призывами-завываньями – голоса! Скрипели, начиненные добром, возы; крутились (прямо на ходу) точильные камни, звенели кошельки. Откуда-то летело: «Завулон! Завулон!». С другого конца доносилось: «Украли! Держи стерву!».
Толпа приходила в движение, подзуживая, натравливая, волнуясь. Кто-то порывался растолкать, протиснуться. Детей поднимали на руки, и те сверху, поддавшись на общую дребедень, орали: «Жертвенник, жертвенник! А где смотреть больно32, там левиты ковчег ставят!».
Тут же несли стариков. Они глядели заплывшими глазницами вверх, видя пустоту бесконечной синевы, или, приподнявшись, различали вокруг себя потревоженный улей. Беспомощно покряхтывая и стеная, краснели, наливались несовместимой с их возрастом злобой, выдавливая хриплое: «А-а-а-а!!!» – что одновременно означало и «Сволочи!», и «Как вам не совестно, разве не видите – старого человека несут!».
Старческое «А-а-а-а!!!» сливалось с грудным, новорожденным. Последних качали и успокаивали сдобренные, молочные мамки, шикая на стариков, чтобы те не причитали, а спокойно лежали и смотрели в синее небо.
Все это смешивалось, менялось местами, накапливалось, трещало по швам, готовое в любой момент лопнуть, разлетевшись во все стороны на мелкие отдельные кочевья, шатры, крытые дубленой кожей.
Оказавшись в самой гуще людского гама, Саул не думал (казалось, вовсе забыл) о своем помазании. Глазами он искал учителя. «Самуил вспомнил о сыне своем!» – твердил он про себя взахлеб, в каждом бородатом и седовласом старце видя судью. Не один раз обознался он, становясь на колени и целуя руки совсем чужих людей. Те шарахались от «полоумного», бросая вслед: «Иди протрезвись! На святое избрание пришел, а не в погреб винный!».
После очередной неудачной попытки отыскать наставника Саул решил остановиться и присмотреть место для ночевки. Но только он завел ослов на первый постоялый двор, тут же среди других голосов – чужих и нестройных – услышал знакомое:
– Ослицы снова привели тебя к твоему старику.
И теперь ничто, кроме этого мягкого тембра, не существовало вокруг. Не раздумывая, не сомневаясь, Саул узнал его, обернулся, подбежал, припал к дорогой руке:
– Учитель! Я искал тебя везде, но, как и прежде, не я, а ты нашел меня.
Теплые, такие желанные слезы хлынули, омыв запыленное после дороги лицо.
– Позволь мне вернуться к тебе, поселиться в Раме или в Силоме и хоть изредка видеть и слышать тебя. Пустыня – не лучшее место для юности.
Самуил поднял Саула с колен, обнял, и вскоре они сидели уже на кровельной террасе постоялого двора, откуда открывался вид на город – запруженный паломниками до неузнавания. Судья смотрел на своего воспитанника, удивляясь тому, как возмужал Саул за последнее время.
– Капля за каплей вода наполняет и переполняет кувшин… – Самуил дышал тяжело и отрывисто, как могучий, но с годами уставший упряжный вол, – так и время идет и проходит. Нынче кончились ожидания, и теперь все, что сказано было Богом через меня, исполнится.
Саул недоверчиво смотрел на учителя, будто спрашивая: «О чем ты говоришь? Не радость ли долгожданной встречи роднит нас? К чему тогда вместо „сын мой, соскучилась по тебе душа моя“ говорить о второстепенном?».
– Ты думаешь, твой старый учитель не рад видеть тебя? – Самуил снова обнял Саула, взглянул на него и по-дружески потряс за плечи. – Ты говоришь в себе: «Опять этот зануда толкует о том, о чем мне нет никакой охоты слушать».
Краска сменилась бледностью на щеках Саула, ему стало стыдно.
– От тебя ничего не утаишь… – только и сумел сказать он, смущаясь и снова краснея.
– Передо мной ты можешь быть и юным, и застенчивым, – с той же веселостью сказал Самуил и тут же переменился в лице, – но сегодня Бог укажет на тебя. Для твоего же блага тебе придется научиться скрывать свои настроения и эмоции.
Саулу хотелось сказать, что он будто разговаривает не с любимым учителем, а с путешествующим философом, который подолгу готов толковать обо всем на свете… но промолчал. Ему стало обидно, он даже рассердился на судью. Ему показалось, что тот его не слышит и не понимает. Вместо этого он спросил:
– Откуда ты знаешь, что Бог изберет именно меня?
– Но Яхве тебя уже избрал! – сказал Самуил. – Или ты забыл, что произошло в то утро? А может, недостаточно тебе моих слов и нужно еще подтверждение?
Напрасно Саул пытался выдавить из себя слова об одиночестве, о том, что, будучи царем, он не знал, что ему делать, с чего начать, как себя вести, с кем советоваться… О том, что, пока есть в Израиле действующий судья, в глазах людей царь-юноша будет выглядеть смешным. Почему, хотелось ему спросить, Яхве среди сильных избрал его, слабого, в правители над остальными? Когда он покажется перед двенадцатью племенами, не полетит ли в его сторону зазубренным камнем: «Да он же слишком юн! В сражение ли ему идти? Не на войну, а на верную гибель поведет он Израиль! Впрочем, кто за ним последует? – его верблюд, и тот не послушает его голоса».
В прежние годы им не раз доводилось подолгу сидеть или гулять, не проронив ни единого слова. То были незабываемые мгновения (а порой и долгие вечера), наполненные мыслями, присутствием друг друга. Что же случилось? Прошло время? Впервые они почувствовали тягость от наступившего молчания. Впрочем, и само молчание они тоже почувствовали впервые.
– Жена, которую ты дал мне, Ахиноамь, осталась в шатре досматривать за хозяйством, – не выдержал Саул и первым нарушил доносившийся с улицы поток людских и животных окриков.
Самуил очнулся, словно кто разбудил его.
– Жена? Ты женат? – спросил он, недоумевая. Подумал и добавил: – Тем лучше, царю нужны наследники.
И снова Саул ждал иного от учителя – ждал неподдельной радости, пожеланий счастья и рождения Мессии. Но больше всего Саул пришел в отчаяние, когда Самуил сказал:
– Однако почему ты говоришь, будто это я дал тебе в жены Ахиноамь? Поверь, ни вчера и никогда раньше не знал я женщины, носившей такое имя. Она к тебе сама пришла?
Вихрем пронеслись в голове Саула цепкие вкрадчивые слова Ахиноами: «Судья и пророк Божий приветствует тебя, и для того, чтобы царство твое укрепилось, велит тебе взять меня в жены. А уж затем он позовет за тобой, чтобы идти в Массифу… Самуил предупредил меня, что тебе потребуется время свыкнуться с мыслью, что отныне у тебя есть жена… Самуил открыл мне твою тайну…». Голубой полупрозрачный газ, коричневое платье с красным нагрудником и поясом. «Судя по ее настрою и голосу, – говорил Иеминей, – она опытна и совсем не девица. Просто зайди с ней в шатер, а там… Главное, ничему не удивляйся и ни перед чем не робей». Кольцо… «Жена по закону Моисея и Израиля». Как же без благословения?..
– Но… – на глазах у Саула блеснули слезы обиды. – Как такое возможно?.. Нет… Этого не может быть!..
Саул вскочил, мечась из стороны в сторону, перебегая с одного конца крыши на другой, словно ища выход. Наконец он наткнулся на лестницу. Всем телом обрушился вниз. Через несколько ступеней перепрыгивал он, несясь вон с постоялого двора. Одним махом опрокинул, разбив, глиняную бадью с водой. Налетел на паруса развешенного белья, повалив все на землю. Не заметил он ни старого солдата, поднявшегося и идущего на внезапный шум. Не слышал он и: «Постой! Куда же ты?» – Самуила, кричавшего ему с кровли.
4
Не только местные жители окрестностей Массифы, но и сама земля помнила падение филистимлян. Кое-где оставались еще рытвины и котлованы, поглотившие вражеские полки. Местные мальчишки находили в полях то золотую чешую доспехов, то дышло пеласговой колесницы. Этим находкам никто уже не удивлялся. Пожимая плечами и лениво разглядывая заржавелый короткий меч, взамен показывали целый арсенал кольчуг, пик, дротиков, полных колчанов. Нередко на городском торжище выставляли филистимское добро, однако покупателей находилось немного, разве кто из приезжих, кому все это старье было в новинку. Поэтому массифляне шли на всякого рода уловки, рассказывая простодушным слушателям о подробностях «того памятного дня». Странно, но почти каждый лавочник находился тогда рядом с Самуилом, видел своими собственными глазами, как ангел сходил с небес в виде огня и пожирал принесенную жертву. Уверяли и клялись всем святым, что именно на их верблюде Самуил помчался в погоню за неверными. Находились даже такие, кто помог судье взобраться на двугорбое животное.
Делец Захария был сыном барахольщика Иуды. Прошлой весной одураченные паломники вынесли все товары его отца и, на радость сбежавшихся зевак и на горе самого Иуды, утопили копеечные богатства в быстром течении Иордана. Иуда страдал недолго и в скором времени снова стал промышлять нестаптывающимися сандалиями из тирского тростника да крысиными шкурками, которые он гордо именовал тивериадскими выдрами.
Захария был проворнее отца и пошел дальше. Видя несдержанность своих соседей, он живописал яркими и проникновенными красками, как, увидев Самуила верхом, лично поднял остальной народ, «благодаря чему, кстати, филистимляне и пали в тот день…». Рассказывая, он словно перерождался. Размахивал руками, показывал, как на ходу судья передал ему вожжи, а сам настигал древком посоха бегущих с поля боя пеласгов. При этом доставал судейский посох, отказываясь не то что продавать его, но и давать подержать в руках. В конце концов, после долгих часов искусной торговли, он отдавал палку за несколько десятков шекелей серебром, заклиная счастливых покупателей беречь реликвию, передавая ее от отца сыну, а главное, никому не говорить о том, что Захария, встретив добрых людей, продал им драгоценность, дороже которой может быть лишь ковчег или тайные знания, полученные от Моисея. Но случались и курьезы, когда на узких изломанных улочках Массифы можно было увидеть незнакомых друг другу прохожих, осторожно несущих резные «Самуиловы посохи». После такого Захария нередко бывал бит, а его лавка разносилась в глиняные со стекольными осколки.
Вслед за Захарией, как ни рискованно было заниматься таким ловкачеством, у каждого лавочника (и даже не важно, чем он торговал – специями ли, вином, побрякушками или манускриптами) отыскивалась-таки при счастливой направленности беседы пара «завалявшихся» посошков.
* * *
На жертвеннике догорала тушка заколотого ягненка. Окруженный левитами, ковчег стоял на возвышении чуть поодаль. Самуил, подняв руки, возносил благодарственную молитву. Вниз по склону холма насколько хватало глаз колосилось живое поле, поделенное на двенадцать расходившихся во все стороны лучей: от Иуды, самого длинного, до Вениамина – небольшой черточки, едва достигавшей подножия холма. Затаив дыхание, этот единый организм внимал происходящему на вершине. Слушал вдохновенную речь Самуила, не пропуская ни слова.
– О начале моего судейства большинство из вас не помнит, расспросите о том отцов ваших. – Обладатели «Самуиловых посохов», разглядев настоящий посох в руках судьи, разламывали свои палки, проклиная Захарию и божась расквитаться с прохиндеем. – Многие из вас родились и росли на моих глазах. Я радовался вместе с вами на ваших свадьбах, носил траур, оплакивая ваших мертвецов. Вся жизнь моя перед глазами вашими. Вы знаете все пути мои. Ногами моими исхожены селенья и города, где щедрым Сеятелем рассыпано обетование Авраама. Пусть же выступит из вас тот, кому не известно лицо мое и кто белизну одежд моих видит впервые.
Никто не вставал.
– Тогда, – снова заговорил Самуил, – выступите вперед те, кого я осудил, оклеветал, кому остался должен невыполненным обещанием или деньгами. Может, я брал подарки и приношения или обидел вас словом, не оказал гостеприимства, должного внимания. Или есть прочее, чего я не помню, но что в ваших сердцах лежит мельничным жерновом33?
Самуилу показалось… нет, он и вправду заметил среди прочих устремленных на него глаз пронзительный взгляд маленьких черных углей. Они высматривали исподлобья, наблюдали. Самуил почувствовал за собой слежку, словно каждое его слово записывали, перетолковывали.
«Не сейчас! Кто бы это мог быть? Как не вовремя! Аккуб? Шаллум? Талмон? Кто еще… Ахиман?» – проносились перед ним имена и лица стражников, приставленных к скинии. Но ни в одном из них он не узнавал такого сверлящего ока. «Где же он?!» Самуил огляделся. «Упустил! Высматривает теперь со стороны».
Широкая седая борода и длинные заснеженные волосы умело скрывали его минутную растерянность. Самуил все еще пытался вспомнить, где и когда он уже – «наверняка!» – пересекался с этими углями, но тысячи других глаз были устремлены на него, ожидая последних слов его судейства.
– Если же нет у вас ничего против меня, – трубный медный голос его снова покрыл рассеянное до горизонта племя Израиля, – тогда я буду судить вас перед единым и невидимым Господом!
Самуил подошел к жертвеннику и бросил жменю благовоний на красный накал решетки. Сладкий дым взвился плотным молочным облаком, змеиным капюшоном навис над судьей. Держа в руке посох и лицом обратясь к небу, в своем горении и непреклонной воле он был похож на древних праведников.
Поднимаясь все выше, благовония смешивались с дымом жертвы всесожжения. Спокойно и тихо. Не потревоженные гулявшими на вершине холма сквозными ветрами, серые клубы – пряжа необработанной шерсти – превращались в тонкие струи, нити. Ручейками, лентами вились, вытягивались, в белом полуденном свете исчезая из виду. Словно кто-то вдыхал их, наматывал на веретено. Вслед за жертвенным дымом возносились другие – далекие, возжигаемые еще руками праотцев. Жертвенники Авраама, Исаака, Иакова… Благодарственные и покаянные, просительные, ежедневные и праздничные. Поднимались легкие кадильные облака, перемешивались с гарью костров, военных пожарищ, оставленных поселений, разрушенных очагов.
На какое-то мгновение жертвенный дым скрыл Самуила. Различимы были лишь неясные очертания. Саулу даже показалось, что не голос его любимого учителя, а чревовещания призрака доносятся из-под земли.
– Приходили судьи, пророки, провозглашая, что нет для Господа слаще дыма, чем дым покаяния. Но не послушали их – забросали камнями и прогнали из селений своих, не перенося, как нестерпимую боль, истину. Решили поставить царя и возжечь перед ним покорную жертву рабов – мерзкую перед Господом. И хорошо, если бы слушались царя своего, – может, и простилась бы вам слепота ваша. Так нет, вы и царя своего невзлюбили – и преследовали его, и насмехались над ним, и от злости или от скуки убили его!
Многие в толпе переглядывались: мол, о чем говорит судья? как можно убить еще не избранного царя?
– Было бы для вас лучше родиться безногими, безъязыкими и безумцами, – Господь ничего бы от вас взамен не потребовал. Но так как вы зрячи, а бельмами обрастаете, лишь когда на то находится причина, выгодная для вас, то суд Его будет праведным, немилосердным. И в тот день вы скажете: зачем вынашивала меня мать моя, не лучше ли было для меня стать камнем или растением?
С последними словами судьи небо вдруг почернело и сплошным раскатом – сверху донизу – молния расколола надвое завесу душного дня. Люди падали – кто где стоял – на колени, стеная громким плачем, чтобы Самуил помолился и чтобы Яхве избавил их от верной гибели. Взрывами, трескучими всполохами обрушивались отовсюду молнии, озаряя Массифу, вдруг погрузившуюся в темноту. В мелькании внезапных разрядов, в грохоте различались обезумевшие от страха – даже не лица, а глаза… выпученные, лезущие из орбит. Лишь иногда в них узнавался старик или ребенок, после чего снова что-то среднее между животным и человеческим – крик, одновременно отчаянный и бессмысленный, озлобленный и просящий о помощи…
Так же внезапно, как наступила тьма, небо вдруг просветлело, и вся природа словно оглохла. То здесь, то там – кто был посмелее – поднимали головы, как бы спрашивая друг друга, что это было, в страхе оглядываясь по сторонам, ожидая новых огненных стрел и громовых клокотаний.
– Подходите каждый по племени вашему, – наконец провозгласил Самуил, опустив обессиленные руки, – и Господь укажет среди вас достойного понести золотой терновник короны.
После обрушившегося ненастья и таких слов немногие решались подходить первыми. Прятались за спины, пропускали свою очередь, дожидаясь конца шеренг. Шептались, распространяя из рядов в ряды нараставший ропот: «Если царство грешно, то и за царем грех будет ходить неотступно». «Идите, идите, – слышалось то и дело. – Еще вчера каждому хотелось быть избранником, а теперь… Чтобы всю жизнь на тебя сыпались осуждения с проклятиями – нет уж!»
Подходили. Самуил, глядя на них, отрицательно качал головой. Те облегченно вздыхали, будто сбросили с себя неподъемную ношу или им только что сказали, что на самом деле белое пятнышко на их руке – не проказа. Подолгу рассматривали тех, кому еще предстояло выдержать взгляд судьи: «Не этот ли? А если не этот, то который из них?».
К вечеру, когда нескончаемая людская река поредела и оставалось лишь несколько неродовитых семей, большинство понимало, что тяжелый рок царства, нависавший над каждым из них, миновал. Однако в общей нескрываемой радости угадывалось и беспокойство. Если судья никого не одобрил, кому тогда быть царем? Стали поговаривать даже, что Самуил нарочно задумал так, чтобы и впредь оставаться у власти. Старейшины бросились искать, не остался ли кто из народа в своих селениях. Но не успели они и шагу ступить, как от толпы отделились Сихора и Аша. Рядом с ними, виновато опустив голову, смиренно шел Саул: ноги не слушались, несколько раз он спотыкался. Гиматий его был разорван и измят.
– Мы нашли его за обозами, – торжественно объявил Сихора, подойдя к Самуилу. – Там он, как последний предатель, следил за всем этим маскарадом и прятался.
«Сихора! Сихора! Толстосум Сихора! Вирсавлянин!» – словно финиковая роща зашелестело среди толпы.
Самуил узнал эти горящие угли: «Конечно, кому же еще… Ни золотом, ни старостью не насытился». В одно мгновение вся жизнь Сихоры – начиная от помощника Кир'анифа до последней войны, побега, скорого обогащения и клеветы на Иоиля и Авию34 – пронеслась перед судьей. Он вспомнил об оставленных в Вирсавии сыновьях и Эстер… И совсем неожиданно подумал, что во время жатвы молнии так же редки, как благочестие в Израиле.
– Так вот кого ты хочешь поставить вместо себя? – Сихора выкрикивал, став спиной к Самуилу, размахивая руками и говоря к народу. Из слов его выходило, что Самуил желает выдать самозванца за истинного царя.
– Взгляните на него, братья! – говорил он. – Ему ли поднять армию и повести нас против врагов наших? Сын Кисов – пастуший сын. К чему было звать нас в Массифу, если судья еще на пире в доме своем приблизил юность его к себе? Или он думает, вы поверите, что этого мальчишку на царство поставил Яхве?
Вместо шороха финиковых пальм по толпе прокатилось несколько чугунных, пустых шаров нараставшего ропота.
– Много достойных среди нас, – ободренный поддержкой, Сихора повернулся к судье. – Собери левитов и бросайте урим с туммимом. Хватит, долго мы ходили за тобой молчаливым стадом!
Шаров стало гораздо больше – они несли за собой гул недовольства, бурю.
– Не я избирал Саула, – выдержав паузу, сказал судья. – Но, чтобы вы не слушали лжецов и проходимцев… – посохом Самуил указал на Сихору, – будь по-вашему, я брошу жребий.
И велел Самуил подходить всем коленам Израилевым, и указано колено Вениаминово. И велел подходить колену Вениаминову по племенам его, и указано племя Матриево35; и приводят племя Матриево по мужам, и назван Саул… И сказал Самуил всему народу: видите ли, кого избрал Господь? Подобного ему нет во всем народе. Тогда весь народ воскликнул и сказал: да живет царь!..36
Теперь упреки посыпались на голову Сихоры. Вспомнили и его происхождение, и языческое его жречество.
«Пеласг обрезанный!.. Служитель мухи!.. Пригрели на земле своей!.. Против Яхве пошел, против помазанника Его! И нас за собой увлечь хотел!.. Бей его!..»
Вслед за гневными угрозами в сторону Сихоры – один за одним, сильной дробью, градом – посыпались камни. Сквозь шум и неистовство толпы едва слышались слова Самуила о Сауле: «Никто в Израиле не превзошел помазанника Божьего ни ростом, ни красотой».
А тем временем проклятия с камнями уже летели в другую сторону: «И этот был с ним! У-у-у, рожа пеласгова!!!».
Аша хотел под шумок переждать в стороне, но после того, как несколько булыжников едва не размозжили его голову, он с удивительной ловкостью догнал своего кормильца. Несмотря на статус купца и старческую обрюзглость, Сихора, петляя, изворачивался от тяжеленных ударов не хуже лесной серны. Аша приноровился, и теперь их восьмерки вызывали больше смеха, чем недавней злобы.
А на расстоянии в несколько улиц, независимо от толпы, гнавшей Сихору и Ашу, еще одна толпа, значительно меньше первой, преследовала бедолагу лавочника. Уже изрядно поколоченный обманутыми покупателями, Захария на ходу присоединился к купцу и его слуге, решив очевидно, что втроем их меньше поколотят, чем по одиночке.
А царь израильский, раскрасневшись, стоял и не знал, что ему делать – ни сейчас, ни завтра. Старейшины с простыми людьми подходили, приветствовали его, желали много лет царства и Божьего заступничества. Подносили дары, называли свои имена и имена своих родственников. С ходу предлагали планы по переустройству и защите царского города Гивы, по сбору пошлин. Напрашивались в советники, военачальники, писари, телохранители. Отцы предлагали в танцовщицы с наложницами своих дочерей. Все до единого восхищались его молодостью, особо отмечали скромность и немногословность царя. До самых ночных костров люди подходили и подходили. Потом заиграла музыка. Разделывались и жарились на вертелах тельцы с баранами, лилось вино. Весь холм Массифы озарялся всполохами веселья, громом кимвал с раскатами труб и звоном псалтирей. Тосты, здравицы, пожелания многих лет: «Да живет царь!.. Да здравствует всякий, клянущийся именем его!.. Пришло наконец время, когда Господь услышал молитвы наши!..»
Голова Саула кружилась. Ему казалось, вот-вот – на глазах у всех – он упадет в обморок. Оставшаяся в шатре самозванка (теперь он был точно уверен, что она самозванка) Ахиноамь… Затаенная обида на Самуила… Чувство, что его обманули, посмеялись над ним… «Все не так, не так все!..» – думал он, сжимая пульсирующие виски.
27
Если Ахиноамь означает «мой брат милостив», то Ахимаац – «мой брат разгневан». Для современников эта игра слов могла означать равновесие, как пустыня и вода или большое расстояние и быстрая колесница.
28
Один из главных южных городов. Для современников ответ Саула звучал насмешкой, так как намекнуть на «южную» особенность произношения значило то же, что назвать человека неотесанным, деревенщиной.
29
Культ Ваал-Зевула.
30
Так называли «козла отпущения». См. Лев. 16:5, 7—10, 21—22. Азазел – падший дух пустыни.
31
В Древнем Израиле на пересечении основных дорог стояли столбы с обозначениями направлений наподобие современных указателей.
32
Блестящие на солнце белые одежды священнослужителей и золотая облицовка ковчега.
33
Никто не смел выйти из сомкнутых рядов. Некоторые – потому, что действительно не имели ничего против судьи, другие… То, о чем говорил Самуил, считалось необходимым вступлением (эти правила риторики использовались также в официальных письмах и на застольях). Смысл всегда был один и тот же: оратор в начале выступления искусно оправдывал себя, после чего переходил ко второй – главной части своей речи.
34
Сыновья Самуила.
35
М«атрий – родоначальник племени в колене Вениамина.
36
1 Цар. 10:20, 21, 24.