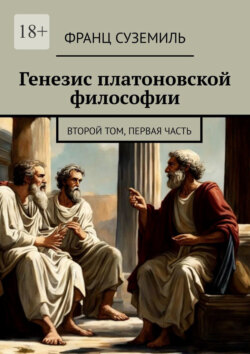Читать книгу Генезис платоновской философии. Второй том, Первая часть - - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Третья серия платоновских сочинений Содержательные диалоги
Государство
I. Прежние представления об этой работе
ОглавлениеДо недавнего времени государство считалось исключительно этическим делом, за исключением того, что иногда рассматривалась мораль отдельного человека, как это наиболее решительно делал Пинцгер76, а в последнее время Моргенштерн 77и Шлейермахер78, как мораль единичного человека, справедливость с ее последствиями, затем, как это недавно сделали Оргес79 и Реттиг80 и в более умеренной форме Гегель,81 политика, представление наилучшего государства, рассматривалась как главное содержание единого, и вскоре, наконец, они оба были призваны к объединению. Два первых взгляда одинаково ведут к отрицанию в произведении строгого единства и внутренней необходимости всех его частей. Так, с одной стороны, Моргенштерн и Шлейермахер рассматривают чисто политические дискуссии лишь как побочный сюжет или как «отступление», связанное с основным вопросом лишь постольку, поскольку, с одной стороны, личная мораль возможна только в государстве и посредством государства, так что ее большее или меньшее совершенство зависит от совершенства последнего, а с другой стороны, государство должно быть организовано прежде всего для достижения этой цели, так что законы морали должны быть также законами политики. Однако такое дурное положение вещей тем более избегается решением Пинцгера, что он все же вынужден допускать некоторые эксцессы в политических спорах. Ведь он придерживается буквальной версии заявления, приведенного в II. p. 368. C. ff. что государство – это в большом масштабе то же, что индивидуальная человеческая душа в малом масштабе, и что поэтому отношения последнего легче распознать по более узнаваемым чертам первого, и теперь толкует это так, что лучшее государство, установленное здесь, которое должно быть простым, нереализуемым идеалом, может рассматриваться только как иллюстративный образ лучшей внутренней конституции души, в которой справедливость является руководящей нормой для обоих в равной степени. И точно так же, с другой стороны, Реттиг рассматривает обсуждение справедливости лишь как внешнюю отправную точку исследования, от которой оно постепенно продвигается к совершенно иным целям, тогда как на самом деле неоспоримая платоновская особенность часто вести от явно подчеркнутого предмета своих рассуждений к гораздо более глубоким вопросам, чтобы скрыть конечные цели своих бесед, применима лишь в той мере, в какой первое в конечном счете возникает как существенный компонент второго. И вот, среди всех этих взглядов гегелевский, согласно которому справедливость обретает свою действительную истину только в государстве, объективной реальности права, а содержанием диалога является возвышение простой индивидуальной добродетели до высшей политической добродетели, полностью поглощенной государством, – единственный, при котором произведению не будет недоставать внутреннего единства, единственный, который также избегает общего для всех остальных недостатка рассматривать справедливость скорее как субъективную, чем как объективно-формальную, т. е. как идею права.
В любом случае, эта версия будет предпочтительнее такого чисто внешнего сочетания двух сфер, как C. E. Ch. Шнайдер,82 согласно которому идеал морали и политики в диалоге должны идти на равных, и если Гернхард83 находит общий центр для «личной морали и счастья и государства в справедливости и мудрости, то сама эта связь все равно будет амбивалентной, а с другой стороны, указанный недостаток в понимании понятия справедливости не устраняется. Поэтому более ощутимым он становится тогда, когда Штальбаум 84скорее признает основную идею произведения в необходимом взаимодействии между совершенной добродетелью отдельного человека и государства в целом, поскольку оно опосредовано общим для обоих законом – идеей справедливости. Концепция справедливости как идеи права еще яснее вырисовывается у Германа85, который в то же время дал более правильное применение тому факту, подчеркнутому Пинцгером, что государство и индивид, к которым в «Тимее» в качестве третьей аналогичной величины добавляется сама Вселенная, различаются не качественно, а только количественно. Качественно различаются, говорит он, только добро и зло, гармония и дисгармония; доброе государство, добрый человек, добрый мир основаны на одной и той же гармонии, которая, выражаясь в разных величинах, не может ввести в заблуждение истинного музыканта, пока само отношение остается неизменным. Как человек – это мир в миниатюре (Phileb. p. 29), так и государство – это человек в большом; все три, как в целом, так и в отдельных своих частях, стоят между собой и в самих себе совершенно в одном и том же отношении, и переход от рассмотрения справедливости в отдельном человеке к анализу того же в государстве происходит не иначе, как при обращении математика с одной и той же «пропорцией по необходимости» то в долях, то в целых числах, или приведение отдельных ее долей к одинаковым знаменателям путем умножения. Эта общая мера или идея права, которая, однако, могла бы также осуществляться в государстве или в отдельном человеке, теперь рассматривается здесь скорее во взаимодействии двух, в рамках которого оба обретают все большую ясность благодаря взаимному освещению.
Если, как мы увидим, эта точка зрения, согласно которой индивид, по крайней мере, не просто средство, а государство – самоцель, как у Гегеля, но в некоторых отношениях имеет место и обратное соотношение, на самом деле является более правильной, то она также, кажется, обеспечивает основную идею, которая последовательна сама по себе и в равной степени охватывает все части произведения. Однако, с другой стороны, тот факт, что Герман86 фактически хочет применить эту основную идею только ко второй-четвертой и восьмой-девятой книгам, которые он объявляет фактическим ядром произведения, должен вызывать беспокойство. Пятая-седьмая, а также десятая книги рассматриваются как более поздние, оправдывающие или развивающие дополнения, связывающие настоящее произведение с более ранними и более поздними с более высокой точки зрения. Недостаточно ответить87, что подобные предположения всегда остаются чем-то очень субъективным; скорее, они являются совершенно неотъемлемым следствием излагаемого взгляда, который Германн признал со свойственной ему проницательностью и который, напротив, должен требовать еще более тщательного изучения на предмет того, не является ли сам этот взгляд уже исчерпывающе правильным..
В самом деле, в развитых до сих пор взглядах уже достаточно элементов, указывающих помимо них на еще более глубокую версию основной идеи. Моргенштерн 88уже находит многие другие вопросы, помимо политики, обсуждаемые в диалоге вторично, и среди них само учение об идеях. Шлейермахер89 замечает, что понятие добродетели неотделимо от идеи блага как такового, но что последняя – в ее более полном значении – может быть поднята только в связи с общим государственным интересом в правильном устройстве жизни, и что поэтому в этой работе не только вся предыдущая этическая, но и диалектическая предварительная работа должна быть снова взята, связана друг с другом и доведена до конца, и что все диалектическое должно быть вплетено в изложение политического воспитания. Мунк 90даже объявляет часть, посвященную природе и воспитанию истинного философа, то есть пятую-седьмую книги, действительным ядром всего произведения, поскольку этика и политика основаны на проникновении в идею блага, и поэтому считает, что он распознал действительную цель философии в ее представлении философии как науки о жизни. Но чем правильнее все это, тем больше приходится действительно возвращаться еще дальше от идеи права к самой идее блага как ее глубинному корню; работа могла бы быть чисто этической, если бы только поверить поспешному утверждению Оргеса91, что идея государства – одно и то же с идеей блага. Гернгард92 хочет, наконец, отличить мудрость (φρονησις), которая покоится исключительно на самой себе и состоит в осуществлении самой идеи блага, от простого опыта государственного устройства и государственного управления, σοφια, (IV. p. 428. B. D. E.), который скорее сам зависит прежде всего от справедливости (p. 433. B.), и по этой самой причине в дополнение к справедливости, т. е. Поэтому, помимо справедливости, т. е. олицетворения всего практического, он включает в формулировку фундаментальной идеи также мудрость, т. е. интеллектуальное совершенство, но, как отмечалось выше, оставаясь при этом с чисто этико-политическим взглядом, он, по сути, расторг единство того же самого и тем самым, сам того не зная и не намереваясь, показал неадекватность такого взгляда.
Сомневаться, действительно ли Аст, повторяющий утверждение Шлейермахера, что в государстве даже самые ранние умозрительные исследования приходят к завершению,93 в отличие от последнего, стал рассматривать его скорее как диалектико-этическое произведение, можно скорее после его туманного и слишком малосодержательного определения тенденции того же самого охватить всю человеческую жизнь, от первого воспитания и образования до высшей эффективности в государстве.
И вот Штейнгарту 94принадлежит великая заслуга в том, что он нашел высшую точку единства в идее добра как принципа нравственного мироустройства и содержания диалога во всей совокупности его различных проявлений в этой сфере и самым проникновенным образом показал, как все различные компоненты диалога с самого начала рассчитаны на эту конечную цель, как все различные нити диалога сходятся в нем таким образом, что каждая из них оказывается незаменимой и между ними происходит самая разносторонняя и полная связь. Это тем более должно смущать, что сам Штейнгарт95 считает, что Платон был занят этим произведением с самых ранних времен своей литературной деятельности и во все периоды ее так, что в разное время, с разных точек зрения, он мог извлечь из него максимум пользы, В разное время, с разных точек зрения, которых становилось все больше и больше, он сделал ряд черновиков и планов изложения своей теории государства, которые он уже набросал в уме на ранней стадии, и не опубликовал их, но после написания «Филебов» реализовал их в соответствии с более полной точкой зрения, переработал их, объединил и таким образом слил в единое целое. На самом деле, после всех прочих объяснений Штейнхарта, нет ни малейшей причины, по которой Платон должен был работать над одним только этим произведением иначе, чем над всеми остальными, поскольку он сам достаточно хорошо объясняет разницу между частями в тоне и манере изложения, на которую ссылается только Штейнхарт, по внутренним причинам (см. ниже). Таким образом, все это предположение является чисто субъективным, не обусловленным никакой фактической необходимостью, и в действительности оно восходит даже к Германну, который, за исключением первой книги, допускает, что весь корпус произведения возникает только после «Филебов»; более того, хотя оно и кажется соответствующим генетическому способу платоновского создания, утверждаемому Германном, на самом деле оно снова ставит его под сомнение. Ибо как бы мы ни подчеркивали (Thl. I. p. 5.), что зародыш его учения об идеях был отчасти уже врожденным в Платоне, отчасти уже стал жизнеспособным в самые ранние моменты его формирования, и что это должно быть распространено и на его политические взгляды, все же настоящее формирование последних, достойное этого названия, зависит от учения об идеях и от других влияний, впервые оказанных на него во время его путешествий, так что о нем нельзя говорить раньше. Действительно, Штейнгарт противоречит сам себе, когда все же находит, что в государственном деятеле общность жен и имущества опекунов, которая является одним из наиболее универсальных аспектов платоновской доктрины государства, еще не присутствует96. Настоящий гений Платона заключается именно в том, что Платон полностью и безраздельно посвящает свое внимание вопросам, которые необходимо решить в первую очередь, а не другим вопросам, которые становятся важными лишь впоследствии.
76
De iis, quae Aristoteles in Platonis Politia reprehendit, Leipzig 1822. 8. S. 1—12.
77
De Platonis republica commentationes tres, Halle 1794. 8. S. 23—73. bes. 51—53. 55 —59, 60 —65.
78
Uebers. III, 1. B. 63 ff. Auch de Geer in seiner übrigens sehr unbedeutenden Diatribe in politices Platonicae principia, Utrecht 1810. s. S. 121 ff. Anm. legt auf die Gerechtigkeit wenigstens den Hauptnachdruck, meint aber, ohne dies näher zu begründen, es habe in der Natur von Platons politischen Principien gelegen, die Behandlung des Staats damit zu verbinden.
79
Comparatio Platonis et Aristotelis librorum de repubUca, Berlin 1843. 8. S. 10.
80
Prolegomena ad Platonis rempublicam, Bern 1845. 8.
81
Gesch. der Phil. II. S. 269 ff. Eben so Stuhr Vom Staatsleben nach platonischen, aristotelischen und christlichen Grundsätzen, Berlin 1850. 8. I. S. 42. f.
82
In seiner grossen kritischen Ausg. des Staats, Leipzig 1830—33. 8. Bd. I. Praef, S. XI f. Eben so Schramm Plato poetarum exagitator, Breslau 1830. 8. S. 37 f.
83
De consilio, quod Plato in Politiae libris secutus esset, indagando et eruendo in Wes termann und Funkhänel Acta societatis Graecae Pol, 1. Leipzig 1836. 8. S. 209 fi. bes. 216.
84
Opp. III, 1. (Gotha 1829. 8.) Praef’at. bes. S. XXV – XXIX.
85
Die historischen Elemente des platonischen Staatsideals in den gesammelten Abhandlungen S. 134 —136., vgl. Gesch. u. Syst. S. 539. Aehnlich schon Proklos Comm. ad Remp. p. 349 und eben so neuerdings Teuffel in seiner Uebers. (Sammlung von Oslander und Schwab), Stuttgart 1855. 16. S. 8 – 12., der aber mit Unrecht diese Betrachtungsweise so fasst, als wäre sie mit der Hegels einerlei, und Munk a. a. O. S. 299 f.
86
Geseh. u. Syst, S. 539 f. 694 f. Anm. 676 – 681.
87
Mit Teuffel a. a. O. S. 2*2.
88
a. a. O. S. 66 ff.
89
a. a. 0. S. 69 f.
90
a. a. 0. S. 301 f.
91
a. a. O. S. 10. Dass indessen hiebei eine sehr richtige Ahnung zu Grunde liegt, erhellt schon aus den vorhin angeführten Bemerkungen Hermanns, und Orges hat immer das wesentliche Verdienst, hiemit die bisher noch ungelöste Frage nach dem Verhältniss beider Ideen zu einander wenigstens überhaupt erst angeregt zu haben.
92
a. a. 0. S. 212—216.
93
Platons Leben und Schriften S. 341. Auch Stallbaum a. a. O. S. LXII f. und Socher Ueber Platons Schriften S. 338. schliessen sich diesem Schleiermacherschen Satze an.
94
a. a. Ο. V. S. 32 ff.
95
a. a. Ο. V. S. 122·—125.
96
a. a. Ο. V. S. 686. Anm. 194.