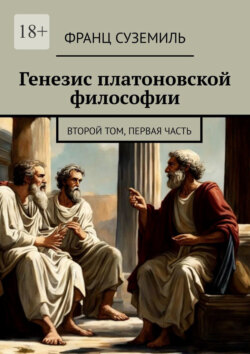Читать книгу Генезис платоновской философии. Второй том, Первая часть - - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Третья серия платоновских сочинений Содержательные диалоги
Филеб
III. второй раздел, с. 14. B.-20. B.
ОглавлениеВов котором вкратце повторяется содержание этих двух рассуждений, и тем самым действительно достигается как методическое основание для рассмотрения вопроса, так и фактическая связь его с учением об идеях. Здесь снова, как и в начале «Парменида», p. 128. E.-130. A., и в том же примере, единство вещи, о которой идет речь в «Софисте», отбрасывается как незначительное в множественности ее свойств и эмпирического целого в множественности его частей, p. 14. G.-E. 11(см. Thl. I. p. 337 f.), и скорее, как и там, делается ссылка на более сложную аналогичную проблему в отношении самого мира идей, p. 15. A., а затем повторяет вытекающие оттуда возражения. Здесь, однако, проблема уже решена в «Софисте», а значит, уже предвосхищена в «Пармениде», с. 128. E. f., и далее, с. 135. B. 0. Предварительный вопрос, уже решенный в «Софисте», а значит, и в «Пармениде», p. 135, B. 0., – следует ли вообще принимать Идеи как истинно существующие, – сначала вводится, а затем, во-вторых, если следовать объяснению Штальбаума12 как наиболее естественному, ставится дальнейший вопрос о том, как удержать становление от них, который вообще не встречается у Парменида в этих словах, но который в принципе говорит не о чем ином, как об отношении единства и множественности чисто внутри самих идей, о бытии-для-себя каждого индивида к неслиянности всего в высшем, которое, таким образом, уже содержится у Парменида в приведенном выше отрывке, ср. p. 129. B. D. ff, и p. 135- E. повторяется еще раз. Наконец, в-третьих, из трудностей, возникающих в связи с отношением Идей к миру явлений, повторяется только первая из тех, которые излагаются там, начиная с p. 130. E. и далее (см. Thl. I. p. 338 ff.), потому что только она относится непосредственно к единству и множественности и потому что, кроме того, все остальные уже включены в нее и возникли в основном только в результате попытки обойти их. – p. 15. B. C. Столь же мало необходимости повторять здесь разрешение всех этих возражений; скорее Платон просто позволяет Протарху уступить учению об идеях со всеми его последствиями, p. 15. C. 11 12), и чем больше он тем самым признает себя учеником платоновского Сократа, тем больше, как правильно признал Штейнгарт13, сразу же следующая полемика? что, хотя связь многих с единым лежит в природе человеческих законов мышления (в нарушении которых обвиняются элеаты,14 простое стояние на месте перед этой формулой, как будто вся мудрость уже заключена в ней, также является эристикой, которая ничем не лучше, p. 15. B. -16. A., для восторженных последователей Платона. Это, кроме того, видно из того, что сам Протарх действительно чувствует себя задетым этим и в шутку угрожает Сократу, чтобы тот выполнил его предупреждение и полностью объединился с Филебом против него, то есть действительно выступил против него с такой же надменностью, как и последний, следствием чего как раз и является эристика, p. 16. 16. А. Платон мог тем более опасаться проникновения того же самого в свою собственную школу, что и школа Сократа, которая и без того была побеждена софистикой, не смогла удержаться от распространения ее в такой форме. В то же время, однако, в этот момент он как бы заново защищается от смешения своей косвенно-критической процедуры с эристикой и указывает, что последняя могла иметь место в его позиции только при исключительном подчеркивании той или иной стороны в антиномиях, а потому была устранена всесторонним характером его трактовки. С другой стороны, этим замечанием он косвенно признает, что сам еще не вышел за пределы доказательства факта разделения идей вообще, и видно, что он еще намерен дать более точное объяснение того, как это делается в деталях, хотя, согласно его собственному объяснению в следующем (с. 16. B. C.), трудности этого еще не преодолены. Это второй отрывок, в котором Платон – даже более явно, чем в первом, Phaed. p. 100. D., см. Thl. I. p. 449 – выражает определенную неудовлетворенность своими предыдущими результатами, поскольку хорошо чувствует противоречие, что косвенный метод умозаключения, которым он до сих пор пользовался в единственном числе, должен быть лишь подготовительным вспомогательным средством для его позитивной диалектики.
Платон, конечно, не приписывает это дефекту своего учения об идеях, в рамках которого нет подлинно положительного перехода от высшего понятия к низшему и от идеи к индивидуальной вещи, а есть только отрицательное устранение, и, следовательно, нет прямого дедуктивного вывода, а есть только деление, и точно так же для обратного способа индукции, причем сам Платон, кажется, этого не осознал, остается только косвенный вывод; но он обвиняет в этом – в соответствии с принципами, выраженными в «Федоне» p. 89, C. ff. 89, C. ff. – только на свои индивидуальные недостатки и слабости, только на то, что он сам еще недостаточно глубоко проник в природу Идей. Это, таким образом, совершенно тот же самый недостаток, о котором говорит мрачное ощущение в приведенном выше отрывке «Федона», ощущаемое им в фактическом, а здесь в методологическом отношении.
Все последующее изложение фактической позитивной диалектической процедуры (с. 16. C.-18. D.) отличается от того, что было дано ранее, особенно в «Федре» с. 265. D. ff. только более определенной связью с фактическим фундаментом, заложенным учением об идеях, на котором эта процедура покоится и как она была впоследствии развита в «Софисте» и «Пармениде».15
Здесь предпочтительно рассматривать концептуальное разделение, поскольку, согласно предыдущему разделу, речь идет о методичном разделении озарения и удовольствия на их виды, и в специальном параграфе, связывающем данный раздел с предыдущим, еще раз подчеркивается, что первый не является расширенным выведением за пределы этой цели, а, скорее, работает прямо к ней, p. 18. D. – 20. B. cf. 18. A., но не лишен намека на то, что то же самое верно и в отношении образования понятий, только в обратном порядке, p. 18. A. B..16 Теперь правило деления, согласно которому сначала всегда следует спускаться шаг за шагом к низшим видам, и таким же образом все ниже и ниже, полностью соответствует тому, которое дается в «Федре» для деления αρθρα η πεφυχε, и когда там добавляется «вплоть до не далее делимого (ατμητα), т. е.». То же самое, очевидно, говорится и здесь, когда говорится, что родовое единство не должно расходиться в неопределенную множественность (ιδεα του απειρον), то есть переставать делиться, пока не будет пройден и установлен весь круг детерминированной множественности – подчиненных ей видовых понятий. Но только здесь, на основании «Государственника» и особенно Парменида, становится ясно, что ατμητα в «Федре» есть не что иное, как низшие понятия или идеи, и точно так же на том же основании становится ясно, что неопределенные массы (απειρα p. 16. D.) отдельных существ 17коренится уже не в идеях, а в принципе, противоположном идее, απειρον или материи, которая, таким образом, является принципом индивидуации, и выражение ιδεα του απειρου (p. 16. D.) не может ввести нас здесь в заблуждение, но означает просто становление и служит, как часто, просто парафразой добавленного генитива,18 ср. φυσις и γενος απειρον p. 18. A. 24. E. 25. A. Но здесь все еще преобладает формально-логический взгляд, согласно которому идеи и вещи обобщаются под общим выражением бытия (των αει λεγομενων ειναι), ибо только таким образом можно сказать, что всякое бытие соединяет в себе единство и множественность, предел (περας) и неограниченность (απειρια), с. 16. C., хотя мы теперь достаточно ясно видим, как эти две пары противоположностей соотносятся друг с другом, а именно, что если множественность понимать только в смысле детерминированного, то первая пара в своем взаимопроникновении образует мир идей и, поскольку она противоположна απειρον, совпадает с περας второй пары19. Теперь, если бы разделение знания и удовольствия на их виды проводилось безотносительно к тому, как оба они соотносятся с двумя противоположными принципами всякого бытия, этого логического подхода было бы достаточно, ибо удовольствие действительно должно иметь среди них разные виды, Теперь полностью доказано, что удовольствие также должно иметь различные виды, ибо оно само должно быть одним из низших видов, – но поскольку сам этот вопрос, равно как и основной этический вопрос всего диалога, восходит к учению об идеях как основе всего вышесказанного, формальное метафизическое разделение принципов должно было предшествовать разделению удовольствия и знания. Таким образом, четвертый и пятый разделы – и обязательно в таком порядке – вырастают из первого и второго, а из этого следует, что и в четвертом разделе απερας не может означать ничего иного, кроме мира идей, απειρον – только материю, а смесь этих двух – только видимость вещей;20 и остается только рассмотреть, почему этот раздел не следует сразу за настоящим. Однако прежде чем перейти к ответу на этот вопрос, следует отметить, что для иллюстрации внутреннего разделения идей мы используем те же примеры букв и звукового искусства, что и в Theät. p. 202. E. ff. Soph. p. 253. a. ff. Staatsm. p. 277. E. ff. также и здесь, и что упоминание египетского Теута, который – как изобретатель букв Phaedr. p. 274. D. – разделил их в то же время 21на вокалы, полувокалы и муты, p. 18. B.-D., По-видимому, эта фраза служит цели напомнить читателю о «Федре», а следовательно, и о приведенном там описании диалектического процесса, чтобы побудить его сравнить его с настоящим и таким образом дать ему понять, что между ними существует связь, которую мы изложили.
Это, однако, связано с намерением представить даже применение деления к эмпирической области, как здесь к буквам, в той же мере, что и сам чистый метод деления как божественный дар. Смысл такого божественного дара4 уже хорошо известен нам по «Менону» и «Кратилу» (см. Thl. I. p. 71 f. 156.); здесь дар лишь противопоставляется самоприобретенному, это скорее врожденная, неотъемлемая идеальность души, в которой заложена ее возвышенность над всеми физическими вещами (Phaed. p. 72. E. ff. s. Thl. I. p. 429 ff.), познавательная способность, зародыши истины и, прежде всего, приводящий их в движение инстинкт, в силу которого человек уже осуществляет многие вещи практически и руководствуясь лишь правильным воображением, прежде чем приобретет строго научное сознание о них. Но Платон должен был подчеркнуть это здесь, чтобы избежать кажущегося противоречия, что его метод, который он только что открыл, должен, тем не менее, обязательно быть основой всего человеческого мышления (см. с. 10) и, следовательно, должен был быть основой с самого начала. К этому добавляется его взгляд на великие периоды мира, который он разделяет с большинством философов античности и в силу которого мир имеет только один определенный ряд интеллектуального развития, с истечением которого один период закрывается, а в новом тот же самый ряд начинается снова с самого начала. Мы видели далее, что он ставит фактическое предсуществование в противоположность простым промежуточным состояниям – по крайней мере, для мифического представления – в один ряд с началом такого нового мирового периода (см. Thl. I. p. 234- 242. 243. 460 f.). Тем более он может приписывать предкам, людям мифической эпохи, великую сокровищницу этой непосредственной мудрости, и таким образом считать элеатское учение в «Софисте» более древним, чем Ксенофан (p. 242. D.), и точно так же здесь его собственная диалектика, а ниже p. 28. D. ff. также объясняет νους Анаксагора как легенду, переданную с доисторических времен, не желая, однако, утверждать, что люди того времени действительно особенно укрепились в этом фунте и увеличили его до действительно уверенного знания, которое, однако, осталось припасенным для следующего развития, разве что оно тоже не прямолинейно, но прогресс и регресс периодически сменяют друг друга, как все это было показано в мифе о Политике. Только этим объясняется обозначение предков как «живущих ближе к богам» (εγγυτερω θεων οιχουντες), поскольку в прогрессивный период боги мифически изображаются там как непосредственно управляющие миром и людьми и, таким образом, как бы их цари, живущие посреди них.22
Однако всякое такое прямое божественное вдохновение, как просто поэтическая и проницательная мудрость, всегда противопоставляется Платоном строго диалектическому исследованию, и поэтому он хочет, в-третьих, научить нас, что мы не должны рассматривать все вышесказанное, взятое само по себе, как таковое, а только как заимствование из его более ранних подлинно диалектических рассуждений, как их краткий обобщающий обзор. Та же точка зрения до сих пор преобладает в:
11
Stallbaum zu p. 14. C. Zeller a. a. 0. II. S. 202.
12
a. a. O. S. 115. zu p. 15. B. Richtig erinnert zwar Steinhart Prolegomena ad Platonis PMlebum, Naumburg 1853. 4. S. 32. Anm. 134., dass das ομως dieser Erklärung entgegenstehe; bei der Unzulässigkeit seiner eigenen Auffassung (s. Jahns Jahrb. LXX. S. 141 f.) wird es indessen am Gerathensten sein auf kritischem Wege zu helfen, und entweder ist οντως oder mit Badham Fhilologus 1855. S. 341. ολως zu schreiben.
13
a. a. O. IV. S. 631 f.
14
Ganz falsch H. Müller a. a. O. IV. S. 762. Anm. 7.
15
Man vgl. meine Bemerkungen gegen Steinhart, Jahns Jahrb. LXX. S. 133.
16
Stallbaum a. a. O. S. 29.
17
Stallbaam a. a. O. S. 28. 36 f., der freilich den wunderlichen Zusatz macht: qtdppe quae noiionis uniiate comprehendi propier immensam copiam ei varielaiem suam nullo modo possuni. Im Uebiigen nehme ich meinen Widersprach gegen ihn, Jahns Jahrb. a. a. O. S. 138. zurück.
18
Vgl. Zeller a. a. O. II. 8. 194 f. Anm. 4.
19
Damach ist Zeller a. a. O. II.. S. 239 f. zu berichtigten.
20
Brandia a. a. O. IIa. S. 332. Anm. a. Steinhart a. a. O. IV. S. 638—041. (8. jedoch Jahns Jahrb. a. a. O. S. 134.), wogegen es schwer zn begreifen iat, dass ein so hervorragender Denker, wie Zeller, ieioe in d. plat. Stnd. S. 248 ff. ausgesprochene Ansicht, dass das περας dort die Weltseele bezeichne, Phil. d. Gr. II. S. 198. 221. 248. trotz Brandis Einsprach wiederholen konnte.
21
Denn dies Letztere Bchliesst ja das Erstere gar niclit aus, wie H. Müller a. a. O. IV. S. 763. Anm. 11. zu glauben scheint.
22
Die Erklärungen von Baumgarten- Crnsius und Hnschke (bei Stallbaum z. d. St.): qui ulebantur diis fatniliariier und andererseits von Stallbaum: qui diis erant ortu suo propiores verfehlen daher beide gleich sehr wenigstens den ursprünglichen Sinn, der offenbar ein räumlicher ist. Ganz verunglückt dagegen ist es, wenn H. Müller a. a. O. IV. S. 763. Anm. 10. zwar diesen letztem Gesichtspunkt festhält, dabei aber vielmehr die Bewohner der üocherde im Phädon versteht, da doch diese nach der mythischen Fiction daselbst gar nicht im Znstande menschlicher Körperlichkeit, sondern vielmehr der annähernden Korperlosigkeit eines Zwischendaseins nach dem Tode sich befinden (s. Thl. I. S. 460 f.),