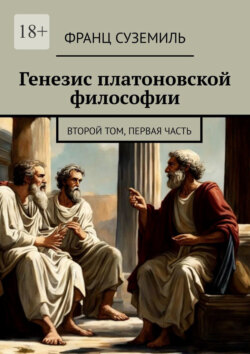Читать книгу Генезис платоновской философии. Второй том, Первая часть - - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Третья серия платоновских сочинений Содержательные диалоги
Государство
IV. Продолжение. Более подробная характеристика персонажей134
ОглавлениеВ первой книге, в портрете Кефала, также дается совершенно иная характеристика, чем во всех предыдущих и самых ранних диалогах, который на самом деле предстает как самый верный и почтенный представитель старого времени с его великолепно наивным, но и ограниченным, прямым и нерефлектированным подчинением тому, что дано в законе и обычае и в народных верованиях в нравственной, государственной и религиозной жизни. Простое величие и достойное посвящение, а также барьер этой чисто практической точки зрения, в силу которого она все же охватывает простое дело-праведность по отношению к людям и богам в смысле того обычного благочестия, которое в своей наготе раскрывается в Евтифроне, и тем самым поддается рефлексии, которая неизбежно проникает во все времена и не просто поднимается ею на более высокую, более осознанную основу, но обязательно поднимается ею на более высокую, более осознанную основу, не просто поднимается им на более высокую, более сознательную основу, но обязательно должен быть разрушен сам, прежде чем такая основа может быть создана, – описаны с не меньшей яркостью. Сам Кефал не смог противопоставить сомнениям против бессмертия никакого действительно внутреннего сопротивления, идущего из глубин сознания, и не такое сопротивление, а лишь низший мотив (см. с. 386, A. и далее) страха перед будущим, который отвратил его от этих сомнений, как это часто бывает, и он просто вернулся к грубым народным представлениям об этом будущем (с. 330. D. и далее). Если мы уже нашли в беге факела упоминание о бессмертии и, следовательно, о десятой книге, и если весь облик этого старика, который приближается к смерти и приближается к ней со спокойствием и радостью, и весь его разговор с Сократом о старости и смерти наводит нас на мысль о пределе земного существования, то это прямое упоминание о жизни за гранью не оставляет нам никаких сомнений. Только в таких изолированных стариках старое еще проступает в новом, и поэтому образ Цефала проносится мимо нас мимолетно и больше не встречается в начале произведения, чтобы освободить место для образа его наследника Полемарха (с. 331. D. Е.).
Сам он теперь представляет то же направление, но в преображении, которое оно претерпело благодаря постепенному проникновению размышлений, и характерно, как уже отмечалось, что он делает Симонида, самого раннего посредника между старым и новым среди поэтов, благоразумного человека мира, своим человеком силы, как и его отец (с. 331. A.) глубоко религиозный Пиндар, который, по общему признанию, не мог противостоять определенному влиянию постепенно наступающего рационализма (см. ниже, раздел VIII). Таким образом, народно-религиозный фундаментальный взгляд Кефала полностью отступает в Полемархе, и даже если он показывает себя свободным от фактически пагубного влияния софистики, вся его точка зрения такова, что он не в состоянии защититься от диалектической критики, практикуемой ею, и, следовательно, не имеет права защищаться от нее, поэтому сам Сократ первоначально осуществляет такую критику против него. Но, с другой стороны, Полемарх несет в себе и тот положительный элемент, который лежал и в основе самой софистики и который только еще бродил в живой теоретической жажде знания и инстинкте познания, во всем живом стремлении к образованию своего времени: он следит за беседами Сократа с Глауконом и Адеймантом с таким восторженным вниманием, что в состоянии напомнить последним, чтобы они не позволяли Сократу отстать от необходимой разработки общности жен и благ (V. p. 449 B.), только из этого ясно, что его больше всего интересует этот практический вопрос. Короче говоря, важно лишь то, что с этими прекрасными зачатками дальнейшего развития он попадает в руки не софистов, а Сократа.
В мастерски изображенной фигуре Фрасимаха, напротив, софистический образ мышления и жизни предстает перед нами в своем крайнем вырождении, но по этой же причине уже и в своем самораспаде, где даже внешняя образованность теряется и уступает место грубому и сбродному бытию, которое уже совсем не годится для воздействия на интеллект, а только на слепые страсти больших масс (ср. Phadr. p. 267. C. D.), но где по этой самой причине противоречия руководящих принципов уже открыто бросаются в глаза, так что здесь невозможна даже гармония между доктриной и действием. Ибо на то, что Фрасимах и его жизнь лучше его принципов, достаточно ясно указывает почтенное окружение, в котором он оказывается, и не только то, что он, таким образом, оказывается в дружеских отношениях с домом Кефала, но даже Сократ говорит, что они никогда не были врагами друг другу (VI. p. 498. C. D.).), и как бы ни был неапологетичен, как бы ни был презрителен, груб и пренебрежителен тот способ, которым он в конце концов признает себя побежденным (I. p. 354. A.), это все же показывает, что и он не может полностью сопротивляться победоносной силе истины и что в нем еще не угас весь научный смысл, так что с этого момента он даже следит за дальнейшими дискуссиями Сократа с таким же интересом, как Полемарх (V. p. 450. A. B).
Таким образом, Платон, вместо того чтобы эмпирически воспринять преобладающий характер того периода, к которому он переносит рассуждение, скорее, идя дальше и всесторонне, положил историю нравственной жизни греков как яркую основу в лицах тех же самых, но в то же время, в духе своего мировоззрения, сжал это развитие, насколько возможно, во временное сопоставление этих различных фаз воспитания, т. е. в возможно более онтический взгляд, и так искусно, что истории при этом не наносится никакого ущерба. Введение Кефала в этот неоспоримый контекст было бы бессмысленным для первой книги как самостоятельного целого и может быть понято только из произведения в целом. И если теперь даже учесть, что только Глаукон и Адеймант полностью завершают описанный выше ряд событий, в том смысле, что, в отличие от Полемарха, они испытали на себе все влияние софистики, но не испорчены ею, а лишь приурочены к необходимости сократовского углубления мысли в самих себя; если учесть, что Платон уже позволяет Глаукону вмешиваться в обсуждение первой книги (p. 337. D. 347. A-348. B.), да еще в тот момент, когда уже заранее затрагивается платоновский идеал государства (см. раздел VII), то эта книга, как изначально самостоятельное произведение, должна была, по крайней мере, вначале иметь совершенно иную форму и не иметь более яркого очерка о Кефале, Глауконе и Адейманте, то есть именно того большого живописного царства, на котором преимущественно основывается гипотеза ее прежнего самостоятельного существования. Именно этим объясняется полное отстранение всех других лиц, кроме двух братьев Платона, после завершения этой книги, так как все эти другие направления уже должны считаться оставленными и служить лишь основанием, а Глаукон и Адеймант – реальным фундаментом, на котором может быть воздвигнуто этико-политическое здание Платона. Не менее полно объясняется и то, что все остальные персонажи кажутся исторически достоверно нарисованными, в то время как они идеализированы почти до неузнаваемости; точно так же объясняется, почему Сократ первой книги в большей степени демонстрирует действительно свойственные ему черты, а Сократ последующих книг – платоновские черты. 135Идеал должен быть построен на основе реальности и ее потребностей. А так как отношение этой эмпирической действительности к требованиям Идеи, или, другими словами, отношение других конституций государства и души к истинной, также научно изложено в последующих книгах, то первая должна быть ярко, хотя бы приблизительно, хотя и с наиболее благоприятной стороны, показана в других персонажах произведения, как и вторая в Сократе, хотя Платон довольствуется тем, что прямо отмечает это только у Глаукона как представителя -тимократического характера (VIII. p. 548. D). Так, в Кефале появляется олигархический элемент, ориентированный на приобретение денег, но сочетающийся с самым справедливым и милосердным нравом; Полемарх – умеренный демократ, Фрасимах – представитель тирании, и, наконец, Адеймант наиболее близок к Сократу.
Ведь между двумя братьями все же есть существенная разница. Оба они стоят на одной и той же почве высоких размышлений, но еще не реальных спекуляций, оба еще не настоящие философы, но благодаря своим склонностям и воспитанию они уже на пути к этому. Инстинкт исследования, чувство истины, быстрое понимание вещей, острота критики, последовательность мысли, которая ни перед чем не уклоняется, красноречиво образованная форма изложения мыслей присущи обоим, и оба уже доказали качество своих теоретических склонностей и образования на практике доблестными делами. Но Адеймант – более глубокий мыслитель и более строгий философ, более серьезный, более спокойный, Глаукон – более возбудимый, более честолюбивый, более смелый, (II. p. 357. A. VIII. p. 548. D. ff.) более склонный к любви (III. p. 402. E. V. p. 474. D.) и удовольствиям (II. p. 372. D. f. V. p. 459. A.), более склонный к искусствам (III. p. 398. D. E.), чем к наукам, более легкий, веселый и поверхностный. В платоновском состоянии он больше напоминает товарища второго, а Адеймант – первого сословия; в нем деятельность двух низших частей души, хотя и в оправданном виде, более заметна, в Адейманте – высшей, хотя еще не в самом полном развитии. Он менее внимательно изучает и легче подкупается блестящей новизной некоторых идей, чем его брат и даже практичный Полемарх (III. p. 417. B. V. p. 449. A. ff.), и хотя прямо подчеркивается только его риторическое образование (VIII. p. 548. E.), более длинная речь Адейманта в начале второй книги больше соответствует более глубоким риторическим требованиям, которые Платон предъявляет в «Фадросе», чем его собственная: в ней больше внутреннего единства (см. ниже, раздел VIII). Глаукон, таким образом, не остался полностью свободным от неблагоприятного влияния софистического духа, ибо вера в бессмертие стала для него совершенно чуждой (X. p. 608. D.), а Адеймант (II. p. 365 D. ff.) прямо выражает свои сомнения в существовании или заботе божественного о человеческом или в неизменной действенности того же самого как чего-то, что не является его собственным мнением136. В соответствии со всем этим Адейманту отводится роль собеседника в более строго диалектико-спекулятивных вопросах, Глаукону – в более практических137. Однако интеллектуальная независимость, с которой оба они выполняют свою задачу и своими междометиями даже подводят исследование к фактически главной и решающей стадии, не имеет себе равных в платоновских диалогах, за исключением Симмия и Кебса в «Федра», и, объединяя в себе самым замечательным образом особенности изложения всех предыдущих дискуссий, государство раскрывается фактически как завершающая их совокупность. И вряд ли можно критиковать тот факт,138 что необычайно длинная беседа здесь растянута в слишком узкие для нее временные рамки, и тем более делать из этого вывод, что эти рамки изначально предназначались только для первой книги.
135
Woran auch Steinhart a. a. Ο. V. S. 52 ff. einigen Anstoss zu nehmen scheint.
136
Dies hat Steinhart a. a. Ο. V. S. 49. übersehen.
137
Man vgl. hierüber gegen Sc hl ei er mache i a. a. Ο. III, 1. S. 4. die näheren Ausführungen von Steinhart a. a. Ο. V. S. 669 f. Anm. 63.
138
Mit Steinhart a. a. Ο. V. S. 39 f. Vgl. unsere Anm. 783.