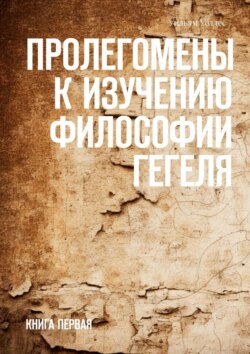Читать книгу Пролегомены к изучению философии Гегеля. Книга первая - - Страница 11
Книга I. ВЗГЛЯДЫ И ПОДХОДЫ К ГЕГЕЛЮ
ГЛАВА VIII. СКЕПТИЧЕСКОЕ СОМНЕНИЕ: ЮМ.
ОглавлениеМы видели, что врожденная склонность ведет человеческий разум к тому, чтобы связать и установить отношения, – связать, может быть, ошибочно, или без должной проверки, или под влиянием страстей или предрассудков, – но, во всяком случае, связать. Критика иногда нетерпеливо запрещала эту тенденцию как простой источник ошибок. Человеческий разум, говорит Фрэнсис Бэкон, всегда предполагает большее единообразие в вещах, чем находит; он ожидает симметрии, смело пренебрегает исключительными случаями и охотно выходит за все пределы в своем вечном крике «Почему и для чего». У разных людей он варьируется между страстью к обнаружению сходства и намеренной остротой к каждому оттенку непохожести. Но, несмотря на эти предостережения курицы, гадкий утенок Разум будет выходить за рамки дозволенного: он не знает непреодолимых ограничений. Он может быть виновен в том, что Бэкон называет предвосхищением – индукцией на основе недостаточных доказательств, или же он может подчинить себя обязанности интерпретировать природу с помощью надлежащих методов: в любом случае это акт ассоциации, синтеза, объединения. Ибо Nous – это арка, и он знает, что это так: он не поддастся ни на крик, ни на простой упрек: ему тоже нельзя приказывать, если только сначала не подчиниться ему: и Бэкон, должным образом обюрократив предоставленный самому себе разум, вынужден отпустить его собирать виноград, пока он еще не совсем созрел, и потакать ему в прерогативе инстанций. Как не устают повторять мистер Герберт Спенсер и многие другие: Мы мыслим отношениями. Это действительно форма всех мыслей: и если есть другие формы, то они должны быть производными от этой44. Раньше человека определяли как мыслящее или рациональное животное: это значит, что человек – животное связующее и дающее отношения; и отсюда аристотелевское определение, делающее его политическим животным, является лишь следствием, наиболее применимым в области этики. Здесь находится конечная точка, из которой естественное сознание, а также энергия науки, искусства и религии в равной степени начинают выполнять свои особые миссии.
В обычной жизни мы не придаем особого значения этому механизму познания. Мы склонны упускать из виду сам факт синтеза, как будто он не требует дальнейшего изучения или внимания, и рассматриваем связанные вещи исключительно как заслуживающие внимания. Интерес сосредоточен на объекте, на материи: формальный элемент – соединительная ткань – является лишь инструментом, не имеющим никакого значения, за исключением той цели, которую он нам помогает достичь. Мы используем общие и полу объяснимые термины, такие как развитие, эволюция, преемственность, как мостики от одной вещи к другой, не придавая никакого значения средствам передвижения самих по себе. Какая-то одна вещь является продуктом чего-то другого: мы позволяем термину «продукт» ускользнуть из предложения как несущественному: а затем читаем утверждение так, чтобы объяснить одну вещь, превратив ее в другую. Вещи, согласно этому мнению, важны все: остальное – просто слова. Эти отношения между вещами не подлежат дальнейшему исследованию или определению: они все sui generis, или особенные: и даже если логик в своем анализе умозаключений сочтет целесообразным иметь с ними дело, он будет удовлетворен, если сможет классифицировать их каким-то приблизительным образом, как основу для своего подразделения предложений. Это, конечно, один из способов избавиться от метафизики на время.
Но есть эпохи в жизни и эпохи в истории человечества, когда разум отходит от погружения в активную жизнь и размышляет над своим поведением, как над действиями какого-то странного существа, за которым он просто наблюдает. В такие моменты, когда мы останавливаемся, чтобы поразмыслить над частичной сценой, и закрываем глаза на тотальность, начинают возникать сомнения, оправдана ли наша процедура, когда мы объединяем и комбинируем изолированные явления. Имеем ли мы право вбрасывать в мир природы нашу собственную субъективность, законы нашего воображения и мышления? Не правильнее ли было бы вообще воздержаться от использования подобных концепций?
Философия, сказал один из древних45, начинается с удивления и заканчивается удивлением. Она начинается с удивления, что нечто может быть тем, чем оно является: она заканчивается изумлением от того, что мы считали возможным что-либо иное. Такая фраза хорошо подходит к наивному возрасту, когда душа свободно отправляется в путь, блуждая от одной новизны к другой, с любопытством узнавая все, что можно узнать, – подобно юному страннику на морском берегу, которого свежие камешки и новые ракушки бесконечно манят наполнить свою корзину. Но с течением времени, когда накопления прошлого становятся все тяжелее, возникает настоятельная необходимость пересмотреть свои запасы. Яркие краски потускнели – и, как правило, потускнели очень скоро: в неопытности юношеского энтузиазма было нахватано много такого, что более зрелое мышление вряд ли сочтет достойным продолжения.
Обязанность сомневаться и пересматривать то, что завещала традиция, была навязана философией во все века. Ведь кардинальный принцип философии – быть свободной, обладать своей душой, никогда не быть простым механизмом или каналом традиции. Но в некоторые эпохи это утверждение своей свободы имело для души преимущественно негативный аспект. Оно означало лишь свободу от, но не свободу в и через окружающую, или, скорее, составляющую, субстанцию. Такая эпоха наступила в античном мире, когда Новая Академия, с ее скептическим воздержанием от всех объективных утверждений, вынуждена была протестовать против догматизма стоиков и эпикурейцев. В современную эпоху первоначальное содрогание перед погружением в мир является постоянным кризисом. Каждому мыслителю, когда он решался проложить себе путь через дебри существующих мнений к царству истины, приходилось напоминать себе (и своим современникам), что, по крайней мере, в области знания никакое имущество не является гарантированной собственностью, если оно не заработано в поте лица своего. Это общая тема афоризмов Бэкона в начале «Novum Organum», «Рассуждения о методе» Декарта и незаконченного сочинения Спинозы «Об изменении интеллекта». В этих высказываниях действительно есть расхождения относительно того, в какой мере они считают необходимым настаивать в качестве предварительного условия на своего рода моральном и религиозном посвящении жизни служению истине. Но возникает более убедительное разделение. Можно понимать эту максиму так: «Освободи свой ум от незаконно нажитого, от дурных привычек, предрассудков и систем, и в детской простоте приготовь свой глаз и ухо к приему в чистые сосуды тех запасов истины, которые готовы хлынуть из мира». Или, скорее, можно сказать: «Помни, что ты – сознательный, бодрствующий разум, и что каждая твоя идея принадлежит тебе по твоему собственному согласию; настаивай на своем праве свободного разума и не давай места никакому убеждению, которое ты не поднял в полный свет сознания и не нашел полностью соответствующим всей силе и содержанию твоей самой ясной мысли». И, добавим мы, если эта максима будет соблюдаться слишком исключительно в любом случае, она будет соблюдаться неправильно.
У Локка этот вопрос выходит на первый план. На каких условиях я могу обладать знанием? Как я могу быть уверен, что мои идеи – субъективные образы в моем сознании – имеют отношение к чему-то объективному и реальному? Ответ Локка, что, возможно, не совсем естественно, несколько многословен и лишен фундаментальной точности принципов.
Отбросив мнение о том, что еще до опыта у всех людей спонтанно и изначально присутствуют некие общие идеи, он продолжает показывать, как мы можем в достаточной степени объяснить те идеи, которые мы действительно находим, предполагая в нас почти неограниченную способность соединять и разъединять, сравнивать, соотносить и объединять различные элементарные идеи, которые проникают в пустые камеры нашего разума с помощью органов чувств. Что касается источника, канала и природы этих идей чувств, Локк неясен и, по-видимому, непоследователен: хотя очевидно, что очень важно знать, как идея может быть вызвана или возникнуть из материальной вещи. Когда в четвертой книге он переходит к вопросу о реальности или значении наших идей, он не выходит за рамки нескольких довольно сомнительных рассуждений о том, что, хотя в строгом смысле мы не можем выйти за пределы нынешних свидетельств наших органов чувств о конкретных объектах, которые их затрагивают, мы можем в практических целях многое допустить в предположениях общей вероятности.
Но Локк также начал критиковать наши идеи, рассказывая об их формировании из простых идей (которые ни Локку, ни другим атомистам разума не удалось прояснить), которые дают несколько органов чувств, и, наблюдая или размышляя о том, что происходит или присутствует в нашем сознании, мы формируем, по его словам, различные идеи. В стиле рассуждений, который находится на границе между вульгарным и философским анализом (никогда не являющимся вполне ложным, но почти всегда неадекватным, поскольку он почти неизменно предполагает то, что якобы предлагает объяснить), Локк рассказывает нам, как мы получаем одну идею путем расширения, другую – путем повторения, как нам угодно, щедрых данных осязания и зрения. Но среди соединений есть и более спорные по происхождению. Есть и такие, как, например, идеи наказуемых деяний или узаконенных состояний, которые представляют собой добровольные собрания идей, собранных в уме независимо от каких-либо исходных образцов в природе. Они, хотя и полностью субъективны, вполне реальны, поскольку служат лишь образцами, по которым мы можем судить или обозначать вещи так-то и так-то. Хуже обстоит дело с идеей силы, которую мы только собираем или предполагаем, и то не из материи, где она невидима, а лишь в ясном свете, когда мы рассматриваем Бога и духов. Еще хуже, пожалуй, обстоит дело с идеей субстанции, которая представляет собой собрание простых идей с предположением о непостижимом нечто, в котором это собрание пребывает.
Хамп выразился более остроумно. У нас есть впечатления, то есть живые восприятия чувством. У нас есть также идеи, то есть более слабые их образы, но в остальном идентичные. Идея должна быть копией впечатления. Если вы не можете указать ни на одно такое впечатление, вы можете быть уверены, что ошибаетесь, когда воображаете, что у вас есть такая идея. В ментальном мире преобладает некая ассоциация; нежная сила связывает идеи в нашем воображении в соответствии с определенными отношениями, которыми они обладают. Этот разум или это воображение – всего лишь пучок или коллекция впечатлений и идей; но коллекция, которая постоянно и быстро меняется в своих составляющих и в масштабах живости, которой обладает каждая составляющая. Когда идея особенно свежа и убедительна, в нее верят или в нее верят: когда она слаба, это не так. Или, говоря иначе, о предмете идеи говорят, что он существует, когда сама идея ярко ощущается46. На самом деле не существует такой вещи, как внешнее существование, воспринимаемое буквально. Наша вселенная – это вселенная воображения: все существование – для сознания.
Впечатления возникают в определенном порядке последовательности или сосуществования. Когда два впечатления часто повторяются и всегда в одном и том же порядке, обычай связывает их так тесно, что, если одно из них дается только как впечатление, мы не можем не иметь представления о другом, которое, становясь более ярким под влиянием смежных впечатлений, создает или является верой в его реальность. Между восприятиями как таковыми нет никакой связи; они являются отдельными и независимыми существованиями. Они соединяются только благодаря нашему чувству; мы ощущаем решимость нашей мысли перейти от одного к другому. Одно впечатление не имеет силы произвести другое; одно не является причиной другого. У нас никогда не бывает впечатлений, содержащих какую-либо силу или действенность47, Следовательно, сила и необходимость, которые мы приписываем так называемому причинному агенту и связи, являются незаконным переносом с нашего чувства и ошибочным переводом нашей неспособности противостоять силе привычной ассоциации в реальную связь между двумя впечатлениями, Необходимость находится в уме – как вызванное привычкой принуждение, – а не в объектах.
Как и в случае с отношением причины и следствия, так и в других случаях. Тождество непрерывного существования – это лишь другое название – объективная расшифровка ощущения ровной непрерывной череды впечатлений, в которой наша мысль скользит от одного к другому, легко переходя от одного к другому. И здесь согласованность и непрерывность восприятий не обязательно должны быть абсолютными. Яркое впечатление непрерывной связи в какой-то части, если оно преобладает, по ассоциации заполнит пробелы и слабые места, а за допущенными разрывами в линии наших представлений предположит-изобретет или создаст незаметную, но реальную непрерывность в предполагаемых вещах. И благодаря этой фикции непрерывного существования наших представлений мы легко впадаем в доктрину, что наши представления имеют независимое существование как объекты или вещи сами по себе, – доктрину, которая, по мнению Юма, противоречит самому очевидному опыту.
Но если мир всегда является миром воображения – Vorstellung – ментального представления, – Юм понимает, что мы должны признать два порядка или класса такого представления. Мы должны различать, замечает он48, в воображении постоянные, непреодолимые и универсальные принципы (такие, как обычный переход от причин к следствиям и от следствий к причинам) и принципы изменчивые, слабые и нерегулярные. Первые лежат в основе всех наших мыслей и действий, то есть нормальных и общих законов ассоциации – таких, как связь причины и следствия, – которые убеждают нас в реальном существовании. Таким образом, по своим собственным законам в сфере Vorstellung, или психической идеи, вырастает постоянный, объективный мир для всех, противопоставленный временному, случайному восприятию отдельного человека и момента; он служит стандартом или единой общей мерой, которой следует измерять случайные возмущения. В пределах субъективного вообще возникает субъективное более высокого порядка, которое является истинно объективным. Такое же изменение фронта, как его можно назвать, Юм производит в морали.
Там разум может изменять и контролировать свои страсти в зависимости от того, насколько близко или далеко он чувствует их объекты; и хотя каждый из нас занимает свое особое положение, мы можем – так создается этическая основа – закрепиться на некоторых устойчивых и общих точках зрения и всегда в мыслях помещать себя в них, какова бы ни была наша нынешняя ситуация49: мы можем выбрать какую-то общую точку зрения, и с позиции постоянного принципа, пусть далекого, у нас есть шанс одержать победу над нашей страстью, пусть близкой.
Насколько далеко зашел Юм в развитии идеализма, последовательна ли его теория от конца до конца, здесь обсуждать не нужно. Но очевидно, что Юм не заблудился в трясине субъективного идеализма. Объективное и субъективное у него сродни: объективное – это субъективное, которое является всеобщим, постоянным и нормальным. Причинная связь имеет в первую очередь лишь субъективную необходимость, но через эту субъективную необходимость или ее непреодолимое убеждение она порождает объективный мир. Но судьба философов состояла и состоит в том, чтобы быть известными в философском мире по какой-нибудь заметной красной тряпке своей системы, которая первой бросилась в глаза быкоподобным вожакам человеческого стада. Так было, например, с Гоббсом и Спинозой; и большинство мыслителей, чьи имена встречаются на страницах Канта, страдают от этого урезания. Декарт, Локк, Лейбниц, Беркли, Юм – это не настоящие философы, которых можно обнаружить в их произведениях, а существа с исторической репутацией и популярным упрощением, которые выполняют за них их обязанности.
Таким образом, Кант-Юм – это несколько воображаемое существо: продукт отчасти несовершенного знания трудов Юма, отчасти предрасположенности, возникшей в результате долгого обучения немецкому рационализму. Такой Юм был – или был бы, если бы существовал, – философом, который принимал объекты опыта за вещи сами по себе, рассматривал концепцию причины как ложную и обманчивую иллюзию, не осмеливался оспаривать достоверность математики, но считал эмпиризм – в отношении всех знаний о существовании вещей – единственным источником принципов, основывая свои выводы главным образом на исследовании причинно-следственной связи50. Эта нота предостережения, прозвучавшая против притязаний чистого разума, как он называет Humes Enquiry, была тем, что в 1762 году нарушило догматическую дремоту Канта и заставило его придать своим исследованиям в области спекулятивной философии новое направление. Первым его шагом было обобщение проблемы Юма из исследования происхождения каузальной идеи в общее исследование синтетических принципов в познании. Следующим шагом была попытка определить количество этих понятий и синтетических принципов. И третьим шагом была попытка вывести их: то есть доказать взаимную импликацию между опытом или знанием и понятиями или категориями интеллекта.
44
First Principles, p. 162. Можно также заметить, что «реляция» едва ли является адекватным описанием природы мышления в целом. Мы увидим, когда перейдем к теории логики, что этот термин применим – и то с некоторым изъяном – только ко второй фазе мышления, категориям рефлексии, которые являются излюбленными категориями науки и популярной метафизики.
45
Arist. Metaph. i. 2. 26.
46
Treatise of Human Nature (Understanding), iii. 7 and ii. 6.
47
Ibid. iii. 14.
48
Treatise of Human Nature (Understanding iv. 4.)
49
Treatise of Human Nature (Morals), iii. i.
50
Kant, Prolegomena to Metaph. Introduction and Crit. of Practical Reason (on the Claim of Pure Reason, Werke, viii. 167)