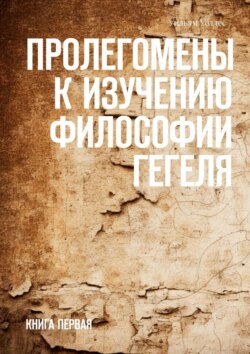Читать книгу Пролегомены к изучению философии Гегеля. Книга первая - - Страница 13
Книга I. ВЗГЛЯДЫ И ПОДХОДЫ К ГЕГЕЛЮ
ГЛАВА Х. КРИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ, ПРОДОЛЖЕНИЕ: КАНТ
ОглавлениеКритика чистого разума“ была описана ее автором как обобщение проблемы Юма. Юм, по его мнению, рассматривал свой вопрос об „отношениях идей“ в их отношении к „фактам“ главным образом на основе изолированного случая причины и следствия. Кант расширил этот вопрос, чтобы охватить все те связующие и объединяющие идеи, которые составляют предмет метафизики. На своем собственном техническом языке, который утратил свое значение в наши дни, он спрашивал: „Возможны ли априорные синтетические суждения?“ – вопрос, который в другом месте он перевел в форму: „Здрава ли метафизическая вера людей и возможна ли метафизическая наука? Под метафизикой он подразумевал, во-первых, веру в нечто большее, чем эмпирическая реальность, а во-вторых, науку, которая должна дать реальное знание о Боге, свободе и бессмертии, – науку, объектами которой были бы Бог, мир и душа. Уже сравнительно рано (1762—4) Кант был склонен подозревать и не доверять претензиям метафизики заменить веру и дать знание о духовной реальности; он пытался отстоять для нравственной и религиозной жизни независимость от выводов и методов тогдашней метафизической теологии и психологии. Но лишь несколько лет спустя – в 1770 году – он сформулировал вполне определенные взгляды на существенные условия научного знания: и только в 1781 году его теория по этому вопросу приобрела условно законченную форму.
Каковы же критерии науки? Когда наша мысль является знанием и объективной реальностью? Прежде всего, должно существовать нечто данное – sens-datum – «впечатление», как мог бы сказать Юм. Если нет впечатления, то, следовательно, не может быть и научной идеи, не может быть и настоящего знания. Должно быть первичное прикосновение – чувство – привязанность – je ne sais quoi контакта с реальностью. Во-вторых, то, что дается, может быть получено только в том случае, если оно принимается получателем и в той мере, в какой он способен его присвоить. Данное принимается в определенном режиме. В данном случае ощущение воспринимается и воспринимается в формах пространства и времени. Иными словами, восприятие, каким бы ни было его особое качество или чувственный материал, всегда является актом датировки и локализации. Различие между простым сгустком ощущений или чувственности и восприятием состоит в том, что последнее подразумевает поле протяженных и взаимоисключающих частей пространства и ряд моментов времени, причем и поле, и ряд непрерывны и, насколько это возможно, бесконечны. В-третьих, даже в приеме данности есть доля действия и спонтанности. Если более пассивное восприятие назвать чувством, то этот активный элемент адаптации можно назвать интеллектом. Интеллект – это сила или процесс выбора, отбора, сравнения, различения и разделения, анализа и синтеза, утверждения и отрицания, нумерации, суждения и сомнения, соединения и разъединения, дифференциации и интеграции. Его общий аспект Кант иногда называет суждением – актом мышления, который сопоставляет, различая; иногда – апперцепцией и единством апперцепции. Оно есть, т. е. активное единство и синтетическая энергия; оно объединяет и всегда объединяет. Она связывает восприятие с восприятием, соотнося одно с другим, интерпретируя одно другим, оценивая знание-ценность одного по остальным. Таким образом, оно «апперцептирует». Это способность к ассоциации и объединению идей. Но ассоциация – это внутреннее и «идеальное» единство: одна идея взаимопроникает и сливается с другой, оставаясь при этом отдельной.
Работа Канта на первом этапе может быть описана как анализ и критика опыта. Термин «опыт» неоднозначен. Иногда под ним понимают то, что называют «сырым материалом» опыта: грубую, непереваренную массу вылитой в него материи знания. Если где-то и существует такой бесформенный комок, – а это предстоит рассмотреть сейчас, – то он, во всяком случае, по мнению Канта, не имеет права называться опытом. Данное должно быть прочувствовано и воспринято: и, как это ни парадоксально звучит, чтобы быть прочувствованным, оно должно быть не просто прочувствованным – оно должно быть воспринято. Оно должно быть, другими словами, спроецировано в пространстве и времени: выведено из тупой внутренней субъективности ощущения в ясную и отчетливую внешнюю субъективность восприятия. Но, опять же, чтобы быть воспринятым, оно должно быть воспринято: чтобы быть установленным во времени и пространстве, оно должно прежде всего оказаться в руках объединяющего сознания, которое является властелином времени и пространства. Ибо в той мере, в какой пространство и время означают место и порядок, в той мере, в какой они означают нечто большее, чем пустое немыслимое вместилище для масс ощущений, в той же мере они предполагают интеллектуальный, синтетический гений, который во всех своих восприятиях является одним и тем же, – фундаментальное, изначальное единство сознания. И этот анализ опыта является трансцендентальным». Начиная с предполагаемой данности – объекта опыта – он показывает, что этот объект, который, как предполагается, существует сам по себе и ждет восприятия, создается самим актом, который его воспринимает. Поднимаясь все выше и выше над своей привычной поглощенностью вещью, сознание (философский наблюдатель и аналитик) видит вещь в акте создания и наблюдает за ее ростом.
Мы видели, что Кант свободно использовал метафору дарения и получения.
Но вряд ли возможно использовать такие метафоры и сохранять независимость суждений. Ассоциации, привычно связанные с образным языком, легко и часто надолго увлекают человека по знакомым путям воображения. Аналогия используется даже там, где – если разобраться – ее термины теряют смысл. Ни один читатель Локка не мог, например, не заметить, как его вводят в заблуждение его собственные образы темной комнаты и пустого шкафа: образы полезные и, возможно, даже необходимые, но требующие постоянной сдержанности от того, кто хочет использовать их с умом и на благо читателя. Из сказанного выше становится ясно, что приобретение опыта, рост знаний – это уникальный вид дара и принятия. Сознание, которое описывает Кант, может быть сознанием Джона Доу или Ричарда Роу: но при его описании Кант пренебрегает ограничениями их личности, то есть их индивидуального тела и души. Темой Канта является сознание в целом, так же как темой геолога является гранит в целом, а не глыба на том поле. Уясните это, и вы также ясно увидите, что сознание одновременно является и дарителем, и получателем – ни тем, ни другим, ни третьим: одновременно восприимчивостью и спонтанностью. Но вы можете ответить: разве материальный объект не действует (химически, оптически, механически и т. д.) на орган чувств на периферии моего тела, разве нервная струна не передает впечатление в мозг; и разве восприятие не является следствием этого процесса, в котором материальный объект является первоначальной причиной?
В этом изложении, небезызвестном в вульгарной философии, происходит чудовищное, почти неразрывное, смешение факта с умозаключением, истины с ошибкой. Пока существует неопределенность – а сами метафизики, напомним, не пришли к единому мнению по этому вопросу – в том, что мы должны понимать под причиной, следствием и действием, что такое впечатление и как мозг и интеллект соотносятся друг с другом, вряд ли можно выносить суждение о таком способе изложения. И все же, возможно, мы можем зайти так далеко, чтобы сказать, что, хотя приведенные термины имеют понятное значение, когда применяются в рамках физиологического процесса, они напрасны, когда используются в отношениях разума и тела. Есть смысл, в котором мы можем говорить о действии разума на тело, а тела на разум: но то, что мы имеем в виду, возможно, было бы более безошибочно выражено словами о том, что высшие интеллектуальные и волевые энергии никогда не бывают в нашем опыте полностью независимыми от влияния низшей чувствительной и эмоциональной природы. В том метафизическом смысле, который здесь придается этим терминам, они вводят в заблуждение. Действие и реакция могут происходить только в раздельности пространства, где одно находится здесь, а другое – там: (хотя, добавим, они не могут иметь места даже в этих терминах, если только «здесь» и «там» не будут каким-то образом объединены в среде, которая охватывает и то, и другое). Mens, говорит Спиноза, – это идея corporis54: вряд ли он сказал бы Corpus habet ideam. То, что он имел в виду, вряд ли можно было бы хорошо описать, назвав это параллелизмом или взаимной независимостью, но с гармонией или тождеством, тела и разума. Без сомнения, в отрыве от тела разум для него – ничто: ведь тело – это то, что придает ему реальность. Но, с другой стороны, разум – это охватывающий и включающий «атрибут» обоих: идеализм перекрывает реализм.
Это было фундаментальное положение, которое отстаивал Кант; то, о чем он говорил как о своем собственном открытии Коперника: хотя на самом деле для изучающего историю философии это было лишь повторное, в некоторых отношениях более четкое изложение идеализма, которого придерживался даже Юм, не говоря уже о Спинозе и Лейбнице. Мир опыта – эмпирический, объективный и реальный мир – это мир идей, представлений, которые имеют место только в уме, видимости. Пространство и время субъективны: формы мысли субъективны: и все же они составляют феноменальную, или эмпирическую, или реальную объективность. Такой язык – казалось бы, неизбежно – неправильно понимают: и во втором издании Кант, помимо многих других незначительных изменений в изложении, вынужден был защищаться, вставив «опровержение идеализма», то есть теории, согласно которой существование объектов вне нас в пространстве сомнительно, а то и вовсе невозможно. Но никакие доводы не опровергнут мнение, что доктрина Канта является таким идеализмом: пока люди не смогут прийти к новому взгляду на то, что такое субъективность, что такое идея и что такое существование вне нас.
Под «субъективным» Кант понимает то, что обусловлено личными пристрастиями, не имеет общепринятого значения, является продуктом индивидуального чувства, своеобразных и необъяснимых вкусов. Под субъективным Кант понимает то, что принадлежит субъекту или познающему разуму как таковому и в его всеобщности: то, что составляет интеллект вообще, то, что чувство и интеллект semper et ubique. В вопрос о том, как человек стал обладать таким интеллектом – вопрос, который нативистская психология должна разрешить одним способом, а эволюционизм – другим, – Кант не вдается; он просто говорит, что там, где есть знание, есть и знающий, – знающий субъект, так устроенный. В конце концов, все сводится к тавтологии, что реальность, которую мы знаем, – это известная реальность: что знание – это рост в знающем, а не случайный продукт, обусловленный неизвестными вещами. Предикат (или категория) «есть» содержится, имплицитно, в предикате «известно», или то, что «есть» выражает имплицитно, «известно» выражает эксплицитно и истинно.
Под «видимостью» мир понимает притворство или, по крайней мере, некоторую недостижимость реальности. Под видимостью Кант понимает явившуюся реальность: или, что слишком далеко, нечто, что реально в той мере, в какой оно есть (prima facie fact), но лишь кандидат на вступление в круг реальности. И такая реальность зависит не от чего иного, как от ее абсолютной согласованности с другими явлениями, от того, что она объясняет остальные и, в свою очередь, объясняется ими, – от ее абсолютной адаптации к окружающей среде. А это окружение находится в общем поле сознания, в единой коррелирующей и объединяющей апперцепции эго – того эго, которое является неразлучным товарищем, проводником и судьей всех наших восприятий. Это видимость – но пока еще не видимость чего-то, а скорее видимость для чего-то или ради чего-то.
Под «идеей» мир в целом понимает то, что он иногда готов назвать просто идеей. А под простой идеей понимается нечто, что не является реальностью, а представляет собой особенность отдельного ума или группы умов – фантазию, не имеющую объективной истины, – нечто, можно даже добавить, что для многих людей находится в их собственной голове или мозгу, отрезанное глухими костными стенами от открытого воздуха реального бытия. Под идеей (представлением, Vorstellung) Кант подразумевал, что объект всегда и по существу является объектом сознания: всегда относительно субъектного сознания и подразумевает его, так же как субъектное сознание всегда подразумевает объект.
И под «существованием вне нас» мир, вероятно, подразумевает – поскольку неосмотрительно давать слишком много определений и уточнений в этой туманной среде слов, где мы все дремлем, – существование вещей на независимой основе за пределами нашего личного, то есть телесного и чувствующего, «я». Что касается нашего собственного туловища и конечностей, то большинство из нас, за исключением самых странных случаев безумия, вряд ли когда-нибудь усомнится в этом, и даже скорее всего, по примеру Шопенгауэра, примет знание об этих персональных вещах как единственную вещь, немедленно и интуитивно определенную. Мы, правда, достаточно свободно говорим о существовании вне нашего собственного разума; но это лишь радикальный метод обозначить разницу между фантазией и фактом. И, вероятно, мы работаем под влиянием полубессознательной галлюцинации, что наши умы локализованы в некоем материальном «месте», где-то в наших телесных пределах, и особенно в центральных нервных органах.
Но, как уже говорилось в другом месте55, точка зрения, под которой Кант рассматривает разум, – это точка зрения сознания, и особенно перцептивного сознания. Он описывает, как мы уже говорили выше, ступени или условия, при которых единичное наблюдение чувства возводится в ранг опыта, претендующего на всеобщность и необходимость. Но весь механизм сознания – форма чувствительности и категория интеллекта – изначально приводится в движение импульсом извне: или, по крайней мере, манипуляционный механизм нуждается в сырье, на котором можно работать. Сознание, или наблюдатель, придерживающийся этой точки зрения, чувствует, что с ним играет неизвестный исполнитель, или что оно пытается постичь нечто, что, поскольку акт постижения также является в некоторой степени (и в какой степени, кто может сказать?) трансмутацией, оно должно вечно не постигать по-настоящему. Его преследует фантом реального – вещь сама по себе, которая может проявиться только в формах чувства и интеллекта, но никогда в своей собственной сущности. Остается лишь короткий шаг – и Кант, если судить о нем по нескольким отдельным отрывкам, не раз преодолевал этот промежуток, – чтобы, в соответствии с манерой необразованного сознания и популярной науки, рассматривать вещь в ее самостоятельном бытии как причину, которая производит ощущение, или как оригинал, который умственная идея воспроизводит в искажениях или модификациях, необходимых в чувственно-интеллектуальной среде. Ибо, если по условиям одной аналогии восприятие является эффектом вещи, то по условиям другой – это образ или копия внешней реальности.
Если это кантовская философия – а она может цитировать главы и стихи в свою пользу, – то кантовская философия является одной из версий великого догмата об относительности знания. Эта несчастная фраза, похоже, имеет множество значений, но ни одно из них не является абсолютно католическим. Она может означать, что знание о вещах определяет их отношения – то, как они ведут себя по отношению к тем или иным вещам, в тех или иных обстоятельствах; и что о совершенно несвязанной и абсолютно изолированной вещи наше знание равно нулю. О вещи-в-себе мы ничего не можем знать, ибо знать нечего. Это может означать, что знание соотносится с получателем или знающим, что оно не является продуктом, который может существовать сам по себе, а нуждается в средстве и объекте в тесной взаимосвязи. Таким образом, знание также зависит от возраста и обстоятельств: оно растет от периода к периоду и может даже разрушаться. И в-третьих, относительность знания может означать, что мы (и все человеческие существа) никогда не сможем познать реальность, потому что мы можем знать только явление, то есть измененную, трансмутированную, отраженную вещь, которая воссоздала образ себя после прохождения интерферирующей среды. Ибо, во-первых, мы должны лишить его – этот так называемый «образ» (вульгарные называют его «вещью») – тех вторичных качеств (звука, цвета, вкуса, сопротивления), которые он имеет в сознании существа, зависимого от органов чувств: а затем мы должны избавиться и от тех количественных атрибутов (фигура, число, размер), которыми он обладает в сознании пространственно и временно воспринимающего существа; – и затем; но перспектива слишком ужасна, чтобы продолжать дальше и столкнуться с головой Горгоны во внешней тьме, где человек отрекается от внешности в надежде встретить реальность.
Дело в том, что в паутине, которую плетет Кант, слишком много нитей, чтобы он или, возможно, любой другой человек мог держать их все в руках и не терять симметрии задуманного им узора.
Чтобы быть справедливыми, мы должны, имея дело с ним, как и с любым другим философом, стараться сохранять единство этого узора, а не настаивать слишком подробно и определенно на его случайных недостатках. Легко сработать каламбур, что «критическая» философия должна сама ожидать критики; важнее помнить, что под критикой Кант подразумевал попытку проложить курс между всегда манящими крайностями догматизма и скептицизма, – попытку быть честным, то есть справедливым по отношению к обеим сторонам, но не погружаться в систематизированное спокойствие первой и не вступать в партизанскую войну со второй. И именно простой капер в популярном смысле слова является простым критиком.
О Канте мы должны помнить, что ему присущи недостатки его качеств. Он гордится своим различением чувства и рассудка, воображения и понимания, понимания и разума; и справедливо: но его различия иногда настолько решительны, что и для него, и для его читателя становится тяжелой работой восстанавливать их единство. Он любит использовать старые классификации для воплощения своей новой доктрины, и иногда результат похож на то, чего нас учили ожидать от наливания нового вина в старые бутылки. Он проводит жесткие и быстрые линии, а затем вынужден создавать, как кажется, дополнительные звенья связи, которые если и действуют, то только потому, что они представляют собой то самое единство, которое он начал игнорировать. Человек совершенно теряется во множестве синтезов, в лабиринте категорий, схем и принципов, паралогизмов, антиномий и идеалов чистого разума. Отчасти этот формализм можно списать на педантизм и пиетет эпохи Великого Фридриха – педантизм, от которого, как мы утешаем себя, освободились наши современные души. Но скорее она проистекает из необходимости вести борьбу между истиной и заблуждением через все сложные проходы в той великой крепости, которую века схоластики по разным планам постепенно возводили. Кант всегда немного солдафон и школяр; но это потому, что он знает, что истинная свобода не может быть обеспечена без форм и должна захватить старое, прежде чем насаждать новое. Формы, как они стоят в его группировке, могут часто казаться жесткими и безжизненными: но более тщательное изучение, более сочувственное намерение, обнаружит, что в терминах есть скрытая жизнь и нераскрытая связь. К сожалению, классифицированные высушенные образцы более желанны для коллекционера, и их легче представить в качестве доказательства в комнате для экспертизы.
Таким образом, на первоначальный вопрос «Возможны ли синтетические суждения a priori?» дается несколько фрагментарный ответ, который заставляет читателя предположить, что речь идет о психологии. В ходе обсуждения он слышит так много слов о чувстве, воображении, интеллекте, что ему кажется, что это рассказ о процессе, осуществляемом способностями индивидуального ума. И конечно, никто не должен полагать, что эти процессы происходят иначе, чем у отдельных мыслителей, человеческих существ с собственными именами. Но научное исследование занимается только существенным и универсальным. Для него, действительно, чувство, воображение и т. д. не являются столь многими способностями мыслящего агента: это уровни и аспекты сознания, «силы» в процессе постепенного усложнения (инволюции) психики. Кант действительно имеет дело с «нормальной» мыслью с ее различимыми составными аспектами. Только ему не удается «сделать это явным и четким». Индивидуализм – неисторическая предрасположенность его эпохи – накладывает свой отпечаток на его фразеологию, если не на его мысль: и едва ли можно понять, что он действительно занимается человеческой мыслью и знанием как существенным предметом самим по себе, отдельно от его индивидуальных носителей, – той мыслью, которая живет и растет в социальных институтах и продуктах, – в языке, науке, литературе и моральном обиходе, – общем фонде, который один век завещает другому, но который поздний человек может унаследовать, только если он работает над ним и создает его заново. Поэтому если это и психология, то психология, которая не предполагает наличие души с качествами, а излагает этапы формирования обычного рассудка.
54
Spinoza, Eth. ii. 7—13.
55
Encyclopaedia, §§415, 420. Consciousness is only as it were the surface of the ocean of mind; and reflects only the lights and shadows in the sky above it.