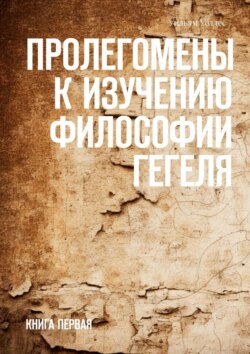Читать книгу Пролегомены к изучению философии Гегеля. Книга первая - - Страница 7
Книга I. ВЗГЛЯДЫ И ПОДХОДЫ К ГЕГЕЛЮ
ГЛАВА IV. ГЕГЕЛЬ И ТЕОЛОГИЯ
ОглавлениеДаже случайный взгляд на «Логику» Гегеля не может не обнаружить частого повторения имени Бога и обсуждения вопросов, которые обычно не затрагиваются, разве что в работах, касающихся религии. Было два вопроса, которые, по-видимому, привлекли внимание Гегеля. Один из них, довольно бесперспективный, касался расстояний между несколькими планетами Солнечной системы и закона, регулирующего эти интервалы11. Другая, более интимная проблема касалась ценности доказательств, обычно предлагаемых в поддержку бытия Бога. То, что Бог – это высшая достоверность разума, основа всей действительности и знания, Гегель ставил под сомнение не больше, чем Декарт, Спиноза или Локк. Он часто повторял, что в этих доказательствах необходимо отличать суть от несовершенной манеры, в которой аргументаторы ее излагают. Снова и снова в своей «Логике», а также в других дискуссиях, специально посвященных ей, он рассматривает эту проблему. Его упорство в этом направлении могло бы заслужить для него титул «рыцаря Святого Духа», которым Гейне в одном из восхитительных стихотворений своего «Reisebilder» описывает себя служанке Клаусталя в Гарце. Поэт Любви и Свободы имел несомненные права на причисление к священной группе: но и философ тоже. Подобно Сократу, которого описывает нам Платон, он, кажется, чувствует, что ему поручено открыть истину о Боге и пробудить в людях Рассудок правильной мудрости. Нигде в современный период философии в высказываниях мыслителя не дышит более высокий дух. Одна и та же тема заявлена как общее наследие философии и религии.
Письмо Дюбоку12, отцу современного немецкого романиста, позволяет понять, насколько важен был для самого Гегеля этот аспект его системы. Его попросили дать краткое объяснение своей позиции, и его ответ начинается с указания на то, что философия стремится постичь в обоснованном знании ту же истину, которую религиозный разум имеет в своей вере. Подобные слова на первый взгляд могут указывать на смелый взлет древних спекуляций времен Платона и Аристотеля или даже на теории средневековых схоластов. Они звучат так, как будто он предлагал сделать для современного мира и в свете современных знаний то, чего схоласты пытались достичь в рамках несколько узких учений средневекового христианства и греческой логики. И все же между этими двумя случаями есть разница. В то время как Церковь, по крайней мере по видимости, вывела форму изложения и содержание своих систем из двух независимых и явно разнородных источников; современная схоластика Гегеля утверждает, что она представляет собой гармоничное единство, в котором тело обретает душу, а душа дает себе тело. И хотя гегелевская система имеет всеобъемлющий и энциклопедический характер, посредством которого схоластическая наука охватила небо и землю, она обладает также и ничем не ограниченной свободой греческих мыслителей. Короче говоря, Гегель показывает союз этих двух способов спекуляции: свободного, как древнее, и всеобъемлющего, как современное. Его теория – объяснение Бога; но о Боге в действительности и полноте мира, а не как о трансцендентном Существе, каким его иногда представляла чрезмерно благоговейная философия, в одиночестве запредельного мира.
Величие философии заключается в ее способности постигать факты. Наиболее характерным фактом нового времени является христианство. Общие мысли и действия цивилизованного мира попеременно восхищались и отталкивались, но всегда находились под влиянием и в высокой степени пронизывались христианской теорией жизни и еще более верным видением этой жизни, проявленным в Сыне Человеческом.. Пройти мимо этого огромного облака свидетельства и оставить его на другой стороне – значит признать, что ваша система не является ключом к тайне мира, – даже если мы добавим, как некоторые предпочитают, мир таким, какой он есть и был. И поэтому гегелевская система, если она вообще хочет быть философией, должна быть в этом смысле христианской. Но это не критик и не апологет исторического христианства. Голос философии подобен голосу еврейского доктора Закона: «Если этот совет или эта работа будут человеческими, то они сойдут на нет; но если они будут от Бога, вы не сможете ниспровергнуть их. Философия исследует то, что есть, и нет [стр. 33] что, по некоторым мнениям, должно быть. Такая точка зрения не требует обсуждения «Как» или «Почему» христианства. Оно не предполагает исследования исторических документов или веры в чудеса: для него христианство лишь случайно опирается на свидетельства истории; а чудеса, как их вульгарно объясняют, не могут найти отклика в философской системе. Для него христианство является «абсолютной религией»: религией, которая полностью стала и реализовала все, чем религия должна была быть. Эта религия имеет, конечно, свою историческую сторону: она появилась в определённую эпоху в анналах нашей расы: она проявилась в уникальной личности замечательного народа. И в ранний период своей жизни Гегель пытался собрать в одном представлении черты этой величественной фигуры в его жизни, речи и смерти. Но в свете философии эта историческая сторона представляется сравнительно неважной. Не личность, а «откровение разума» через дух человека: не летопись жизни, некогда проведённой в служении Богу и людям, но слова «Вечного Евангелия» составляют отныне суть христианства.
Таким образом, контролирующая и центральная концепция жизни и действительности, которая является окончательным объяснением всего, что человек думает и делает, имеет двоякий аспект. Существует как бы двойной Абсолют, ибо под этим именем философия имеет то, что в религии соответствует Богу. Это правда, что в окончательной форме его системы Абсолютный Дух имеет три фазы, каждая из которых как бы переходит в следующую и включается в нее: Искусство разрабатывает свои выводы, пока не появляется как Религия, и Религия, требующая своего совершенствования в Философии.. Но в «Феноменологии», его первой работе, религия Искусства выступает лишь как ступень от «естественной» религии к религии проявленной или раскрытой; и в первом издании Энциклопедии то, что впоследствии называется Искусством, под названием «Религия искусства». В полном соответствии с этими указаниями в «Лекциях по эстетике»13 сказано, что «истинное и оригинальное положение Искусства состоит в том, чтобы быть первоочередным непосредственным самоудовлетворением Абсолютного Духа»; хотя в наши дни (добавлено) «его форма перестала быть высшей потребностью духа». Тогда вряд ли будет преувеличением сказать, что для Гегеля Абсолют имеет две фазы: религию и философию.
Гегелевская точка зрения наиболее решительно, хотя, возможно, и с некоторой лекционной чрезмерной настойчивостью, представлена в «Философии религии».14 «Цель религии, как и философии, – это вечная истина в самой ее объективности – Бог и ничего, кроме Бога, – и „объяснение“ Бога. Философия есть не мудрость мира, а познание не мирского: не познание внешней массы эмпирического существования и жизни, а познание того, что вечно, что есть Бог и что вытекает из Его природы. Для этого природа должна раскрыть и развить себя. Следовательно, философия „объясняет“ себя только тогда, когда она „объясняет“ религию; и, объясняя себя, она объясняет религию… Таким образом, религия и философия совпадают: в сущности, философия сама есть богослужение, есть религия: ибо она есть то же самое отречение от субъективных фантазий и мнений и занимается одним только Богом.»
Опять же, можно задаться вопросом, в каком смысле философия имеет дело с Богом и Истиной. Эти два термина у Гегеля часто являются синонимами. Все объекты науки, все условия мышления, все формы реальности выходят из себя и ищут центр и точку покоя. Они во многом неадекватны и частичны, жаждут адекватности и полноты. Они склонны к самоорганизации; чтобы вызвать больше и, более отчетливо, более полную реальность, которую они предполагают, которая должна была бы быть, иначе они не могли бы быть: они сводят свою первую видимость полноты к должной степени неадекватности и выявляют свою дополнительную сторону, чтобы составить систему или вселенная; и в этой тенденции к самокорректирующемуся единству состоит их продвижение к истине. Их неправда заключается в изоляции и притворной независимости или окончательности. Это завершенное единство, в котором все вещи обретают свою целостность и становятся адекватными, является их Истиной: и эта Истина, как ее называют на религиозном языке, есть Бог. Правильно или неправильно, но именно так истолковывается Бог в «Логике Гегеля».
Такая позиция должна показаться очень странной тому, кто знаком лишь с трезвым изучением английской философии. В чем бы то ни было еще разногласие лидеров нескольких школ в этой стране, они почти все заодно изгоняют Бога и религию в мир за пределами нынешней подлунной сферы, в непостижимую область за пределами научного исследования, где можно делать заявления. по своему желанию, но у нас нет возможности проверить какое-либо утверждение. Это общая доктрина Спенсера и Мэнсела, Гамильтона и Милля. Даже те английские мыслители, которые проявляют некоторую озабоченность поддержкой того, что в настоящее время называется теизмом, обычно довольствуются оправданием для ума смутного восприятия Существа, находящегося за пределами нас и несоизмеримо отличающегося от нас. Бог для них – остаточное явление, маргинальное существование. Вне царства опыта и знания существует не-ничто – нечто – за пределами определенных границ: неисчислимое и, следовательно, объект, возможно, страха, возможно, надежды: отражение в кромешной тьме великого «Что-что-будет- не-быть? Он – Неизвестная Сила, ощущаемая [стр. 36] то, что некоторые из этих авторов называют интуицией, а другие – опытом. Однако они не дают познанию какой-либо способности постигать в деталях истины, принадлежащие Царству Божьему. Все же учение Гегеля есть ниспровержение установленных таким образом границ религиозной мысли. Для него всякая мысль и вся действительность, когда она схвачена знанием, являются со стороны человека возвышением ума по отношению к Богу; тогда как, если рассматривать их с божественной точки зрения, это проявление Богом Его собственной природы в его бесконечное разнообразие.
Только когда мы ясно сосредоточим внимание на этих общих чертах его рассуждений, мы сможем понять, почему он относит зрелость античной философии ко времени Плотина и Прокла. Не то чтобы эти неоплатоники как мыслители обладали силой, равной их господину в Афинах. Но в царстве слепых одноглазый может быть королём. Позднейшие мыслители отчетливее и настойчивее ставили свой взгляд на землю вечную – «на ту сторону бытия», по выражению Платона. По той же причине Гегель уделяет так много внимания религиозным или полурелигиозным теориям Якоба Беме и Якоби, хотя эти люди во многом были непохожи на него самого.
11
Hegel’s Leben, p. 155. Именно в диссертации» Планетарная орбита» произошла печально известная размолвка: в то время как философ, склоняясь к пифагорейской пропорции, намекнул в одной строке, что не стоит ожидать планеты между Марсом и Юпитером, астрономы в том же году открыли Цереру, первый обнаруженный из планетоидов. Из этого пустяка сделали много шума; но пока не доказано, что подтверждение было не чем иным, как удачей другой гипотезы.
12
Vermischte Schriften, vol. ii. p. 520. Duboc was a retired hatter, of French origin, who had settled at Hamburg (Hegel’s Briefe, ii. 76 seqq.).
13
Werke, x. I, p. 131.
14
Werke, xi. p. 21.