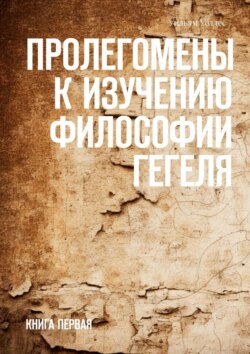Читать книгу Пролегомены к изучению философии Гегеля. Книга первая - - Страница 5
Книга I. ВЗГЛЯДЫ И ПОДХОДЫ К ГЕГЕЛЮ
ГЛАВА II. ЗАЧЕМ ПЕРЕВОДИТЬ ГЕГЕЛЯ?
Оглавление«Но, – говорят, – хотя и хорошо позволить потоку иностранной мысли оросить некоторые из наших философских пастбищ, вряд ли мы должны навеки увязнуть в своей замкнутости – зачем пытаться внедрять Гегеля, из всех философов, по общему признанию, самого непонятного? Почему бы не довольствоваться изучением и «освоением» Канта, которого сами немцы до сих пор считают настолько важным, что излагают его с бесконечными комментариями и критикой, и который, после некоторых стычек, наконец, нашел признанное место в английской философской программе? Зачем искать более тевтонское мышление, которое можно найти у Шопенгауэра, и найти его в ясном и благородном стиле, светящемся в высшей степени, и затрагивающем без чисто академической заумности проблемы жизни и смерти? Или – как та песня слаще всего для людей, которая новее всего звучит в их ушах – почему бы не сделать доступными для английского читателя многочисленные и наводящие на размышления работы Эдуарда фон Гартмана, Фридриха Ницше – не говоря уже о Роберте Хамерлинге?5
Или, наконец, почему бы не дать нам все больше и больше переводов работ по логике, этике, психологии или метафизике тех многих замечательных преподавателей немецких университетов, которых было бы неблагородно пытаться выделить по имени? Что касается Гегеля, то его система на родине философа полностью дискредитирована; его влияние угасло; он мертв, как гвоздь в двери. Жаль тратить труд и отвлекать внимание, да еще в английских землях, где полно собственных проблем, которые нужно решать, на попытки, которые наверняка окажутся тщетными, реанимировать эти пороки?»
То, что гегельянство было полностью дискредитировано в определенных кругах, не является открытием, припасенным для более поздних дней. Но в этом вопросе, пожалуй, можно провести аналогию. Если читатель возьмет в руки две английские газеты противоположных партий и сравнит сообщения их иностранных корреспондентов по какому-нибудь вопросу внутренней политики, он, если он новичок, может с удивлением узнать, что, согласно одной из них, мнение, например, Вены полностью отрицательно относится к данной мере, в то время как, согласно другой, это мнение полностью одобряется. Не ново и то, что гегельянство подвергается всеобщему поношению. Еще в 1830 году католический философ и теолог Гюнтер6 – поклонник, но отнюдь не последователь Гегеля – писал, что «в течение нескольких лет в ученой Германии было модно смотреть на философию, и прежде всего на гегелевскую философию, как на половик, которым все чистят свои грязные сапоги, прежде чем войти в святилище политики и религии? Что верно в отношении предполагаемого ослабления гегельянства, так это то, что в реакции, которая по разным причинам обратилась против философии в течение двух десятилетий после 1848 года, эта система, как наиболее глубоко преданная часть «метафизического носителя», пострадала сильнее всего. История и наука, казалось, торжествовали по всей линии. Но, возможно, позволительно заметить, что гегельянство предсказало себе судьбу, которая, как оно доказало, постигла все остальные философии. После эпохи идеализма наступает черед реализма. Идея должна была умереть, должна была утонуть в виде зародыша в природе и истории, прежде чем она смогла принести свои плоды.
Прежде всего, не следует ожидать, что такая система, столь амбициозная по цели и концентрированная по выражению, найдет немедленный отклик и сразу же раскроет весь свой смысл. Его первые ученики – не самые верные толкователи великого учителя. То, что он увидел одним всеобъемлющим взглядом гения, его преемники часто должны довольствоваться медленным накоплением многолетнего, а возможно, и многовекового опыта. Не к Теофрасту мы обращаемся за самым верным и полным учением Аристотеля; и не Платона следует оценивать по тому, что удалось сделать из наследия его непосредственным преемникам в Академии. Прошло уже более века с тех пор, как Кант преподал свой урок публике, а мы все еще пытаемся сфокусировать его в едином представлении: может пройти еще больше времени, пока Гегель полностью войдет в поле зрения наших историков мысли. Аристотелю тоже пришлось ждать столетия, пока он полностью вошел в сознание мыслящего мира.
Следует также сказать, что без Гегеля трудно представить, что могли бы сказать даже такие непохожие на него учителя, как Лотце. Не нужно обладать широкой душой, не нужно быть просто дилетантом-эклектиком, чтобы найти в творчестве Шопенгауэра много несовместимого с его великой и, как некоторые говорят, взаимодополняющей противоположностью. Писателю в Германии, желающему привлечь всеобщее внимание, пока еще не следует слишком открыто исповедовать гегельянские принципы, и ему лучше отвести подозрения пренебрежительными замечаниями о фантастических методах, чрезмерном увлечении системой, презрении к здравому смыслу и научным результатам, которые, как он заявляет, порочат все умозрения периода с 1794 по 1830 год. Но под именами Спинозы и Лейбница действует закваска гегелевских принципов: и если филистимляне решают загадку интеллектуального Самсона, то только потому, что они пашут с его телицей, – потому что его идеи входят в современный запас мысли, – а не из того, что они буквально читали у великих мыслителей конца семнадцатого века. В прошлом году в Германии появились два превосходных трактата, которые можно назвать популярными введениями в философию 1), один – мыслителя, который никогда не скрывал своих обязательств перед Гегелем, другой – преподавателя Берлинского университета, который во многих отношениях может считаться родственным нашему общему английскому стилю мышления. Но оба трактата по своему характеру более близки к духу гегелевских попыток постичь человека и Бога, чем к формалистическим и филологическим изысканиям, которые в течение нескольких лет составляли основную часть немецкой профессорской деятельности. И, наконец, энергичный мыслитель, который четверть века назад поразил читающую публику предвестием новой метафизики, которая должна стать синтезом Шеллинга и Шопенгауэра, недавно сообщил нам,7 что «его привязанность к Гегелю, если брать в целом, больше, чем к любому другому философу»; и что эта привязанность распространяется на все, что в Гегеле имеет существенную и постоянную ценность.
Но не на похвале Эдуарда фон Гартмана мы должны основывать нашу оценку гегельянства. Мы скорее скажем, что, пока Гегель не будет усвоен в большей степени, он все еще должен преграждать путь. За последние двадцать лет ситуация сильно изменилась, это правда; и идеи более или менее гегелевского происхождения заняли свое место в общем фонде философских товаров.
Но, вероятно, те, кто наиболее компетентен говорить на эту тему, признают, что дождь еще не очень глубоко проник в затвердевшую почву, тем более не насытил ее в той мере, которая наиболее вероятна для того, чтобы вызвать рост плодотворных побегов. Мы должны вернуться к Гегелю в том же духе, что и к Канту, и, если уж на то пошло, к Платону или Декарту: или, как современные люди могут вернуться – заимствуя из другой сферы – к Данте или Шекспиру. Мы не хотим, чтобы современный поэт возрождал стиль и материю «Короля Лира» или «Преисподней». Но как греческий трагик впитал в свою душу язык и легенду гомеровского эпоса, как Данте взрастил свой дух на благородных мелодиях мантуанского поэта, так и философия, если она хочет выйти вперед сильной и эффективной, должна влить в себя живую мысль прежних времен. Было бы так же абсурдно и невозможно быть просто гегельянцем в буквальном смысле слова, – если это означает того, для кого в Гегеле заключена вся философия и вся истина, – как в наши дни быть в буквальном смысле платоником или аристотелианцем. Мир может быть медленным, мир мнений и мыслей может задерживаться: e pur si muove. У нас тоже есть свои проблемы – одни и те же, несомненно, в каком-то смысле из века в век, и в то же время бесконечно разнообразные и никогда в двух эпохах не совпадающие. На духовном небосклоне появились новые звезды, и независимо от того, несут ли они в себе вечный свет или только вспышку и блик пролетающего метеора, они меняют аспекты ночи, в которой мы все еще ждем рассвета. Новый язык, рожденный из новых отношений идей или из новых идей, поневоле становится для нашего поколения средством всех высказываний, и мы не можем снова говорить на диалекте, каким бы внушительным или причудливым он ни был, ушедшего дня.
И по этой причине всегда должна существовать новая философия, изложенная на языке эпохи, сочувствующая ее надеждам и страхам, осознающая ее убеждения, более или менее понимающая ее проблемы – как мы можем быть уверены, так будет всегда. Но, возможно, воину в этой битве против иллюзий и предрассудков, против лености, принимающей вещи такими, какие они есть, и нищеты духа, довольствующегося первыми впечатлениями, не стоит пренебрегать прошлым. Он не станет вооружаться ржавыми мечами и неуклюжей артиллерией из старых арсеналов. Но он не станет пренебрегать уроками прошлого, его методами и принципами тактики и стратегии. Признав, возможно, некоторые недостатки и неравенство в методах и целях мысли, наиболее знакомых ему и актуальных в его окрестностях, он может отправиться за границу за другими образцами, даже если они не во всех отношениях достойны его принятия. Не считая Гегеля всезнающим и не приверженцем каждого слова мастера, он может, исходя из собственного опыта, считать, что в его системе есть много полезного, если ее правильно оценить и усвоить, для других. В англоязычных странах, несомненно, растет интерес к тому, что можно условно назвать философией, – попытка, не предвзятая политическими, научными или церковными догмами, решить вопросы о том, что же на самом деле представляет собой мир и каково место и назначение человека. «Тяжесть тайны, тяжесть и изнуряющий груз всего этого непонятного мира ощущается – ощущается широко, а иногда и глубоко. Внести свой вклад в непосредственное облегчение этого бремени и этой тайны – привилегия наших глубочайших мыслителей, наших дальновидных поэтов и художников. Перед переводчиком Гегеля стоит более скромная задача – сделать доступным, если это возможно, нечто из одной из поздних попыток решения загадки жизни и существования, – попыток, которые на некоторое время ослепили некоторых из самых острых интеллектов своей эпохи, и которая, по крайней мере, произвела на многих других впечатление убежденности, рожденной мгновенными вспышками огромной просветительской силы, что – si sic omnia – здесь скрыт ключ ко многим загадкам и защита от многих иллюзий, которые могут одолеть искателя истины.
5
В книге В. Кнауэра, вышедшей в прошлом году (Hauptprobleme der Philosophic), представляющая собой серию популярных лекций, уделяет одну шестую часть своего пространства
«Атомистике воли» австрийского поэта Гамерлинга.
6
«Краткие сведения» Гегеля, ii. 349.
7
K. v. Hartmann, Kritische Wanderungen, p. 74.C