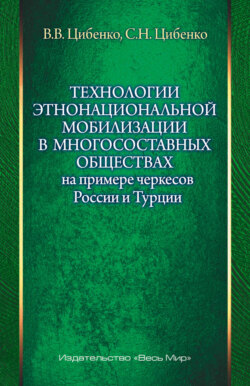Читать книгу Технологии этнонациональной мобилизации в многосоставных обществах на примере черкесов России и Турции - - Страница 2
Россия и Турция как многосоставные общества
ОглавлениеКаким образом мы можем понять, что общество является многосоставным? Очевидно, что любое реально существующее общество негомогенно и разделяется на составные части по большому количеству признаков, будь то гендерный, возрастной, этнический, лингвистический и др. Тем более не вызывает у нас сомнений, что современная Россия с ее федеративной формой устройства, многоконфессиональностью и полиэтничностью демонстрирует наглядный пример многосоставного общества. Но так ли мы правы в своем интуитивном выводе? Более того, на каком основании к многосоставным обществам мы относим и современную Турцию – национальное государство модерного типа?
Термин «многосоставное2 общество» (англ. plural society) впервые был введен в научный оборот в 1939 г. в работе, посвященной Голландской Ост-Индии3. Ее автор, Дж.С. Фернивалл, служил британским колониальным администратором в Бирме и впоследствии продолжил бирманские исследования в Кембриджском университете. Он отметил для себя неоднородность и разобщенность бирманского общества, которое состояло из разрозненных индивидов, групп, социальных порядков, объединенных только колониальной властью, страхом внешней угрозы и общим рынком, где элементы встречаются, но не смешиваются до однородного состояния.
Фернивалл рассматривал многосоставность как проблему, порожденную колониальным управлением европейцев и приведшую к появлению общества, разобщенного по признаку расы, религии, культуры, языка, идей и образа жизни. В качестве решения он предлагал предоставить населению политическую автономию с последующей реинтеграцией через создание общественного запроса, социальное воспитание и гражданское нациестроительство – созидательную силу национализма. По его замыслу, в случае успеха постколониальные общества должны построить современные национальные государства.
Сходные идеи развивал в те же годы британский антрополог А.Р. Рэдклифф-Браун, использовавший термин «композитные общества» (англ. composite societies)4 в отношении британских и французских колоний, которые состоят из гетерогенных элементов и потому социально нестабильны. Говоря о колониях в Африке, Рэдклифф-Браун представлял европейцев и африканцев как разные классы, разделенные языком, обычаями, образом жизни, идеями и ценностями. Однако в отличие от Фернивалла антрополог усматривал в таком усложнении общественной структуры социальную эволюцию, в которой многосоставность общества является лишь одной из ступеней.
В 50-е гг. появились первые исследования, показавшие, что многосоставность равным образом характерна и для постколониальных обществ, находящихся в процессе нациестроительства. Американский антрополог Мэнниг Нэш5 предложил концепцию множественного общества с плюральными культурами (англ. multiple society with plural cultures) для анализа развивающихся стран с их объединением различных культурных традиций и уровней социальной организации.
Нэш отмечал, что при общей включенности в систему политических и экономических связей только часть населения (представляющая собственно нацию) разделяет национальную идентичность, участвует в культурной и социальной жизни и имеет контроль над государственными ресурсами и коммуникациями. Хотя этот сегмент общества также разделен внутри себя, он находится в доминирующем положении над другими социальными сегментами, характеризующимися локальной организацией и разнообразными культурными традициями. Сегментарные границы между нацией и плюральными культурами маркированы, по замечанию Нэша, различиями в одежде, роде деятельности, традициях и даже физическом облике.
Для таких государств Нэш использовал определение «ненациональный» (англ. non-national)6, что фактически означает «недонациональный». Единственно возможным способом, чтобы преодолеть эту ситуацию и стать подлинно национальным, т.е. современным, состоявшимся государством, исследователь считал завоевание приверженности локальных общин, уход от компромиссных социальных структур и разрушение социального базиса, позволяющего сегментам сохранять свои культурные отличия.
Очевидно, что лейтмотивом исследований 40–50-х гг. ХХ в. проходило противопоставление национального общества модерного типа высоко стратифицированным многосоставным обществам, отстающим в своем эволюционном развитии. Однако в 60–70-е гг. со сходными проблемами внутренней сегментации по культурным и этническим линиям столкнулись и западные государства – Канада, Ирландия, Бельгия, Швейцария7, что привело к смене исследовательского ракурса с преодоления многосоставности на управление такими обществами. Кроме того, постепенно исследователи отходили от расовой основы деления, заменяя ее культурной (впоследствии этнической), что вылилось в широко распространившуюся в гуманитарных и социальных науках концепцию культурного плюрализма8.
Один из главных ее основоположников – антрополог Майкл Гарфилд Смит – указывал именно на культурные, а не расовые различия составных частей рассматриваемого нами типа обществ. Смит подчеркивал, что многосоставные общества не распадаются в условиях отсутствия общих ценностей благодаря принуждению, оказываемому на остальные общественные сегменты доминирующей культурной группой9. Он противопоставлял многосоставные общества гомогенным и гетерогенным по культурно-институциональному признаку: если в гомогенных обществах едиными являются все социальные и культурные институты, в гетерогенных – только базовые, то в многосоставных – никакие, их связывают воедино исключительно административные институты управления и принуждения10.
Важно отметить, что постулат об отсутствии в многосоставных обществах общих культурных ценностей разделяли не все антропологи. Так, Дэниел Кроули, исследовавший Тринидад, предложил термин «множественная аккультурация» (англ. plural acculturation), под которым понимал следующее: «каждый член каждой группы узнает некоторые способы (функционирования. – Авт.) каждой другой группы», и только «базовое согласие в таких витальных областях, как язык, народные верования, магические практики, брачная и семейная структура, фестивали и музыка, обеспечивает общую основу, которая позволяет Тринидаду существовать как общество»11. Причем в каждой конкретной ситуации, в зависимости от необходимости, член группы принимает или отвергает эти иные способы, примеряя одну из своей «коллекции масок», что порождает еще и «дифференциальную аккультурацию» (англ. differential acculturation)12.
В 60-е гг. концепт многосоставного общества стал выходить за пределы социологии и антропологии, получив развитие в политологии. Основные вопросы, которые политические науки ставили перед исследователями, заключались в том, насколько политически жизнеспособны и демократичны многосоставные общества.
Так, американский политолог Гарри Экштейн на примере норвежской демократии доказывал, что многосоставные общества могут быть политически устойчивыми13. Он рассматривал такие общества как сегментированные, т.е. разделенные сегментарными расколами (англ. segmental cleavage)14, под которыми понимал совпадение линий социальной дифференциации с политическими противоречиями. Среди таких линий – разделение по регионам, сфере деятельности, языковой, религиозной, гендерной, поколенческой принадлежности и пр., которое ведет к появлению политически активных и номинально объединенных субобществ, из них каждое добивается не только собственных политических целей, но и прежде всего автономии или доминирования над другими субобществами15.
При этом собственно культурные расхождения (англ. cultural divergence) Экштейн выделял в особый тип политических противоречий, которые существуют «там, где несогласия по политическому устройству возникают не из-за различных взглядов на отдельные вопросы или не только из-за этих взглядов, а из-за значимых различий в общих культурных картах или ориентациях, посредством которых люди интерпретируют собственный политический опыт и определяют свои политические предпочтения: свое восприятие, ценности, способы оценки альтернатив и эмоциональные предрасположенности в политике»16.
Развил концепцию сегментации другой американский политолог Аристид Зольберг, предложивший на заседании Международной ассоциации политических наук в 1976 г. ее классификацию на этнокультурную (англ. ethnocultural segmentation), этнотерриториальную (англ. ethnoterritorial segmentation) и этноклассово-территориальную (англ. ethnoclass-territorial segmentation)17. Именно этнокультурная сегментация, понимаемая как аспекты дифференциации, которые основаны на культурных различиях, существующих между этнической группой и доминирующим населением и/или между этническими группами населения18, была признана в научных исследованиях на Западе значимой характеристикой многосоставных обществ. В то же время в России этот термин только начинает входить в научный оборот и часто заменяется сходным – «этнокультурная разнородность».
Еще одним знаковым именем для развития концепта многосоставности в политологии стал Аренд Лейпхарт, предложивший19 модель особой консоциональной (сообщественной) демократии для такого типа обществ, в которых «политические партии, группы интересов, средства коммуникации, школы, добровольные объединения имеют тенденцию к организации по линиям, повторяющим контуры существующих внутри общества границ»20. Данная модель подразумевает пропорциональное участие представителей всех основных сегментов многосоставного общества в принятии политических решений с предоставлением им автономии во внутренних вопросах.
Другого мнения придерживались американские политологи Э. Рабушка и К. Шепсл, предложившие отделять собственно многосоставные (плюральные) общества с политически организованными культурными сегментами от плюралистических21, в которых социально значимые культурные различия не являются политически существенными. Причем под культурными различиями ученые понимали этнические как расовые, религиозные, языковые или племенные, а существование четко разделенных этнических групп, разделяющих несовместимые ценности, с сопутствующей этнизацией конфликтов и политики – главным условием существования многосоставных обществ22.
Рабушка и Шепсл не видели перспектив демократического управления многосоставными обществами, указывая, что лояльность граждан субнациональным культурным группам оспаривает политическую легитимность государства23. В этой связи они считали важным в целях сохранения государства подавлять такие лояльности в соответствии с требованиями гражданской политики24.
Ранее в этом же ключе рассматривал многосоставные общества этнолог Пьер ван ден Берге, уделявший основное внимание этничности и расе, которые, по его мнению, обусловливают сегментацию общества на институциональном, а не культурном уровне. Он связывал перспективы демократии с достижением консенсуса по основным общественным ценностям, указывал на негативное влияние на политическую стабильность культурного плюрализма и угрозу для демократии этнизации политических противоречий. Наиболее благоприятной ситуацией он считал перекрестное распределение сегментарных расколов, которое не позволяет одному из них получить преобладающее значение25.
Еще один вариант жизнеобеспечения многосоставных обществ предложил Лео Деспре, который развивал идею «брокерских» институтов, обеспечивающих взаимодействие между разделенными сегментами и их представленность на общенациональном уровне. Среди таких институтов исследователь перечислял рынок, трудовые союзы, государственные организации и политические партии26.
Вне контекста демократичности устройства России и Турции мы можем отметить, что для обеих стран достаточно остро стоят вопросы эффективности государственного управления культурным многообразием и политизации этничности вплоть до этнического сепаратизма. Следует констатировать де-факто многосоставный характер России и Турции, что является, как мы считаем, прямым следствием имперского прошлого двух государств, предопределившего их полиэтнический и поликонфессиональный характер.
Действительно, Россия и Турция перестали быть империями примерно в одно и то же время – на рубеже 1910–1920-х гг. Несмотря на массовые миграции населения, сопровождавшие этот процесс, и отход части территорий, оба государства сохранили многосоставность своих обществ. Основное различие между ними следующее: национальный проект Турецкая Республика начала развивать сразу после своего создания, а в России он стал обсуждаться только в XXI в., породив дискуссии о жизнеспособности концепта «российской нации». В итоге в Российской Федерации на данный момент параллельно существует дискурс и «российской нации», и «многонационального народа». При этом как в России, так и в Турции государственной стратегии единой нации противостоят конкурирующие этнонациональные проекты.
Поскольку в Турции как в национальном государстве (англ. nation-state) формирование нации протекало на основе одной этнокультурной группы27 и проводилась обычная для такого типа «национализирующих» государств политика исключения этнических и религиозных меньшинств из политического процесса28, сегментарные расколы стали более скрытыми. Публичные проявления этнической инаковости курдов, черкесов, арабов и других этнических меньшинств, в отношении которых длительное время проводилась политика принудительной ассимиляции, до сих пор затруднены. Однако в Турецкой Республике и сегодня выделяется ряд регионов с преобладанием нетюркских этнических меньшинств: Юг, Юго-Восток, ряд провинций Центральной и Западной Анатолии, что позволяет говорить о наличии и этнотерриториальной сегментации.
В России, где отсутствовала подобная турецкой гомогенизация населения, сегментарные, в том числе этнотерриториальные, расхождения закреплены в самой поликефальности федеративного устройства29. Декларируется существование исторически сложившегося полиэтнического государства-цивилизации, сохраняющего богатство традиций и культур30. Тем не менее в результате взятого в последние годы курса на формирование единой гражданской нации, стержнем которой выступает русская культура31, проводится ряд законопроектов в области исторической и лингвистической политики, воспринимаемых национальными республиками как конфронтационные и национализирующие.
Таким образом, федеративная форма государственного устройства в России способствовала сохранению этнокультурной сегментации с политизацией сегментов, а в Турции вся государственная политика XX в. была направлена на гомогенизацию общества с искоренением такого типа сегментации. Это привело к тому, что многосоставность турецкого общества стала носить скрытый характер, однако сохранилась до сих пор.
Что позволяет нам так считать? Процессы политизации этничности, которые мы наблюдаем в Турции в создании этнических партий, этническом лоббировании, этнотерриториальных требованиях различных этнических и этнорелигиозных меньшинств, среди которых наиболее известный пример – курды. Нам же предстоит рассмотреть эти процессы на примере другого этнокультурного сегмента – черкесов, явно выделяющегося и в Российской Федерации, причем поверх закрепленных федеративной системой границ.
2
Мы переводим термин «plural» как многосоставный, поскольку «плюральный» семантически «ассоциируется с политическим плюрализмом – явлением, сущностно свойственным либеральной демократии. См.: Панов П. Институциональная устойчивость фрагментированных политий // Политическая наука. № 3. М. 2012. С. 33.
3
Furnivall J.S. Netherlands India: A Study of Plural Economy. Cambridge, 1939.
4
Radcliffe-Brown A.R. On Social Structure // The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. 1940. Vol. 70. No. 1.
5
Nash M. The Multiple Society in Economic Development: Mexico and Guatemala // American Anthropologist. December 1957. Vol. 59. No. 5.
6
Nash M. Political Relations in Guatemala // Social and Economic Studies. March 1958. Vol. 7. No. 1.
7
Shepsle K.A, Rabushka A. Politics in Plural Societies: A Theory of Democratic Instability. Columbus, OH. 1972. Р. 6–7.
8
См., например: Smith M.G. Social and Cultural Pluralism // Annals of the New York Academy of Sciences. January 1960. Vol. 83. No. 5; Despres L.A. Cultural Pluralism and Nationalist Politics in British Guinea. Chicago, 1967. Впоследствии получил развитие и как социальный плюрализм. См.: Kuper L., Smith M.G. (Eds.). Pluralism in Africa. Berkeley, Los Angeles, 1969.
9
Smith M.G. The Plural Society of the British West Indies. Berkeley – Los Angeles, 1965. Р. XI, 968.
10
Ibid. P. 80–82, 86.
11
Crowley D.J. Plural and differential acculturation in Trinidad // American Anthropologist. October 1957. Vol. 59. No. 5. Р. 819.
12
Ibid. P. 823.
13
Eckstein H. Division and Cohesion in Democracy: A Study of Norway. Princeton, N.J., 1966.
14
Ibid. Р. 35–36. В российских переводах часто обозначаются как «расхождения» или «различия». Следует отметить, что существуют и альтернативные определения сегмента. Например, Эрнест Геллнер рассматривает сегмент как уменьшенную копию большого общества, в которой повторяются в миниатюре все общественные процессы. См.: Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991. C. 78.
15
Особенным достоинством концепции Экштейна можно назвать рассмотрение сегментарных расколов в динамике и оценку их по ряду критериев: масштаб, разнообразие, разветвленность, фундаментальность, интенсивность. При этом интенсивность Экштейн предложил измерять посредством анализа влиятельности сегментарного раскола, дистанции между политическими оппонентами (их политическими позициями) и степени проявления в обществе – явная (например, организованная партийная структура) или латентная. См.: Eckstein H. Op. cit. P. 34–36.
16
Ibid. Р. 33–34.
17
Zolberg A. Culture, Territory, Class: Ethnicity Demystified. Paper Presented at the International Political Science Association Congress. Edinburgh, 16–21 August, 1976.
18
Rudolph J. Politics and Ethnicity: A Comparative Study. New York, 2006. P. 8.
19
Lijphart A. Consociational Democracy // World Politics. January 1969. Vol. 21. No. 2.
20
Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: Сравнительное исследование. М., 1997. C. 38.
21
Rabushka A., Shepsle K.A. Politics in Plural Societies: A Theory of Democratic Instability. P. 21.
22
Ibid. Р. 20–21.
23
Примеры существования подобных обществ в 1950–1965-х гг. они объясняли сплочением разных сегментов в антиколониальной борьбе, что не могло быть свидетельством действительной политической устойчивости и жизнеспособности. См.: Rabushka A., Shepsle K.A. Op. cit. Р. 17.
24
Ibid. Р. 8.
25
Van den Berghe P.L. Race and Racism: A Comparative Perspective. New York, 1967.
26
Despres L.A. Op. cit. Р. 25.
27
Панов П. Указ. соч. С. 39.
28
Мелешкина Е.Ю. Формирование государств и наций в условиях этнокультурной разнородности: Теоретические подходы и историческая практика // Политическая наука. 2010. № 1. C. 9.
29
Панов П. Указ. соч. С. 39.
30
Путин В.В. Россия: национальный вопрос // Независимая газета. Получено из URL: http://www.ng.ru/politics/2012-01%2023/1_national.html
31
Там же.