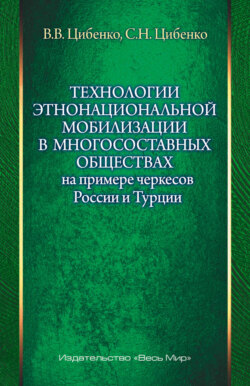Читать книгу Технологии этнонациональной мобилизации в многосоставных обществах на примере черкесов России и Турции - - Страница 4
Специфика национальной мобилизации
ОглавлениеТеперь попробуем разобраться с сущностными характеристиками национальной мобилизации, которую мы сопоставляем со структурными фазами национального движения, выделенными М. Грохом. На первой, подготовительной стадии («А») национальные активисты занимаются сбором и фиксацией особенностей недоминантной группы; на второй («В») начинается активная агитация, получающая во второй полуфазе отклик этнической группы; третья фаза («С») характеризуется массовостью националистического движения70.
Мы считаем, что национальная мобилизация начинается на средней фазе «В», с началом «патриотической агитации», организуемой национальными активистами и призванной разбудить среди населения национальное самосознание (вектор ее движения – сверху вниз)71. Затем мобилизация продолжается в заключительной фазе «С», где «агитация сверху вниз дополняется низовым массовым творчеством, инициативами снизу вверх, а также на горизонтальном уровне коммуникации. Сюда относятся неформальные дискуссии в публичных местах, спонтанные акции поддержки либо протеста, собственно национальный фольклор»72.
Таким образом, национальная мобилизация в отличие от мобилизации в пороговых (критических, кризисных, катастрофических и т.п.) социальных ситуациях не носит эпизодического характера, но составляет нормальный способ существования национальной общности. Поэтому она не исчерпывается только агитацией и пропагандой символически выраженных национальных или тем более исключительно националистических идей, но включает в себя «любой процесс целенаправленного вовлечения отдельных людей либо целых групп в общественно-политические акции и/или движения»73, ведущие к формированию и поддержанию национальной общности74. А это вовлечение зачастую гораздо эффективнее осуществляется посредством дела, а не слова.
Несколько перефразируя чешского историка Франтишека Грауса, национальную мобилизацию можно определить, как «национальное сознание, реализуемое в действиях»75. И этому сознанию присущи особенности, которые никогда не вписываются вполне (если вообще вписываются) в националистические доктрины. Как заметил американский историк Гопал Балакришнан, национальному сообществу присуща своя «спонтанная идеология, невосприимчивая к разоблачению с позиций теории» и несовпадающая с любыми идеологическими «измами»76.
Данная спонтанная идеология выходит далеко за рамки собственно ее «строительства» – она предполагает комплекс социально-политических (в широком смысле) реформ, идущих перманентно, сообразно духу времени, пока нация существует. Специфика модернистского (в смысле Э. Смита77) концепта нации в том и состоит, что он делает мобилизацию (понятую, однако, шире, чем простая сумма стратегий национальных конструкторов) неотъемлемым условием самого существования нации как «ежедневного плебисцита».
С учетом сказанного выше национальную мобилизацию можно определить как стратегически организованную, целенаправленную деятельность по организации разнообразных ресурсов для вовлечения индивидов и групп в социально-политические акции, кампании и движения, в ходе которых формируются идентификации людей с национальной общностью и конструируется коллективная идентичность нации на основе исходных сетей причастности индивидов к различным сообществам, воображаемого национального «врага» и пропагандируемого концепта нации как цели движения.
Данное определение перекликается в общих моментах с концептом социальной мобилизации, предложенным Мелуччи. Итальянский социолог называл три основных фактора, без которых социальная мобилизация не может осуществляться: 1) исходные коллективные идентичности участников движения; 2) понятие врага (противника, соперника и т.п.) движения; 3) определение цели движения как образ его будущего78.
Под исходными коллективными идентичностями у Мелуччи подразумевается «первичная сеть принадлежности к различным сообществам»79, которая дает людям опыт совместных солидарных действий. Без этого опыта при наличии полностью атомизированных и «социально бездомных» индивидов процесс мобилизации стартовать не может. «Начало мобилизации, – подчеркивает Мелуччи, – всегда является делом тех, кто уже коллективно обладает идентичностью и стремится защитить ее от неминуемой угрозы перемен»80. Такого рода установка типична для участников любой национальной мобилизации, в особенности той, что ведется от имени «национальных меньшинств». В случае национальной мобилизации исходные коллективные идентичности можно – вслед за Эриком Хобсбаумом – назвать «протонациональными привязанностями» (англ. proto-national identities)81.
В этой связи принципиально важным мы считаем тезис Георгия Дерлугьяна о том, что для национальной мобилизации большое значение имеют разветвленные социальные сети («сети повседневных обменов»), задействующие солидарность дружеских и соседских связей, которые им обозначены как протооппозиционные82. Рассматривая социальную мобилизацию на закате СССР, Дерлугьян считает, что она была спровоцирована «структурным напряжением» между активистской интеллигенцией и консервативной партийной номенклатурой через противостояние дружеских сетей, с одной стороны, и сетей покровителей-рантье и их подопечных – с другой83.
По утверждению Дерлугьяна, прежде чем перейти в национальную, мобилизация в период распада Советского Союза прошла ряд одинаковых для всех республик стадий классовой и гражданской мобилизации, объединяло которые неизменное ядро прото-оппозиционных сетей, разделявших ряд общих для всего СССР проблем – социал-демократизация, рыночная либерализация, права и свободы и даже экология84.
Дерлугьян выделяет особую роль в этнонационалистической мобилизации национальных интеллигенций как локализованных в республиканских столицах «предгражданских обществ», которые были поддержаны маргинализированными активистами-субпролетариями85. В этой связи ценным является замечание Юргена Хабермаса о том, что распространение националистических идей идет сверху вниз посредством деятельности интеллектуалов и ученых, однако сами эти идеи основаны на широко укорененных в массах дополитических представлениях о нации86. Смит обозначил это явление как повторное открытие отчужденной интеллигенцией этнического прошлого, основанного на живой традиции87.
Помимо языка, религии, региональных и прочих культурных традиций как основы «протонациональных привязанностей», которые особо значимы в случае этнонациональной мобилизации, Хобсбаум указывает также на опыт совместного проживания в едином государстве. При этом само чувство причастности к государству, «привычка к пассивному самоотождествлению» с ним88 создают предпосылки для государственного патриотизма, играющего важную роль в гражданской национальной мобилизации. Однако и переоценивать эту роль также не следует: чувство единой политической общности, которое внушается государственным патриотизмом, далеко не всегда равнозначно наличию коллективной национальной идентичности89. Чувства имеют временный характер, а идентичность для своего формирования предполагает систематические и продолжительные усилия в рамках национальной мобилизации.
Мы можем предположить, что любая национальная мобилизация нацелена на определенный концепт нации, существенно разнящийся в зависимости от типа национализма, который данный концепт реализует. Тем самым национальная мобилизация требует разделения по типам – как делятся нации и национализмы. Вопрос о типологии национальной мобилизации, однако, представляет собой отдельную и сложную тему, потому что историки и политологи далеки от консенсуса относительно типологизации самих наций. Более того, в последние годы набирает популярность тезис о научной иррелевантности такой типологизации.
Так, известный западный социолог Роджерс Брубейкер, в свое время сделавший немало для популяризации различия между этническим и гражданским концептами нации, позже поставил его релевантность под сомнение, утверждая, что упомянутые концепты неоднозначны, а их различие догматизировано90. В отечественной науке принципиальность различия между гражданским и этническим типами нациестроительства в значительной степени актуализировал в своих работах академик В.А. Тишков, с точки зрения конструктивистского подхода отмечающий, что нация – это не более чем «воображаемая общность, социальный конструкт, политическая метафора, обладающая мобилизующей силой»91. Более того, ученый предложил радикально-конструктивистский концепт «нации наций», в котором гражданская нация вмещает в себя ряд этнических наций92.
Одновременно как в отечественной, так и в зарубежной науке отмечается тенденция «инфляции» понятия нации и возврата к «досовременным, дополитическим трактовкам нации как рода, землячества или сословия»93. Вопреки этой тенденции мы будем использовать ставшее классическим разделение на этнические и гражданские нации, поскольку не видим на данный момент адекватной ему альтернативы.
70
Хрох М. Указ. соч. С. 125.
71
Там же.
72
Поцелуев С.П., Цибенко С.Н. Феномен национальной мобилизации: к уточнению концепта // Ars Administrandi. Искусство управления. 2019. Т. 11. № 1.
73
Meyers Enzyklopädisches Lexikon. Bd. 16. 9. Aufl. Mei – Nat. Mannheim – Wien – Zürich: Lexikon Verl., 1976. S. 356.
74
С.Н. Ушакова обращает внимание на то, что в большинстве работ, посвященных социальной мобилизации, анализируются прежде всего содержание и формы пропаганды. Между тем пропаганда, будучи одним из главных способов мобилизационного воздействия, не является его единственным способом. И для анализа других методов воздействия концепт мобилизации предоставляет дополнительные возможности, поскольку «позволяет включить социокультурный контекст в общую историческую панораму, рассматривать его в числе наиболее важных факторов». См.: Ушакова С.Н. Указ. соч. С. 33. Правда, некоторые авторы используют термины «мобилизация» и «агитация» как синонимы, толкуя при этом агитацию в нейтральном духе, а не как непременно агрессивное, манипулятивное воздействие. См.: Schwaiger M.A. Nationale Mobilisierung einer Agrargesellschaft. Die Catholic Association, die Loyal National Repeal Association und Young Ireland, 1801–1848. Dissertation an der Fakultät für Geschichts- und Kunstwissenschaften der Ludwig-Maximilians-Universität München. München, 2002. Р. 12.
75
Graus F. Die Nationenbildung der Westslawen im Mittelalter // Nationes. 1980. Vol. 3. Sigmaringen: Thorbecke. Р. 16.
76
Балакришнан Г. Национальное воображение / Нации и национализм. М.: Праксис, 2002. С. 271.
77
Смит Э.Д. Национализм и модернизм. С. 48–59.
78
Melucci А. Р. 292.
79
Ibid.
80
Ibid. P. 296.
81
Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 г. СПб.: Алетейя, 1998. С. 75.
82
Дерлугьян Г. Указ. соч. С. 94–95.
83
Там же. C. 263–264.
84
Там же. C. 265–275, 282–283. Как отмечает Дерлугьян, национальный фактор был использован местными номенклатурами как защитный ответ на «бархатную чистку» Горбачева в номенклатурных рядах, создавшую атмосферу непредсказуемости и неуверенности в завтрашнем дне и повысившую и прежде высокое значение патронажных сетей. Республики были фактически «приватизированы» местной номенклатурой, тогда как промышленные и финансовые активы – бывшими номенклатурными руководителями отраслей и директорами предприятий либо их патронажными клиентами и членами семей. При этом номенклатура не создала, а только возглавила национальную мобилизацию, когда действия центральных властей в Москве стали ошибочными и нерешительными, а давление национальных интеллигенций оказалось слишком сильным. См.: Там же. С. 190, 237, 268–270.
85
Там же. C. 210, 284.
86
Хабермас Ю. Европейское национальное государство: его достижения и пределы. О прошлом и будущем суверенитета и гражданства / Нации и национализм. М., 2002. C. 366.
87
Смит Э.Д. Национализм и модернизм. С. 95.
88
Хобсбаум Э. Указ. соч. С. 138.
89
Данн О. Нации и национализм в Германии 1770–1990. СПб., 2003. С. 178.
90
Brubaker R. The Manichean myth: rethinking the distinction between “civic” and “Ethnic” nationalism / Nation and National Identity: The European Experience in Perspective. Zürich, 1999. Р. 59–63.
91
Тишков В.А. Усложняющее разнообразие: как его понимать и упорядочить / Культурная сложность современных наций. М., 2016. С. 9.
92
По словам Тишкова, «крупные государства мира фактически существуют как нации наций: этнонации (англичане, шотландцы, ирландцы, уэльсцы в Великобритании, фламандцы и валлоны в Бельгии и т.п.) и этнорегиональные сообщества <…> составляют гражданские нации <…>, не утрачивая своей отличительности и в ряде случаев особого статуса. <…> Российская идентичность является надэтнической, и она не отменяет идентичность и целостность этно-наций. Таким образом, Россия – это нация наций». См.: Тишков В.А. Россия – это нация наций / Тишков В.А. Единство в многообразии: публикации из журнала «Этнопанорама» 1999–2011 гг. Оренбург, 2011. С. 175–176.
93
Паин Э., Федюнин С. Нация и демократия: перспективы управления культурным разнообразием. М., 2017. С. 52.