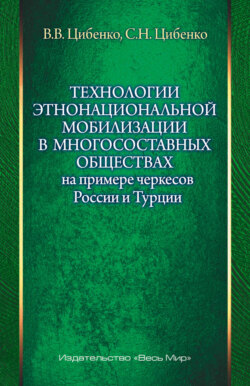Читать книгу Технологии этнонациональной мобилизации в многосоставных обществах на примере черкесов России и Турции - - Страница 7
Социально-политические технологии
ОглавлениеАнализ сложной системы отношений, в которых находится «рождающаяся нация», определяет важность учета этнокультурной сегментации. Но каков будет исход конкурентной борьбы национальных проектов, это в значительной степени есть «дело техники», т.е., успешного применения мобилизационных технологий.
Концептуализация технологий национальной мобилизации сталкивается прежде всего с проблемой их классификации. Куда следует отнести технологии национальной мобилизации: к политическим либо социальным технологиям? Оба понятия присутствуют в социогуманитарных дисциплинах, но они не тождественны по смыслу. С другой стороны, в последнее время довольно активно используется понятие мобилизационных технологий, так что есть необходимость прояснить отношение к этому понятию и нашего концепта технологий национальной мобилизации.
Начнем с самого общего концепта «технология». Под ним подразумевается совокупность методов и процессов140, используемых для изменения качеств или придания новых свойств объектам материального мира141, или знание о способах искусственного воспроизведения новых сущностей, «которые, возможно, могли бы возникнуть и самопроизвольно – но только не тогда и не там, где это нужно человеку»142. Таким образом, для технологического процесса важна предсказуемая воспроизводимость и опора на конкретные знания. Это должно выполняться и в случае технологий национальной мобилизации. Но к какому более общему понятию следует эти технологии отнести? Вопрос отнюдь не схоластический, потому что от этого зависит предметная область, которая будет нашим понятием охватываться.
Поскольку нация понимается нами как общность прежде всего политическая, логично рассматривать технологии национальной мобилизации как разновидность политических технологий. Однако статус понятия политических технологий не является бесспорным в научной литературе.
Под данным термином, который лишь недавно стал использоваться в отечественной политологии, обычно подразумевается «совокупность способов, методов и процедур воздействия на человеческие массы с целью изменения их политического поведения в достижении определенных целей, а также решения политических и управленческих задач»143. Важным для политической технологии является целенаправленность, установленная последовательность (алгоритмизированность) и заведомая эффективность предпринимаемых действий, предполагающая достижение необходимого политического результата – кратковременного либо длительного144.
Однако за рубежом этот термин не только не получил распространения, но и обладает негативными145 коннотациями. Так, профессор Университетского колледжа Лондона и специалист по украинистике Эндрю Вилсон утверждает, что термин «политическая технология», малознакомый на Западе, это эвфемизм, используемый в постсоветских государствах для обозначения высокоразвитой индустрии политических манипуляций. По его мнению, политические технологии широко применяются и сохраняют популярность на постсоветском пространстве, поскольку придают авторитаризму более «мягкую» форму146.
Из сказанного следует, что имеющийся концепт политических технологий оказывается узким и проблематичным для описания таких масштабных и долгосрочных социально-политических задач, как модернизация общества или строительство нации. Поэтому не случайно в современной справочной литературе нациестроительство (соответственно, национальная мобилизация как его органическая часть) связывается с «социальными», а не политическими технологиями147.
Концепция «социальных технологий» как основы социальной инженерии, нацеленной на улучшение общества и индивида посредством применения знаний (теорий, методов, экспертизы) общественных наук, развивается на Западе примерно с конца ХIХ в. Карл Поппер, предложивший идею социальной инженерии, выделил новый тип сознания социального инженера или технолога, верящего в креативную способность человека, а не безличных исторических законов по своей воле изменять историю. В соответствии с этим основой политики становится не знание о неизменных исторических тенденциях (историцизм), а социальная технология, представляющая фактическую информацию и алгоритм действий для конструирования и трансформации социальных институтов в соответствии с целями и желаниями человека148.
В XXI в. термин «социальные технологии» стал использоваться на Западе и как синоним социального программного обеспечения (англ. social software) – новое понятие, введенное американским экспертом по компьютерным технологиям Клэем Ширки для обозначения программного обеспечения, поддерживающего групповую коммуникацию (социальные сети, средства мгновенного обмена сообщениями, чаты, веб-форумы, веб-блоги и пр.) в противовес программному обеспечению единичного пользователя149.
Констатируя важность концепции «социальных технологий», в то же время следует отметить терминологический хаос в их определении, который, во-первых, не дает возможности строго отделить социальные от политических технологий, а во-вторых, не позволяет однозначно толковать технологии национальной мобилизации как политические или социальные. Для политических эти технологии слишком широки и глубоки по своим целям, а при характеристике в качестве социальных их трудно специфицировать, соотнести с типами мобилизации.
В этой связи мы будем придерживаться в нашей работе промежуточного пути, метафорическим выражением которого может служить предложенное британским социологом Зигмунтом Бауманом описание процесса превращения социальных технологий начиная с эпохи Просвещения в неотъемлемую часть современного общества. Развив предложенный Геллнером концепт «диких» и «садовых» культур, Бауман выделил среди интеллектуалов категорию «садовников» как своего рода социальных технологов модернового общества, которые не просто наблюдают за вверенными им землями (как «лесники» премодерного общества), но превращают их посредством ряда осознанных манипуляций в цветущий и плодоносящий сад150. Мы полагаем, что технологии национальной мобилизации могут служить подходящим случаем для развития такой трактовки.
Для целей нашего исследования представляется возможным выделить особую категорию социально-политических технологий (СПТ), т.е. такого типа технологий, которые используют теоретические и прикладные разработки общественных наук, в том числе в сфере социального взаимодействия и социального программного обеспечения, для достижения масштабных политических целей подобных нациестроительству. Такое определение позволяет уйти от сведения политических технологий исключительно к манипулятивному воздействию на массы; расширить их теоретико-методологическую основу за счет опоры не только на политические, но и в целом на общественные науки; включить актуальные трактовки социальных технологий как социального программного обеспечения.
Хотя введенное определение СПТ близко к пониманию социальных технологий в западной науке, в нем отсутствует одностороннее восприятие технологий как нацеленных исключительно на улучшение общества или, напротив, негативное их восприятие как политических манипуляций. Правда, термин «социально-политические технологии» уже используется российскими исследователями, однако это делается скорее интуитивно, без введения строгого определения. При этом СПТ описываются в контексте политического управления обществом или частью общества как имеющие признаки манипуляции и осуществляемые государственными властями или внешними силами151.
Выделяя особую категорию СПТ, в то же время нельзя обойти вниманием концепты дискурсивных152 и информационных/ информационно-коммуникативных технологий153, которые довольно точно отражают агитационно-пропагандистскую составляющую технологий национальной мобилизации. При этом под дискурсивными технологиями понимается «осознанное, обдуманное и спланированное управление партнерами по коммуникации при помощи дискурса», а также «поэтапный технологический процесс производства конечного продукта, а именно дискурса», строящийся на обдуманном использовании лингвистических знаний154. Планирование дискурса и использование общих принципов коммуникативного взаимодействия на основе политической креативности позволяет, по словам С.Н. Плотниковой, «мыслить социальный мир не только как саморазвивающуюся систему, но и как систему, сконструированную технологами. Действуя технологично, политик порождает бессознательную самоорганизацию общества по «зову» технологии. Технология помогает политику придавать коммуникации стабильность и прогнозируемость»155. Мы, без сомнения, можем охарактеризовать технологии национальной мобилизации подобным же образом.
140
Егорова Т.В. Словарь иностранных слов современного русского языка. М., 2014. С. 666.
141
Демидченко В.В. Понятие политических технологий: сущность, формы и виды // Власть. 2015. № 12. С. 140.
142
Пелленен Л.В. Технологические аспекты паблик рилейшнз. Вестник ЮУрГУ. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2005. № 7 (47). С. 147.
143
Демидченко В.В. Указ. соч. С. 140.
144
Политический словарь. М., 1995. С. 151; Харичкин И.К. О понятии «политические технологии» // Вестник университета (ГУУ). 2013. № 8. С. 76–77; Анохин М.Г. Современные технологии эффективной политики. М., 2008. С. 13–25.
145
Негативное восприятие политических технологий во многом базируется на идеях одного из ведущих западных философов ХХ в. Мишеля Фуко, который рассматривал их как часть техник и технологий власти – «всеобщего, децентрализованного, всепроникающего безличного явления» господства и подчинения. См.: Курочкина Л.Я., Первушина В.Н. Концепция власти М. Фуко // Вестник Воронежского государственного технического университета. 2013. № 6. Т. 9. 2013. С. 17.
146
Wilson A. “Political technology”: why is it alive and flourishing in the former USSR? // Open Democracy. Russia and beyond. 17.06.2011. URL: https://www.opendemocracy.net/od-russia/andrew-wilson/political-technology-why-is-it-alive-andflourishing-in-former-ussr
147
Ср.: «Нациестроительство – концепция, по которой допускается возможность с помощью определенных социальных технологий создание новой нации или ускорение развития национального самосознания». См.: Академический словарь теории и истории империй. СПб., 2012. С. 292.
148
Popper K.R. The Open Society and Its Enemies. Vol. I. The Spell of Plato. London, 1945. P. 17–18.
149
Shirky C. Social Software and the Politics of Groups // Clay Shirky’s Writing About the Internet. Economics & Culture, Media & Community, Open Source. 2003. URL: http://shirky.com/writings/group_politics.html
150
Bauman Z. Legislators and Interpreters: On Modernity, Post-Modernity and Intellectuals. Ithaca, 1987. P. 52. Позднее Бауман дополнил эту дихотомию образом «охотника» (общество консьюмеризма) – истребляющего и безответственного. См.: Bauman Z. Liquid Times: Living in an Age of Uncertainty. Cambridge, 2007. Р. 100–101.
151
Давыборец Е.Н. «Прямая линия президента с народом» как социально-политическая технология // Социологические исследования. 2015. № 4; Мурзагалеев Б.Р., Сулейманов А.Р. Социально-политические технологии противодействия «цветным революциям» в молодежной среде. Уфа, 2015; Тулеев М. Молодежь в «цветных революциях» // Респуб. общественно-политический журнал «Мысль». 18.04.2017. URL: http://mysl.kazgazeta.kz/?p=9751
152
Плотникова С.Н. «Дискурсивное оружие»: роль технологий политического дискурса в борьбе за власть // Вестник ИГЛУ. 2008. № 2. С. 138.
153
Абрамов Р.Н. Сетевые структуры и формирование информационного общества // Социологические исследования. 2002. № 3. С. 135; Курочкин А.В. Социальные сети как инструмент политической мобилизации: опасность манипуляции и пределы демократии // ПОЛИТЭКС. 2012. Т. 8. № 3. С. 201.
154
Плотникова С.Н. Указ. соч. С. 138.
155
Там же. С. 143.