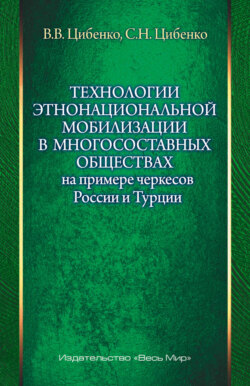Читать книгу Технологии этнонациональной мобилизации в многосоставных обществах на примере черкесов России и Турции - - Страница 8
Мобилизация ресурсов и идеологические технологии
ОглавлениеС учетом того, что мобилизационные технологии побуждают свой объект к организованному активному действию индивидуального или чаще коллективного характера в интересах технолога, ставящего перед собой политические цели, их можно рассматривать в рамках теории коллективного действия (мобилизации ресурсов)156, понимающей под коллективностью поле совместного действия, а не просто сумму совокупных индивидуальных поведений.
Коллективные мобилизационные действия, как и любые действия, предполагают наличие стратегий у субъектов (акторов) этих действий. Но стратегии мобилизации не следует смешивать с ее технологиями, что нередко случается. Мобилизационная стратегия как стратегия политическая есть «общая цель движения и общие принципы и способы ее достижения»157 политическими акторами, причем стратегия нацелена на достижение долговременных целей и использует для этого необходимые ресурсы политической власти. Мобилизационная технология, в свою очередь, является алгоритмом действий для политических акторов. Таким образом, первая отвечает на вопрос: «Что мы делаем, чтобы достичь тех или иных целей?»; вторая – «Как мы будем действовать, чтобы эффективно достичь поставленных целей?». При этом выбор стратегии осуществляется в ситуации неопределенности, а выбор технологий задается выбором стратегии.
Различие между стратегией и технологией близко к различию между стратегией и тактическим средствами ее реализации. Так, известный российский экономист и политик Михаил Делягин, рассматривая технологический аспект формирования нации, выделил такой стратегический инструмент, как вовлечение в общее дело, а также ряд тактических инструментов: создание и постоянное подкрепление «гражданской религии»; создание и поддержание культа предков; формирование ключевых точек национальной истории, использование систем воспитания и образования, а также культурной политики для закрепления результатов нациестроительства и т.п.158
В любом случае выбор стратегии национальной мобилизации отражается в концепте нации, построение которой составляет главную цель мобилизации. Ресурсами же для мобилизации, т.е. средствами, с помощью контроля над которыми акторы осознанно заставляют объект действовать в соответствии со своими намерениями (т.е. подчиняют его своей власти), могут выступать в зависимости от обстоятельств физические, экономические, социальные, духовные, символические, демографические и прочие средства и возможности, в том числе сила, умения, знания (информационные и интеллектуальные ресурсы)159.
В современном обществе первостепенную роль играет именно информационный ресурс в силу своей неисчерпаемости и доступности160. При этом мы не противопоставляем понятия ресурсов и технологий, поскольку солидаризуемся с широкой трактовкой политических ресурсов161. Соответственно, они для нас не просто сырье, материал или полуфабрикат, но «упорядоченная совокупность реальных и потенциальных, традиционных и заимствованных возможностей общества, которые субъекты социально-политического взаимодействия используют в публичной политике для достижения своих целей»162.
Важно иметь в виду, что эти ресурсы являются для индивидов не внешним и единичным опытом, но изначально выступают средством осуществления их коллективных идентичностей. По словам А. Мелуччи, ресурсная теория мобилизации, существенно развитая в ее американской (прагматической) версии (прежде всего в работах Джона Маккарти и Майера Залда163, а также их последователей164), «показала, что коллективное действие не является результатом объединения разрозненных индивидов. Скорее оно должно рассматриваться как результат сложных процессов взаимодействия, опосредованного определенными сетями причастности к различным сообществам»165.
В рамках данного подхода дается и собственное определение мобилизации как процесса, посредством которого социальная единица с относительной быстротой берет на себя контроль над ресурсами, которые она не контролировала до этого166, либо как процесса, в рамках которого коллективный субъект собирает и организует свои ресурсы для достижения общей цели, направленной на подавление сопротивления групп, выступающих против этой цели167.
Для мобилизации необходимы сформулированные требования или воля к достижению определенного результата; выявление и делегитимация идеологического противника, находящегося в конфликте с группой за контроль над определенными ресурсами или ценностями; определение общего ресурса или ценности, за который борются акторы посредством мобилизации. В свою очередь, за отображение, кто является мобилизуемым социальным субъектом, против кого должно бороться это движение, и определение коллективной цели этой борьбы отвечает идеология168. При этом задача идеологии – обеспечивать символическое вознаграждение или менять ожидания членов сообщества, вызывая готовность индивидов инвестировать личные ресурсы и нести расходы за участие в мобилизации.
Также важно учитывать, что «социальное движение может только тогда заслужить свое название, если оно будет вдохновлено (мобилизовано) массовой идеологией. А последняя неизбежно редуцируется по содержанию к нескольким ключевым идеям-лозунгам, доступным для всеобщего понимания»169. Функциональная логика мобилизации рождает феномен символически «сгущенной» политической коммуникации, состоящей из символических актов. В этом случае речь идет не просто о политических действиях с применением символов, но о действиях как символах. Эти действия «используют не обычные референтные знаки, но знаки как сгущающие смыслы символы-конденсаты, возбуждающие массовые эмоции и объединяющие события в одно смысловое целое. Тем самым знаки-конденсаты учреждают когнитивно-эмоциональные фреймы, благодаря которым люди находят смысл участия в коллективных действиях и формируют свои групповые идентичности»170.
Упомянутые фреймы – это, выражаясь словами В. Осипова, «эмоциональные якоря», способствующие повышению эффективности мобилизационных технологий. Данные технологии мобилизуют потенциально готовых к социально-политической активности людей, объединяя их вокруг как самой идеи проектирования будущего, так и необычной, новой для них деятельности171. Под «будущим» при этом понимается не только некая отдаленная перспектива, но и само осуществляемое действие, которое предстает в качестве “будущего в настоящем”»172.
Таким образом, в технологиях национальной мобилизации можно выделить идеологические технологии. Концепт «идеологических»173 технологий представлен в современной научной литературе, при этом он не определяется строго и фактически выступает инструментом дискурс-анализа, т.е. разновидностью тех же «лингвистических»174 технологий в широком смысле. Мы же подразумеваем под идеологическими технологиями определенные алгоритмы в производстве собственно самих идей, которые имеют символический смысл, но могут быть рассмотрены абстрактно, без привязки к конкретному тексту. Такой смысл идеологических технологий подразумевал в свое время немецкий философ Эрнст Кассирер, писавший о том, что в великую эпоху технической цивилизации была создана и новая техника мифа как «современного оружия»: политики использют и трансформируют существовавшие прежде архаические мифы, а также конструируют новые175.
Важно вслед за английским политологом Кристофером Фладом отметить, что политический миф представляет собой одну из форм идеологии, «идеологически маркированное повествование»176. Другими словами, миф представляет собой один из примеров (видов) идеологической технологии или технологии символическо-идеологической (с учетом того, что мифы, как указывает немецкий политолог Андреас Дёрнер, можно представить как «расширенные символы», а некоторые политические символы, с другой стороны, можно понимать как «сжатые мифы»177).
Производство политических (национальных) мифов как пример идеологической технологии показывает, что идеи могут кого-то на что-то сподвигнуть (мобилизовать) только при условии, что они получают символический статус (даже если это всего лишь вербальные символы). Поэтому в нашем случае (с учетом упомянутой символической густоты мобилизационного дискурса) мы находим целесообразным говорить о символических технологиях178 национальной мобилизации, в которых идеологические и лингвистические технологии объединяются в пределах различных форм символической политики.
В рамках коммуникативного подхода под символической политикой понимается специфический вид политической коммуникации, которая ориентирована на сознательное «внушение устойчивых смыслов» через использование «эстетически-символических ресурсов власти для ее легитимации и упрочения посредством создания символических “эрзацев” (суррогатов) политических действий и решений»179.
В рамках инструменталистского подхода символическую политику рассматривают как «инструмент политического менеджмента»180, а с точки зрения перфомансного подхода – как часть политического «театра», политическое «самоинсценирование» перед пассивными зрителями181, призванное легитимировать решения элит, эмоционально вовлекая публику182. Кроме того, О.Ю. Малинова отмечает, что символическая политика связана «с производством различных способов интерпретации социальной реальности и борьбой за их доминирование в публичном пространстве», выступая аспектом «реальной» политики183. При этом символическая политика не только использует символы, она превращает сами действия в символы184.
Хотя символическая политика преимущественно понимается как манипуляция со стороны хорошо организованных элит сознанием масс политических «зрителей»185, она может применяться и политическими акторами «снизу», поскольку «оспаривание существующего социального порядка – не менее важная часть символической политики, чем его легитимация»186. И подобно тому, как «история пишется сверху и снизу»187, стратегии (и определяемые ими виды) символической политики могут быть, по словам немецкого политолога Томаса Майера, разделены на символическую политику сверху, символическую политику снизу (например, символические акции протеста – акции гражданского неповиновения) и символическую политику сверху и снизу одновременно (производимые элитами и принимаемые массами мифы, ритуалы и культы)188. Выбор какой-то из этих стратегий задается конкретным отношением между властью и гражданским населением, в целом же между политическими акторами, связанными властным (асимметричным) отношением.
Опыт технологической интерпретации символической политики уже имеется в отечественной науке. В частности, технологии символической политики во взаимодействии власти и населения стали объектом специального анализа в диссертации российского политолога И.С. Башмакова189
156
В нашем исследовании мы придерживаемся определения коллективных действий, данного Мелуччи, согласно котому это совокупность социальных практик осмысленного поведения, имеющего логику, четкую структуру отношений, схему взаимодействия и влияния, механизмы принятия решений, постановки целей, распространения информации, расчета результатов, накопления опыта и извлечения уроков из прошлого. См.: Melucci A. Op. cit. Р. 14–17.
157
Коротец И.Д. Стратегия и тактика в политике / Политология. Краткий словарь. Под ред. В.Н. Коновалова. Ростов н/Д: Феникс, 2001. С. 362.
158
Делягин М.Г. Россия для россиян. М., 2009. https://public.wikireading.ru/28088
159
Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. М., 2001. С. 10.
160
Бурова Ю.Е. Информационные ресурсы власти как инструменты транслирования ее образа // Гуманитарный вектор. Сер. история, политология. 2013. № 3 (35).
161
В отечественной научной литературе используется термин «технологические ресурсы». В сходном ключе А. Мелуччи пишет об «организационных ресурсах», куда он, помимо прочего, включает и коммуникативные технологии. См.: Melucci A. Op. cit. Р. 311.
162
Головацкий Е.В. Политические ресурсы общества. Автореф. дис. … канд. соц. наук по спец. 23.00.02 – Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии. Кемерово, 2002.
163
McCarthy J.D., Zald M.N. Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory // American Journal of Sociology. 1977. Vol. 82. No. 6. Р. 1212–1241.
164
Social Movements in an Organizational Society: Collected Essays. New York, 2017.
165
Melucci A. Op. cit. Р. 17.
166
Etzioni A. Op. cit. Р. 314–317.
167
Melucci A. Op. cit. Р. 289.
168
Ibid. P. 293, 295, 299–300.
169
Поцелуев С.П. 2018. Указ. соч. C. 468.
170
Там же. C. 473.
171
Осипов В. Из замкнутого круга выживания // Со-Общение: Развитие общественных связей нового класса. 2003. № 1. URL: http://soob.ru/n/2003/1/practice/37
172
Там же.
173
Каменева В.А. Идеологические технологии американских онлайн газет (на примере создания образа России) // Вестник Челяб. гос. ун-та. Филология. Искусствоведение. 2010. Вып. 44. № 17 (198).
174
Гронская Н.Э. Политический процесс и лингвистические технологии манипулирования. Дис. … д-ра полит. наук по спец. 23.00.02 – Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии. Н. Новгород, 2005.
175
Малинова О.Ю. Актуальное прошлое: Символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности. М., 2015. С. 10–11.
176
Флад К. Политический миф: Теоретическое исследование. М., 2004. С. 15.
177
Dörner A. Politischer Mythos und symbolische Politik. Der Hermann-Mythos: zur Entstehung des Nationalbewuβtseins der Deutschen. Reinbek bei Hamburg, 1996. S. 43.
178
Символические технологии мы относим к символическим ресурсам политической коммуникации, а эти последние определяем вслед за российским политологом Е.А. Морозовой как «контролируемые и используемые субъектом властных отношений, в соответствии с собственными целями, знаковые средства конструирования политической действительности, оказывающие воздействие на сознание и нормы индивидов, определяющие порядок их социальных действий и взаимодействий в пределах конкретного социума». См.: Морозова Е.А. Ресурсы политической власти: институциональный анализ. Автореф. дис. … канд. полит. наук по спец. 23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии. Ростов н/Д, 2010. С. 17. Для национальной мобилизации типичным примером таких ресурсов выступают национальные мифы и символы.
179
Поцелуев С.П. Символическая политика: констелляция понятий для подхода к проблеме // Политические исследования. 1999. № 5. С. 62.
180
Sarcinelli U. Symbolische Politik. Zur Bedeutung symbolischen Handelns in der Wahlkampfkommunikation der Bundesrepublik Deutschland. Opladen, 1987. S. 229.
181
Ibid. S. 239–241.
182
Schicha Ch. Politik auf der «Medienbühne» / Medieninszenierungen im Wandel: Interdisziplinäre Zugänge. Münster, 1999. S. 149.
183
Малинова О.Ю. Актуальное прошлое. С. 22–23.
184
Поцелуев С.П. 1999. Указ. соч. С. 62.
185
Малинова О.Ю. Символическая политика: контуры проблемного поля // Символическая политика. Вып. 1. М., 2012. С. 10.
186
Там же. С. 11.
187
Макаренко В.П. Кавказ: концептологический анализ // Социологические исследования. 2001. № 12. С. 32.
188
Meyer T. Inszenierung des Scheins. Voraussetzungen und Folgen symbolischer Politik. Frankfurt am Main, 1992. S. 177, 185–189.
189
Башмаков И.С. Символическая политика в пространстве публичной политики: функции, акторы и технологии. Дис. … канд. полит. наук по спец. 23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии. Краснодар, 2012.