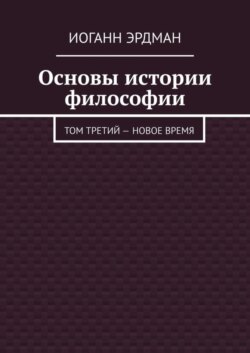Читать книгу Основы истории философии. Том третий – Новое время - - Страница 18
Второй период современной философии
(Философия XVIII в. Индивидуализм).
B. Английские моральные системы
e. Мандевиль и Гельвеций
Оглавление(1) Как Локк разработал доктрины, которые были устранены (и в то же время противоречие с его собственным принципом) Юмом и Кондильяком, так же происходит и в отношении моральных систем, которые стоят на одной почве с ним, систем Юма и Ад. Смита в том числе. Это основание не только обозначено нами как основание реалистического индивидуализма, но и соответствует ему. Стремление постичь человека, отсутствие исторических влияний (напр. Стремление постичь человека так, как на него еще не оказывали никакого исторического влияния (например, христианства), все более заметное стремление превратить этику в естественную историю страстей, в которой телесные процессы выступают как первые источники всех действий, единодушное утверждение, что удовольствие, к которому стремится животное, является целью действия, наконец, что Юм признает естественными только те добродетели, аналоги которых можно найти и у животных: все это доказывает, что Юм отвергает все идеалы и духовность. Точно так же все они проявляют ненависть к спинозизму, а номиналистический принцип, согласно которому только индивидуальное существо имеет право на истину, является для них неизменной аксиомой. С обоими этими принципами, однако, все рассмотренные до сих пор вступают в определенный конфликт. Не говоря уже о полумерах Кларка и Волластона, как было доказано выше, Хатчесон и Юм также противоречат друг другу, когда первый с реалистическим понятием счастья легко связывает вполне идеалистическое понятие совершенства, или когда второй делает искусственную добродетель справедливости, аналога которой нет у животных, если не основой, то опорой обязательно существующего состояния Более того, они вступают в конфликт со своими индивидуалистическими принципами. О том, что индивидуальный, естественный человек ищет только то, что ему принадлежит, говорит не только христианская религия, но и каждый, кто, подобно Ларошфуко (1613—1680; Reflexions ou Sentences et Maximes morales, Paris 1665, etc.; Oeuvres ed. by D. L. Gilbert and I. Gourdault, 3 vols., Paris 1868—1883), имеет открытые глаза; и Юм признает это. Но как согласуется с ним и с Адамом Смитом эта симпатия, которая, как бы то ни было, остается общим духом, то есть силой, которая правит и действует во всех индивидах, а значит, и реальной силой, не имеющей характера индивидуальности? То, что в морали Бриттена так много идеального и так много социального содержания, придает ей пленительность даже для тех, кто стоит на совершенно иной точке зрения. Тем не менее, остается непоследовательность в том, что совершенно разнородные вещи связаны между собой. Поэтому момент, когда эта связь будет разорвана, будет, как бы отвратительно это ни казалось, означать шаг вперед в развитии реализма.
2. поэтому врач Бернар де Мандевиль (ум. 1733), родившийся и воспитанный во французской семье в Голландии около 1670 года и натурализовавшийся в Англии в раннем возрасте, делает такое заявление в своей басне (The Grumbling Hive or Knaves turned Honest), опубликованной еще в 1705 году под названием Six-Penny Pamphlet. В 1705 году она была издана как памфлет за шесть пенни (The Grumbling Hive or Knaves turned Honest), который, однако, произвел фурор только после того, как он опубликовал ее снова в 1714 году, также анонимно, как «Басню о пчелах, или Частные пороки общественных благ, сопровождаемые примечаниями и исследованием происхождения моральных добродетелей» (The Fable of the Bees or Private Vices Public Benefits, accompanied with notes and an Inquiry into the Origin of Moral Virtue). Еще более расширенное издание вышло в 1723 году, к которому в 1729 году был добавлен второй том. С прямой ссылкой на Шафтсбери, которого обвиняют в языческом принципе, что человек добр от природы, в комментарии подробно объясняется, что природные инстинкты человека противоречат разуму и христианству, что человек по природе эгоистичен, необщителен и враг человечества, и не знает сочувствия и самопожертвования, которых требует разум и христианство. Басня также показывает, что совершенно ложной утопической идеей является убеждение в том, что добродетель и нравственность отдельного человека в наибольшей степени способствуют благу государства. Напротив, если бы все были честными, бескорыстными и т. д., то торговля и коммерция пришли бы в упадок, короче говоря, государство погибло бы. Насколько мало удовольствия доставляет индивидуум, настолько же мало процветанию общества способствуют благоразумие и христианская добродетель. Но это, заключает он, еще ничего не решает. Христианская доктрина требует, чтобы мы распяли свою плоть, а также хочет, чтобы мы не слишком комфортно чувствовали себя в земных обстоятельствах. Противники Мандевиля не удержались от осуждения его учения как предосудительного из-за этого приема, который во многом напоминал Бейля. Иной эффект был у тех, кто не боялся выводить все последствия из реализма, отстаиваемого Локком и Шафтсбери. Несовместимость идеального стремления к совершенству, с одной стороны, с чувственным наслаждением индивида, а с другой – с материальным благополучием общества, которую так ярко продемонстрировал Мандевиль, наводила на мысль, что если избавиться от их общего врага, то все будет в лучшем виде. Таким образом, была предпринята попытка сделать естественное удовольствие, лишенное всякого идеального содержания, объектом всех действий, а материальное благополучие всех остальных – дополнением к этим действиям. Франция, страна, в которой принцип, упомянутый в §274, мог быть провозглашен одновременно на троне и у подножия, доказала своими аплодисментами теории корысти, насколько права была та женщина, которая объявила ее тайной всего мира.
3. Клод Адриен Гельвеций (январь 1715 – декабрь 1771) еще в школе познакомился с главным произведением Локка; кроме того, как уверяет Малешерб, большое впечатление на него произвели труды Мандевиля. Кроме того, он был связан с Вольтером, старшим его на двадцать лет. Он самым благородным образом использовал большой доход, получаемый от должности генерального квартиранта с трех-двадцати лет до добровольного отказа от нее, а также приобретенное за это время имущество, как и этот апостол эгоизма, отличавшийся добросердечием, доходившим до слабости, Кроме своей дидактической поэмы Le bonheur (в четырех кантах), высоко оцененной Вольтером, Гельвеций опубликовал сочинение Sur l’esprit (Paris 1754, 4°), вызвавшее, несмотря на враждебность, с которой иезуиты и янсенисты объединились, а может быть, даже благодаря ей, огромную сенсацию, было напечатано во многих изданиях, часто переводилось и, особенно при дворе, было расхватано по всей Европе. За ним следует «De Thomme», применяющий учение первого из упомянутых сочинений в особенности к воспитанию, который, как и другие произведения, был опубликован только после смерти автора (1772), а в цвайбрюккенском издании полного собрания сочинений Гельвеция (1774, 7 томов, 12°) он занимает три последних тома.
4. Гельвеций отказывается отвечать на вопрос о том, является ли душа материальным существом, поскольку он выходит за рамки его компетенции. Речь идет лишь о том, что мы называем духом (esprit), когда говорим о ком-то, что он обладает духом или духовен. Что это такое? Всего лишь совокупность идей, которые, если они новы или важны для общества, заставляют нас говорить о гении вместо духа. Поскольку все идеи приходят как послесловие впечатлений извне, а восприимчивость к ним у всех почти одинакова, то неоспоримое духовное различие между людьми зависит только от внешних обстоятельств, то есть от случая. Одним из важнейших компонентов этого является воспитание. Но поскольку обстоятельства воспитывают нас больше, чем наши воспитатели, Гельвеций очень часто использует воспитание и случай почти как синонимы. Поэтому для формирования ума наибольшее значение имеет воспитание, которое начинается как можно раньше. Среди внешних обстоятельств, формирующих ум, жизнь в государстве – одно из самых важных. Там, где существует духовное и политическое давление, как сейчас во Франции, дух должен атрофироваться. Чем больше его будет и чем больше прекратятся досадные различия в правах и богатстве, тем реже будут встречаться выдающиеся гении, но тем больше будет счастливых людей.
5. Под счастьем Гельвеций понимает максимально возможную сумму физических удовольствий. Поскольку не существует иного общего, чем сумма отдельных людей, собственное удовлетворение вносит вклад в общее, поскольку является его частью. Поэтому эгоизм является нормой любого поведения. Природа побуждает нас к этому, ибо мотивом действия является самолюбие, которое преобладает в духовном мире так же, как гравитация – в физическом. Действительно, оно является основополагающим элементом всех функций духа; ведь поскольку дух достигает знания только через внимание, которое проявляется лишь для того, чтобы избавиться от скуки, то и все обучение основано исключительно на самолюбии. Это, конечно, еще яснее проявляется на практике. Поэтому, если бы наши моралисты не были глупцами, пишущими для утопии, или лицемерами, говорящими не то, что думают, они давно бы уже отказались от своих назидательных проповедей и показали, что человек получает преимущество, когда способствует получению преимущества другими. Тот, кто не слеп и не лжет, признает, что дед любит во внуке только врага своего врага (сына, ожидающего наследства). Государство, которое вместо назидания обещает наказание и награду, указывает этим моралистам правильный путь. Однако оно указывает не только мотив, но и цель поступка. Это то, что служит всеобщему благу; поэтому нет других добродетелей, кроме политических. Другие, например религиозные, – это добродетели предрассудков.
6. Не нужно прилагать особых усилий, чтобы показать, что в трудах Гельвеция едва ли найдется достойная упоминания мысль, не заимствованная им у других. Юм учил, что разум состоит только из впечатлений и их послеобразов; Монтескье – что обстоятельства и особенно законы государства определяют различие характеров; Мопертюи (см. §294, 3) в «Essai de Philosophie morale» (Dresden 1752) учил, что главная причина всех действий – самолюбие, и этому же учил Жан Франсуа де Сен-Ламбер (26 декабря 1716 – 9 февраля 1716), близкий к Гельвецию. Ламбер (26 декабря 1716 – 9 февраля 1803), чей" Catdchisme universel» был опубликован только в 1798 году, но уже был записан одновременно с «Schrift vom Geiste» Гельвеция, и, наконец, все друзья Гельвеция говорили об этом в своих кругах. Поэтому в письме к Адаму Смиту Хьюм хвалит эту книгу просто за ее красивое изложение. И все же нет никакой несправедливости в том, что книга Гельвеция, в большей степени, чем книги вышеупомянутых авторов, стала объектом ненависти или восхищения. Именно то, что делает его точку зрения столь отвратительной для нас, является ее достоинством. Здесь, в отличие от Мопертюи, индивидуальный интерес не облагораживается включением религиозных интересов, в отличие от Сен-Ламбера – включением социальных интересов, но, открыто сделав удовлетворение чувственного субъекта принципом, он противостоит защитникам «правильно понятого» эгоизма так же, как Мандевиль – англичанам и шотландцам. Он идет дальше, чем они, хотя это было несложно после того, что они сделали. Граф Шассебоф (1757—1820), ставший более известным под псевдонимом Вольней и поэтически переработавший учение своего учителя в некогда очень знаменитом «Руине» (1791, Oeuvr. compl. 1821 и 1836), стоит во многом на той же позиции, что и Гельвеций.