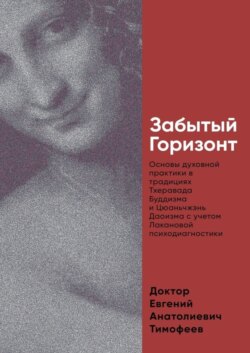Читать книгу Забытый Горизонт. Основы духовной практики в традициях Тхеравада Буддизма и Цюаньчжэнь Даоизма с учетом Лакановой психодиагностики - - Страница 12
Часть I – Субъективность
Невротическая субъективность
Фундаментальная фантазия в истерическом неврозе
ОглавлениеОтделение от вечной жизни29, отделение от материнского лона и отделение от груди – последовательные процессы становления субъекта. Выход за пределы субъекта знаменуется отделением от образа и желания другого, отделением от связанного с этим взгляда на идентичность, отказом от сомнений в Дхамме, отказом от обрядов и ритуалов, которым слепо следовали. Впоследствии происходит отказ от всех форм чувственности, собственничества и недоброжелательности. За этим следует отказ от желания материального или нематериального перерождения, отказ от самомнения, беспокойства и невежества30. Те, кто прошел этот путь отделения, становятся фундаментально свободными, полностью просветленными и никогда больше не входят в утробу матери.
Давайте сделаем паузу между отделением от груди и отделением от образа и желания другого, потому что именно в этом промежутке онтологически действует невроз.
Невроз истерии, в частности, таков, что тревога разлуки преодолевается путем превращения себя в объект желания (материнского) другого. Истерический субъект идентифицируется с тем, чего не хватает (материнскому) другому, и реализует себя как восполнитесь этой нехватки. При этом истерик направляет тревогу, связанную с реальностью дуккхи, в проект непрерывного исполнения желания другого. Если другой желает, то место истерика как объекта гарантировано, а порядок языка, который есть Другой, заселен. Таким образом, формула фундаментальной фантазии истерика может быть записана следующим образом:
Матема 4 -Фундаментальная фантазия в истерическом неврозе
Субъект отождествляется с objet a31 с наложенной на него воображаемой функцией кастрации, которая служит цели реализации Другого. Если из этой формулы убрать воображаемую функцию кастрации и обозначить Другого как разделенного и отсутствующего, мы получим формулу для перверсии. Это принципиальное различие, поскольку перверт идентифицирует себя с jouissance другого, стремясь полностью его реализовать. Истерик же, напротив, идентифицируется с желанием другого в его постоянно меняющемся потоке, благодаря воображаемой функции кастрации.
Истерик – не всемогущая причина желания другого, как перверт, а его объект. Поэтому истерику нужен кто-то, с кем он хотел бы вступить в симбиотические отношения, – мастер. Найдя такого мастера, истерик ожидает от него ответа на проблему нехватки бытия, но ответ никогда не бывает удовлетворительным. Поэтому истерик кастрирует мастера, возлагая на него вину за неспособность обеспечить удовлетворение, и улетает в поисках лучшего мастера. Конечно, как следует из структурной невозможности когда-либо найти ответ, поскольку ответ – это как раз истерический субъект, перемещение в погоне за идеальным фаллическим Другим бесконечно. Это привело Лакана к выводу, что истерическое желание – это желание вечно неудовлетворенного желания (Лакан 2017, 425).
Позитивный аспект этого затруднительного положения можно найти в творчестве, которое проистекает из истерического дискурса. Продуктом истерического дискурса как такового является именно знание. В поисках ответа, но не имея возможности «включить свет внутри» своей субъективности по отношению к Другому, истерик случайно проводит множество «исследований», задавая вопросы различным «мастерам».
В духовных традициях этот этап известен как «искатель» (Санск.: саньясин), когда человек отправляется на поиски учителя из-за неудовлетворенности собой или миром. Перепробовав различные пути и традиции, успешный искатель останавливается на одном пути и последовательно занимается им, занимая тем самым позицию «ученика». Здесь человек принимает дисциплину, используя практики традиции для работы над собой, чтобы разрешить проблему нехватки бытия.
Именно здесь человек начинает обращать свет внутрь и углубляться в процесс подлинного отделения. Пройдя по этому пути достаточно долго, субъект переходит в статус «посвященного» традиции. Здесь жизнь и практика переплетаются: человек посвящает себя практике. С этой стадией схожа буддийская концепция вошедшего в поток: заповеди нравственного поведения, учения и практики традиции интериоризируются, становясь частью сущности человека. Происходит неизбежное смирение, вытекающее из убежденности в эффективности метода; таким образом, человек уже не перескакивает на другой путь практики или «интуитивно» находит свое синтоматическое решение. Человеком движет вера и последовательное органическое применение метода в сочетании с тесным взаимодействием с учителем.
Эволюция духовной практики происходит через «испытание» учителем. Это называется «девять лет подметания пола», когда человек переживает определенный экзистенциальный кризис, который испытывает и посвященного, и учителя. Если этот кризис преодолен, наступает стадия «трансформации», когда учитель преобразует ученика. Если между учителем и посвященным существовало доверие и открытость, сродни братским отношениям, происходит глубокая передача семени знания, в результате чего субъект «перерождается» в того, кто действительно воплощает искусство данной традиции. Тот, кто затронул это семя связи с Духом – пробуждение – достиг «ученичества» в линии традиции32. Этот классический процесс духовного развития, несомненно, характерен для буддийских и даосских систем практики: того, что я называю «духовной традицией».
Конечно, нельзя сравнивать описанный выше процесс с фундаментальной фантазией истерика, поскольку в первом случае происходит движение за пределы невроза и субъективности. Учитывая структуру фантазии истерика, можно с уверенностью сказать, что истерик действительно очень хорошо подходит для того, чтобы начать путешествие к Духу, если ему посчастливится найти традицию, с которой он сможет установить искренние и прочные отношения.
Тем не менее, из аналитических случаев мы узнаем, что наиболее распространен следующий исход. Вначале анализируемый истерик принимает все означающие аналитика, идентифицируясь с его желаниями, интерпретациями и, в конечном счете, знаниями. Быстро наступает улучшение психического состояния пациента, сопровождаемое либидинальным ликованием и энтузиазмом по поводу терапии. Однако так же быстро это улучшение нивелируется, поскольку истерик обнаруживает, что либо аналитик недостаточно хорош как мастер дающий знание касательно jouissance, либо истерик недостаточно хорош и должен поддерживать терапию любой ценой, тем самым становясь зависимым от аналитика (Верхаге 2004, 381). В последнем случае разница между терапией, идеологией и сектантством стирается, превращая все в совокупность, в которой постоянная погоня за неудовлетворенными желаниями происходит за счет жизненной силы, здравомыслия и свободы воли участников. К сожалению, такой исход порой встречается в системах духовных практик.
В сексуальных отношениях позиция истерика характеризуется определенным отвращением к сексуальности. Истерики хотят быть причиной желания другого, а не объектами его jouissance. Поэтому они избегают доставлять партнеру полное либидинальное удовлетворение. Нередко во время полового акта истерик воображает себя кем-то другим, что гарантирует отсутствие реального присутствия и, следовательно, не затрагивает реальную тревогу, связанную с драйвом. Лишенный этой радикальной открытости к себе и другим на уровне влечения, истерический субъект отправляется на поиск сексуальных партнеров, подобно поиску «мастеров».
В то время как дар искренности, доверия и храбрости в сексуальных отношениях, а также готовность преодолеть фундаментальную фантазию воплощения чужого объекта невыполнимого желания – редкое благословение, все же его не следует путать с духовной практикой. Последняя требует иного принципа, а именно – созерцания Духа напрямую, независимо от бессамостного отражения другого в акте близости. Мы коснемся этого принципа в заключительной главе.
Что является основой пути практики для субъекта с истерической структурой? Повернуть свет внутрь, взять на себя ответственность за свое желание, отказаться от отождествления с объектом, вызывающим желание другого, встретиться лицом к лицу с Реальным дуккхи и с тревогой, связанной с ним, «в этом саженном теле». Почти повсеместно приходится проходить через множество феноменов конверсии, возникающих в результате вытеснения подавленных означающих на тело. В данном случае речь идет о теле стадии зеркала: воображаемом, сексуализированном, хрупком теле, предполагаемом в аффективном отражении других и инкорпорированном означающих, которые гарантируют удовольствие и целостность. Необходимо учитывать особый характер диалектического обмена означающими в рамках Символического: артикуляция истерика всегда проходит через фаллическую инстанцию (S1), создавая постоянно раздвигающийся горизонт знания. Знание в истерии разрастается, но оно пусто, поскольку основной вопрос, о котором идет речь, а именно тревога, относящаяся к Реальному, им не затрагивается. Истерик любой ценой избегает его затрагивать. Отсюда постоянное стремление к новым знаниям, которые скользят на полозьях неудовлетворенного желания.
29
Лакан проиллюстрировал процесс отделения от вечной жизни метафорой «ламелы», которая улетает, когда человек рождается как сексуально дифференцированное живое существо (Лакан, 2018, 197). В отличие от одноклеточных организмов, которые выживают после деления клеток, сексуально дифференцированные существа не выживают после размножения. Таким образом, жизнь до рождения в качестве многоклеточного организма – это вечная жизнь, и первое отделение субъекта происходит именно от нее.
30
Здесь перечислены традиционные десять оков (Пали, dasa samyojana) на пути к освобождению. Считается, что тот, кто входит в поток (Пали, sotāpanna), отказывается от первых трех: взгляда на себя как некто, скептических сомнений и привязанности к обрядам и ритуалам, что укрепляется с принятием пяти заповедей в качестве образа жизни. Однажды возвращающийся (Пали, sakadāgāmī) отказался от чувственности и недоброй воли, но не полностью, в то время как не возвращающийся (Пали, anāgāmi) отказался от них полностью, поэтому перерождение в царстве желаний (Пали, kāmadhātu) для такого существа не происходит. Полностью просветленное существо (Пали, arahant) отказалось от желаний материального и нематериального перерождения, от самомнения, беспокойства и невежества. Однако на этом уровне практики мы уже не говорим о тщеславии и беспокойстве, связанных с воззрением на себя и просто беспокойным умом в соответствии с пятью препятствиями, о которых мы поговорим позже. Есть тщеславие, связанное с достижениями практики, и беспокойство, имеющее отношение к рвению к практике. Аджан Маха Боова, считающийся арахантом, затрагивает эти виды беспокойства и тщеславия в своей беседе: https://www.youtube.com/watch?v=_ZKviglubio&list=PLYzMT0jWneu2r5024esrntj3lNOwg9YEH&index=47.
31
Объектная причина желания выглядит следующим образом: во-первых, влечение кристаллизуется на частичном объекте, будь то сосок, сцибалум, образ или звук в соответствии с оральным, анальным, скопическим и инвокаторным частичными драйвами соответственно. Во-вторых, частичный объект передается через Другого, то есть через язык, что порождает четыре разных вида objet a: вбирание ничто, отдавание ничто, взгляд и голос (Ванхель 2014, 133). Эти проявления objet a – то, как Реальное сохраняется, несмотря на непрерывную репрезентативную деятельность «говорящих существ». Следовательно, это то, что относится к Реальному драйва и, следовательно, к дуккхе. Objet a обозначает инаковость изгнанного Реального в данном феномене. Когда субъект занимает позицию objet a, отсутствие бытия не рассматривается внутри себя, а прорабатывается через другого, что характерно именно для истерии и перверсии.
32
Этот отрывок был перефразирован из подкаста Дэмиена Митчелла, который можно найти здесь https://www.youtube.com/watch?v=gQy2gXySw9g.