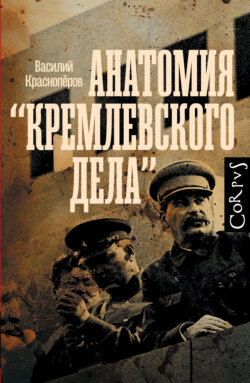Читать книгу Анатомия «кремлевского дела» - - Страница 15
Часть первая
13
ОглавлениеАнализ показаний арестованных по “кремлевскому делу” приходится проводить по доступным в настоящее время протоколам допросов (малая часть этой работы выполнена в разделе о следствии над кремлевскими уборщицами). Речь идет о протоколах, которые направлялись чекистами Сталину и Ежову. Из сопоставления протоколов, хранящихся в фонде Ежова (Ф. 671), частично в личном фонде Сталина (Ф. 558) в РГАСПИ, и тех, что опубликованы в сборнике “Лубянка. Сталин и ВЧК – ГПУ – ОГПУ – НКВД. Архив Сталина. Документы высших органов партийной и государственной власти. Январь 1922 – декабрь 1936” со ссылкой на АП РФ, видно, что Ежову в начальный период следствия не присылались некоторые сопроводительные записки Ягоды к протоколам с изложением хода следствия. Это могло быть связано с тем, что Ежов подключился к следствию не с самого начала, а, по‐видимому, лишь со второй декады февраля (с 11 января по 19 февраля Ежов даже не появлялся в кабинете у Сталина в Кремле). 12 февраля 1935 года начальник СПО ГУГБ Г. А. Молчанов направил Ежову экземпляр № 6 “Сборника № 1 протоколов допросов по делу – Дорошина В. Г., Лукьянова И. П., Синелобова А. И., Мухановой Е. К. и др.”[108]. После этого Ежов стал своевременно получать копии протоколов, направляемых Сталину (но при этом все равно сопроводительные записки, предназначенные для Сталина, были более подробными, с перечислением мер, планируемых чекистами, а Ежову в качестве сопроводительных записок слали лишь перечни протоколов допросов). Понятно, что чекисты направляли “наверх” далеко не все протоколы допросов, а лишь тщательно отобранные и отредактированные. Для полного изучения “кремлевского дела” необходим доступ ко всем его документам, хранящимся в Центральном архиве ФСБ. Однако уже сейчас ничто не может нам помешать проанализировать те показания, доступ к которым не затруднен, с той оговоркой, что из‐за неполноты картины имеются серьезные затруднения в реконструкции логики следствия. К тому же целесообразность анализа “кремлевского дела” лишь по документам из фонда Ежова в РГАСПИ оправдывается тем обстоятельством, что отчеты наверх, циркулярное письмо ЦК, а впоследствии и сообщение на июньском пленуме ЦК 1935 года – то есть конечные результаты всего “дела” – вырабатывались Ежовым на основе именно этих документов.
Думается также, что при анализе следует исходить из того, что задачей следствия было отнюдь не раскрытие совершенного преступления, а его сочинение, изобретение, то есть демонстрация того, что вымышленные “хозяином” вражеские действия действительно имели место; поэтому можно констатировать, что у следствия изначально имелась определенная заданная руководством цель и, соответственно, некая, пусть на первых порах весьма нечеткая и неконкретная, схема “преступления”, под которую подгонялись показания подследственных. Эта схема уточнялась, конкретизировалась и корректировалась по ходу следствия в зависимости от получаемых следователями показаний, предсказать содержание которых целиком заранее было все‐таки невозможно.
108
РГАСПИ. Ф. 671. Оп. 1. Д. 107. Л. 15–92.