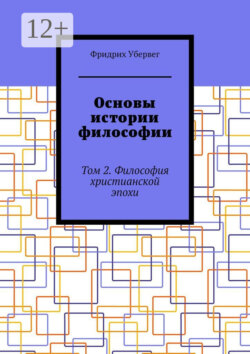Читать книгу Основы истории философии. Том 2. Философия христианской эпохи - - Страница 6
Вторая часть. Средний период, или патристическая и схоластическая эпоха
Первый период философии христианской эпохи
Патристическая философия.
§4.Христианская религия. Иисус и апостолы. Новозаветные писания
ОглавлениеРелигиозное сознание противопоставления святости и греха наиболее ярко проявлялось у древних народов у израильтян; однако их нравственный идеал был связан с ритуальным законом, а откровение Божие представлялось им ограниченным избранным народом детей Авраама.
Устранение ритуальных и национальных ограничений нравственно-религиозной жизни было подготовлено главным образом александрийской религиозной философией, которая выступала посредником между иудейскими учениями и эллинской философией, и осуществлено христианством. В то время, когда греческая культура устранила духовную замкнутость, а римское владычество – политическую самостоятельность народов, христианство противопоставило реальности мировой империи идею Царства Божия, основанного на чистоте сердца.
Мессианская надежда иудейского народа была одухотворена: в покаянии и исправлении увидели условие спасения души, а принцип всех заповедей нашли в законе любви, благодаря чему ритуальный закон, а вместе с ним и национальные, политические и социальные различия утратили прежнее абсолютное значение. Бедным было проповедано Евангелие, угнетенным обещано участие в Царстве Небесном, а сознание Бога как всемогущего Творца, святого Законодателя и праведного Судии было дополнено сознанием искупления и сыновства Богу через действие и пребывание Бога во Христе и в общине верующих.
В отношении литературы необходимо отослать к богословским руководствам. См., помимо введений в библейские сочинения де Ветте (8-е изд., перераб. Э. Шрадером, Берлин, 1869), Гуга, Ройсса, Блека («Введение в Новый Завет», 3-е изд., под ред. В. Мангольда, Берлин, 1875), Хильгенфельда («Историко-критическое введение в Новый Завет», Лейпциг, 1875) и др., особенно Карла Августа Креднера «История новозаветного канона», изд. Г. Фолькмаром, Берлин, 1860, и Адольфа Хильгенфельда «Канон и критика Нового Завета в их историческом развитии и оформлении», Галле, 1863; Г. М. Редслоба «Канонические Евангелия как тайное каноническое законодательство, представленное в форме воспоминаний о жизни Иисуса», Лейпциг, 1869; с другой стороны – многочисленные сочинения о новозаветных учениях и направлениях мысли, такие как у Неандера, де Ветте, Баура и др., а также, среди прочих, Э. Ройсса («История христианской теологии в апостольский век», Страсбург, 1852), Р. К. Люттербека («Христианские догматы», Майнц, 1852), Кристиана Фридриха Шмида («Библейская теология Нового Завета», Штутгарт, 1853), Франца Деличa («Система библейской психологии», Лейпциг, 1855, 2-е изд. 1861), Г. Месснера («Учение апостолов», Лейпциг, 1856), Иоганна Христиана Конрада Гофмана («Священное Писание Нового Завета», Нёрдлинген, 1862—71), К. Ф. Кокера («Христианство и греческая философия», Нью-Йорк, 1870), Р. Ф. Грау («История развития новозаветной письменности», т. I, Гютерсло, 1871), Э. Шписа («Λόγος σπερματικός», параллельные места к Новому Завету из сочинений древних греков, вклад в христианскую апологетику и сравнительную историю религий, Лейпциг, 1871), особенно об учении Иоанна – у Фромманна, Кёстлина, Ройсса и др., а также монографии, как, среди многих других, К. Хольстена «Значение слова σάρξ в учении Павла», Росток, 1855; Карла Ниезе «Иоанновская психология», программа Ландессшуле Пфорта, Наумбург, 1865; Л. Т. Шульце «О Сыне Человеческом и о Логосе», Гота, 1867; Р. Рёрихта к иоанновскому учению о Логосе, в «Theol. Studien und Kritiken», 1868, с. 299—315; Г. Ф. Т. Л. Эрнести «Этика апостола Павла», Брауншвейг, 1868; Виллибальда Бейшлага «Павлова теодицея», Берлин, 1868; Рихарда Шмида «Христология Павла в её связи с учением апостола о спасении», Гёттинген, 1870.
Об ессеизме см. Эл. Бенамозега «Storia degli Esseni», Флоренция, 1865; А. Хильгенфельда «Ессеизм и Иисус», в «Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie», X год, вып. 1, 1867, с. 97—111, и «Еще слово о ессеизме», там же, XI, 3, 1868, с. 343—352; Вильгельма Клеменса «De Essenorum moribus et institutis», дисс., Кёнигсберг, 1868; «Источники по истории ессеев» в «Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie», XII, 3, 1869, с. 328—350; «Ессейские общины», там же, XIV, 3, 1871, с. 418—431. Об александрийско-иудейской литературе, особенно касающейся Филона, см. «Grundr.», т. I, с. 266 и далее.
Эрн. Аве «Христианство и его истоки», ч. 1: «Эллинизм», т. I—II, Париж, 1871.
Своеобразие христианства Неандер (опираясь на Шлейермахера и, вероятно, не без влияния гегелевских понятий) усматривает в «искуплении, сознании единения божественного и человеческого» («Христианская догматика», изд. Я. Якоби, Берлин, 1857, с. 34, и часто в других сочинениях; см. также Неандер «Об отношении эллинской этики к христианству» в его «Научных трудах», изд. Я. Якоби, Берлин, 1851). О соотношении христианства с иудаизмом (характеристика которого здесь, однако, кажется слишком схематичной, и утверждение о сознании отчуждения, по крайней мере, не подходит к до-пленному периоду) и эллинизмом он замечает (там же, с. 36):
«В целом религиозная позиция иудаизма обозначает выступившее сознание отчуждения от Бога и разлада в человеческой природе, тогда как эллинизм – юношескую жизнь природы, где это противоречие с Богом ещё не дошло до сознания. По отношению к иудаизму христианство хочет преодолеть пропасть через искупление; по отношению к эллинизму оно сначала доводит разлад до сознания и из его снятия выводит сообщение божественной жизни человечеству».
(Основную направленность ориентализма в индийской и других природных религиях Неандер там же определяет как «разлад сознания в форме скорби и тоски по ограниченности человеческой природы, в безудержном стремлении к бесконечному и к погружению в Бога»). Ср. выше, часть I, §5.
В собственной учительной деятельности Иисуса, которую он осуществлял преимущественно через изречения и притчи, главный акцент делается на преодоление законнической праведности, как её понимали фарисеи (Мф. V, 20), на идеальное восполнение закона через принцип любви и действительное исполнение этого восполненного закона, так что хотя в основе заповеди и запреты Моисея (включая обрядовые) и даже некоторые позднейшие установления остаются в силе (однако частично, поскольку они касаются лишь внешнего и не имеют непосредственного нравственно-религиозного значения, фактически отменяются Мессией для участников Царства Божия, особенно в отношении соблюдения субботы, очищений и жертвоприношений – Мк. II, 23—28; VII, 14—23 и др., если только это изложение чисто исторично, Мф. XII, 12), то, что Моисей разрешил по жестокосердию народа, более не допускается, а подчиняется идеальному нравственному закону, определяющему и внутреннее расположение, отчего строгость нравственных требований не только не ослабляется, но даже возрастает (отсюда, конечно, лишь в переносном смысле верное изречение Мф. V, 18, что ни одна йота не отменится от закона, пока не прейдет всё, если только это изречение подлинно в такой форме и не усилено пересказчиком в иудео-христианском духе, связывающем мессианское достоинство с полным исполнением закона, как противопоставление павловскому или ультра-павловскому антиномизму).
Не то чтобы Моисей дал лишь обрядовый закон, а Христос признавал только нравственный; заповедь любви к ближнему встречается уже у Моисея (Лев. XIX, 18, ср. Втор. VI, 5; XXX, 16 – о любви к Богу, а также у пророков, например, Ис. LVIII, 7), и обрядовые предписания сохраняют силу у Христа (по крайней мере, согласно изложению в Евангелии от Матфея; у Марка и Луки не утверждается непреходящая обязательность закона); но ценностное соотношение обоих элементов становится обратным вследствие принципиального значения, которое Христос придаёт заповеди любви (Мф. XXII, 34 и далее; Мк. XII, 28 и далее; Лк. X, 25 и далее), и вследствие имени Отца, которым он (в Ветхом Завете есть лишь намёки на это) обозначает отношение человека к Богу как отношение сердечной близости. Он отчасти прямо ссылается на ветхозаветные места (на 1 Цар. XV, 22 и XXI, 6, Ос. VI, 6 указывают Мф. IX, 13; XII, 3); пророческое описание мессианского царства, где царит мир и радость и нет больше распри (Ис. IX и др.), включает мысль о всеобъемлющей любви; в ветхозаветном обете назорейства лежал принцип превосходства над обычной праведностью через воздержание; возможно, также принципы и жизнь ессеев («Grundr.», I, §63) оказали некоторое (переданное через Иоанна Крестителя) влияние.
Иисус, ученик Иоанна, с момента крещения от Иоанна, возвещавшего Мессию, ощущал себя Мессией, не уступающим в достоинстве даже Моисею (ср. Втор. XVIII, 15), и что ему дана непреходящая власть, вечное царство (Дан. VII, 13—14). Он носил в себе призвание и имел мужество основать Царство Божие, собрать вокруг себя труждающихся и обременённых, выйти за пределы всего существующего и учить и жить по собственному нравственному сознанию и нуждам народа, к которому испытывал сострадание, а не просто по преданному преданию. Над формами восприятия, унаследованными от ориентализма, и отсутствием развитых понятий о труде, самостоятельности, собственности, праве и государстве преобладает принцип чистой любви к людям.
Жизнь Иисуса предстаёт как воплощение совершенной праведности в любви, с которой он действует для своих, в безусловном противостоянии прежним вождям народа и всем враждебным силам, и в его смерти, добровольно принятой при бесстрашном исповедании мессианского достоинства и уверенном ожидании возвращения. Молитва о прощении судей и врагов подразумевает несокрушимое сознание своей абсолютной правоты, и то же сознание сохранялось у его учеников после его смерти. В Царстве Божием, основанном Мессией, вместе со святостью должна пребывать и блаженство; молитва Иисуса направлена на то, чтобы святилось имя Божие, пришло Его Царство, исполнилась Его воля, и чтобы вместе с грехом устранилась и земная нужда; труждающимся и обременённым обещается облегчение через снятие гнёта чужой тирании и собственной бедности, болезни и греховности, через отношение сыновства Богу и надежду вечного блаженства для участников Царства Божия. Возможность возвышения к чистоте сердца и нравственному совершенству, образу совершенства Бога, Небесного Отца, Иисус предполагает у тех, к кому обращена его проповедь, так же непосредственно, как и сам сознаёт её в себе.
В логическом следствии нравственного учения и жизни Иисуса заключалась отмена моисеева ритуального закона, а вместе с тем и преодоление национальной ограниченности иудаизма. Эти следствия, намеченные самим Иисусом как выводы из его принципа, впервые были явно проведены Павлом, который при этом полностью осознавал свою зависимость от него («уже не я живу, но живет во мне Христос», Гал. II, 20), и на основании личного опыта, в догматическом обобщении, он нашел для всех людей вообще силу к исполнению чистого нравственного закона и путь к истинной духовной свободе в вере во Христа.
Павел отрицает обусловленность спасения законом, национальностью и вообще чем-либо внешним («нет ни Иудея, ни Еллина, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского», Гал. III, 28; ср. VI, 15: οὔτε περιτομὴ οὔτ» ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις – «ни обрезание, ни необрезание, но новая тварь»; также Рим. X, 12; 2 Кор. V, 17). Положительно же он связывает спасение с безусловно свободной благодатью Божией, усвоение которой со стороны субъекта происходит через веру во Христа как в Искупителя. Закон был детоводителем ко Христу (παιδαγωγὸς εἰς Χριστόν, Гал. III, 24). Через веру внутренний человек укрепляется (ὁ ἔσω ἄνθρωπος, Рим. VII, 22; Еф. III, 16; ср. Рим. II, 29; 1 Петр. III, 4; ср. также ὁ ἐντὸς ἄνθρωπος у Платона, Rep. IX, p. 589 A, где, однако, это выражение основано на развернутой аллегории, и ὁ ἔσω λόγος в противоположность ἔξω λόγος у Аристотеля, Analyt. post. I, 10).
Закон не преодолевает раздвоения между желанием добра по духу и совершением зла по плоти; но через Христа это раздвоение устранено, бессилие плоти побеждено Его духом, живущим в нас (Рим. VII и VIII). Вера вменяется человеку Богом в праведность и возвращает ему утраченную после грехопадения Адама силу к истинному исполнению нравственного закона, делая его причастным духу Христову. Вместо рабского отношения страха перед наказанием, угрожающим нарушителям закона, с преданием себя Христу как Искупителю и оправданием через веру возникает свободное отношение сыновства, общения с Богом в любви.
Верующий во крещении облекся во Христа (Гал. III, 27); Христос должен в нем формироваться (Гал. IV, 19); как Христос умер и воскрес, так и верующий, в силу единства с Ним, умирает для греха, распинает свою плоть со страстями и похотями и воскресает к новой, нравственной жизни духа; плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, верность, кротость, воздержание (Гал. V, 22—24; Рим. VI, 1; VIII, 12 и далее; XIII, 14).
Но в этой жизни верующий имеет лишь начаток духа (ἀπαρχὴ τοῦ πνεύματος, Рим. VIII, 23); мы спасены, но только в надежде и терпеливо ожидаем (Рим. VIII, 24—25); мы ходим верою, а не видением (διὰ πίστεως περιπατοῦμεν, οὐ διὰ εἴδους, 2 Кор. V, 7). Новая жизнь, согласно 1 Кор. XV, 23, осуществится через второе пришествие Христа (а по 1 Фес. IV, 17 – через восхищение оставшихся в живых и воскрешенных на облаках в сретение Господу, ср. Откр. XI, 12).
Сущность нравственного закона Павел, вслед за Христом, видит в любви (Гал. V, 14: ὁ γὰρ πᾶς νόμος ἐν ἑνὶ λόγῳ πληροῦται, ἐν τῷ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς ἑαυτόν – «весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя»; Гал. VI, 2: τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ – «закон Христов»; Рим. XIII, 8—10: ὁ ἀγαπῶν τὸν ἕτερον νόμον πεπλήρωκε. πλήρωμα οὖν νόμου ἡ ἀγάπη – «любящий другого исполнил закон. Ибо любовь есть исполнение закона»; ср. 1 Кор. IX, 21; Рим. III, 27; VIII, 2). Любовь – последнее и высшее в христианстве; она превосходит даже веру и надежду (1 Кор. XIII, 13). Любовь есть проявление веры (Гал. V, 6: πίστις δι» ἀγάπης ἐνεργουμένη – «вера, действующая любовью»).
Учение Павла о соотношении веры и любви дало мощный импульс к дальнейшему развитию мысли относительно связи этих двух сторон религиозной жизни. Если вера по самому своему понятию (как можно заключить из Гал. III, 26; V, 6; Рим. VI, 3 и далее; VIII, 1 и далее; 1 Кор. XII, 3) уже включает в себя любовь или нравственное настроение, и потому связанное с ней оправдание есть божественное признание присущей ей праведности (иначе говоря: если божественное оправдывающее суждение, выражаясь в кантовской терминологии, есть «аналитическое суждение о субъективной нравственной природе верующего»), то, с одной стороны, не доказана необходимость соединения общезначимого нравственного элемента с историческими и догматическими моментами веры в Иисуса как Мессию и Сына Божия, а с другой – скорее вытекает не павловская последовательность (вера – начинающийся процесс возрождения и освящения – оправдание в меру достигнутого освящения), а павловская: вера – оправдание – освящение.
Если же, напротив, вера не обязательно включает любовь (как может казаться на основании Рим. IV, 19; X, 9 и др.) и выступает лишь как новый установительный элемент, христианская замена иудейского участия в жертвах и обрядах (то есть если божественное оправдание верующих есть лишь «синтетическое суждение», вменение чужой праведности), то облагорожение нрава остается требованием, но не предстает как неизбежное следствие веры. Нравственное превосходство всякого, верующего в реальную смерть и воскресение Христа и считающего себя оправданным Его заслугами, перед людьми, не имеющими такой веры, оказалось бы произвольным утверждением, вовсе не подтверждаемым опытными фактами. А если, несмотря на вмененную грешнику праведность, движение к подлинной праведности не последует, то божественное оправдание неисправимого наряду с осуждением других выглядело бы как произвол, пристрастие и несправедливость, а со стороны человека открывался бы простор для легкомысленного злоупотребления прощающей благодатью как индульгенцией на грех.
Когда позднейшие мыслители пытались перевести мистико-религиозное воззрение Павла на соумирание и совоскресение со Христом в догматические понятия, именно эта трудность (которую в новое время пыталась разрешить шлейермахеровская догматика, определив оправдывающую веру как усвоение совершенства и блаженства Христа, то есть как преданность христианскому идеалу) выступала все яснее и порождала многообразные богословские и философские дискуссии, о чем уже свидетельствует Послание Иакова. Древнекатолическая церковь пришла к сопоставлению нравственного закона и теоретически понимаемой веры, также подчиненной закону. В августинизме, Реформации, а затем и в новейшей теологической и философской этике снова и снова в новых формах проявляется диалектика, вытекающая из воззрений Павла.
Признавая любовь (всё более возвышаемую до чистоты понятия через идеализирующее обобщение требований даяния бедным и общинного владения имуществами верующих) как высшее в христианстве, Павел в своих посланиях всё же преимущественно говорит о вере, отменяющей закон; в центр же изложения любовь выдвигается в посланиях Иоанна и в одноимённом (четвёртом) Евангелии. Бог есть любовь (1 Ин. IV, 8; 16); Его любовь проявилась через послание Сына Его, дабы все, верующие в Него, имели жизнь вечную (1 Ин. IV, 9; Ин. III, 16); пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём; заповедь Христа есть любовь; она есть новая заповедь; любящий Бога должен любить и брата своего; любовь к Богу проявляется через соблюдение Его заповедей и хождение во свете (Ин. XIII, 34; XV, 12; 1 Ин. I, 7; IV, 16; 21; V, 2). Верующие рождены от Бога; они ненавидимы миром; мир же лежит во зле (Ин. XV, 18 и др.; 1 Ин. V, 19). На место паулинистской борьбы против отдельных конкретных сил, особенно против продолжающегося действия Моисеева закона, здесь встаёт борьба против «мира» вообще, против всех направлений, враждебных христианству, против иудеев и язычников с их неверием и враждой к Евангелию. Противопоставление избранного народа иудейского язычникам преобразовалось в противопоставление верующих во Христа, ходящих во свете, неверующим и детям тьмы, а временное противопоставление αἰὼν οὗτος и ἐκεῖνος – в постоянно существующее противопоставление мира и Царства Божия, которое есть царство духа и истины. Вера в то, что Иисус есть Христос, есть сила, побеждающая мир. То, что через Моисея дан закон, а через Иисуса – благодать и истина (Ин. I, 17), предстаёт уже как устоявшееся убеждение. Закон упразднён, религиозная жизнь более не питается и не наполняется жертвами и обрядами; на освободившееся место наряду с практической деятельностью любви встаёт теоретическая спекуляция, к которой вера развивается далее.
Прежде всего, связь с иудейским народом обуславливает признание Иисуса как Мессии или сына Давидова, который как таковой одновременно является Сыном Божиим, в Евангелии, именуемом от Матфея; обозначение Иисуса как Сына Божия преобладает в (не утверждающем продолжающуюся обязательность иудейского закона) Евангелии от Марка, где именование «сын Давида» встречается лишь однажды (X, 47 и далее) в устах слепого у Иерихона. Как выражение осознания всеобщей значимости христианской религии выступает признание Христа Сыном Божиим у Павла и выделение этого понимания особенно в Евангелии от Луки, проникнутом паулинистскими воззрениями. Превосходство христианства над иудаизмом, нового завета над старым с его более не обязательным для христиан законом предстаёт как личное превосходство Иисуса Христа над Моисеем и над ангелами, через посредство которых был дан закон, в пронизанном паулинистским мышлением (возможно, составленном Аполлосом или Варнавой) послании к Евреям, где о Христе как Сыне Божием говорится, что через Него Бог сотворил мировые периоды (αἰῶνες), что Он есть сияние славы Божией и образ ипостаси Его (ἀπαύγασμα καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως), вечный первосвященник по чину Мелхиседека, царя-священника, которому подчинился и Авраам, а значит, и левиты как дети Авраама. Покаяние и отвращение от мёртвых дел, а также веру в Бога автор этого послания относит к начаткам христианства, к млечной пище или основанию, от которых следует восходить к στερεά τροφή (твёрдой пище) или к τελειότης (совершенству). Это послание уже содержит зародыши позднейшей гностики.
Четвёртое Евангелие, названное по имени апостола Иоанна, которое учит о чистой духовности Бога и требует поклонения Богу в духе и истине, признаёт во Христе воплотившегося Логоса, который от вечности был у Бога и через которого Бог сотворил мир и открывает Себя людям; Логос стал плотью (ὁ λόγος σάρξ ἐγένετο), и от полноты Его (ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ) мы приняли благодать на благодать. Воплощение Логоса – это то, что отличает учение Иоанна о Логосе от господствовавшего в то время в эллинистически-иудейской философии и возвышает его.1
Однако, сколь важны и значимы ни были бы понятия, посредством которых непосредственные и опосредованные ученики Христа осмысляли Его личность, тем не менее, «подлинная основа и жизнеспособный зародыш христианского учения» заключаются не в них (как полагает Хубер в своем достойном благодарности труде «Философия отцов Церкви», Мюнхен, 1859, с. 8, где на с. 10, следуя Шеллингу («Философия откровения», Соч. II, 4, с. 35), он утверждает, что Христос – «не учитель и основатель, а содержание христианства»). Эта основа и этот зародыш кроются, скорее, в собственной нравственной требовательности Иисуса и в осуществлении требования праведности духа, чистоты сердца и любви (как и Хубер, там же, с. 8, справедливо признает, что основание этих понятий лежит в жизни и учении Иисуса, чем, однако, его согласие с тезисом Шеллинга подвергается существенному ограничению).
Не умаляя существенной новизны и самостоятельности христианских принципов, следует признать их подготовку и предварительное развитие, с одной стороны, в иудаизме вообще, с другой – более конкретно в ессеизме, а с третьей стороны (начиная с Павла и Послания к Евреям, особенно же с зарождения гностицизма и возникновения четвертого Евангелия) – в александрийско-иудейской религиозной философии, обусловленной соприкосновением с эллинизмом. Аллегорическое толкование Писания и теософия были направлены главным образом на одухотворение ветхозаветных представлений. Чувственные явления Бога истолковывались как явления Божественной силы (δύναμις), отличной от сущности Бога, но действующей в мире. Подобно тому как у Аристобула и во второй книге Маккавеев (III, 39) сила (δύναμις) Бога, пребывающая в мире, отличается от внемирного самобытия Бога, а в Притчах (VIII, 22 и далее) и в Книге Премудрости (VII и далее) Премудрость (Σοφία) Божья отделяется от Него Самого, так и Павел провозглашает Христа как Божью силу и Премудрость (1 Кор. I, 24: κηρύσσομεν Χριστὸν Θεοῦ δύναμιν καὶ Θεοῦ Σοφίαν). Подобно тому как Филон называет Бога причиной (αἴτιον) мира, через которую (ὑπὸ) мир имеет свое начало, а Логос (Λόγος) – орудием (ὄργανον), посредством которого (διὰ) Он создал мир, тогда как четыре элемента (τὰ τέτταρα στοιχεῖα) составляют материю (ὕλη), – так и в Послании к Евреям Сын Божий предстает как Тот, через Которого (δι» οὗ) Бог творит, а в Евангелии от Иоанна все сотворенное возникло через Логос (διὰ τοῦ Λόγου, Ин. I, 3 и 10).
Однако александрийская теософия не признавала и не могла признать возможность воплощения Божественного Логоса, поскольку считала материю нечистой, а нисхождение души в смертное тело – следствием ее вины. Для нее поэтому было невозможно и отождествление Мессии с Логосом: она все еще ожидала Мессию, тогда как Иисус сознавал Себя таковым. Она не нашла для одухотворения Закона принципиально положительного выражения в заповеди любви к людям; не сделала из этого одухотворения (павловского) вывода, что с пришествием Мессии для всякого верующего в Него древний Закон в его буквальном смысле более не действителен; не допустила, чтобы на место обрядового почитания Бога, открывшегося иудеям, встало почитание Бога в духе и истине.
В силу этих глубоких различий александрийская философия остается на стороне дохристианской эпохи и может считаться лишь одной из предварительных ступеней христианства – однако она же должна быть признана и последней, ближайшей к нему ступенью. (Ср. Grundr. I, §63.)
Монотеизм как мировая религия мог возникнуть только из иудаизма. Победа христианства – это победа освобожденной от национальной ограниченности, смягченной и одухотворенной религиозной концепции еврейского народа над политеизмом. Эта победа аналогична предшествовавшей ей победе эллинского языка, искусства и науки в царствах, основанных Александром Великим и впоследствии подпавших под власть Рима, с той лишь разницей, что борьба на религиозном поле была тем ожесточеннее и продолжительнее, чем более устойчиво ценных элементов содержали в себе политеистические религии.
Как только национальная замкнутость уступила место оживленному общению народов и единству мировой империи, постепенно на смену сосуществованию различных направлений культуры неизбежно должно было прийти господство того из них, которое было самым мощным, возвышенным и развитым – то есть господство греческого языка, искусства и науки, римского права (а для Запада – и римского языка), а также либо греко-римской, либо (обобщенной, денационализированной) иудейской религии.
Как только иудеями (особенно вне Палестины) было осознано несоответствие сохранения позитивного Закона, при сохранении верности монотеизму, и как только для отмены Закона, ставшей необходимой в силу исторических обстоятельств, была найдена авторитетная фигура, соответствующая их религиозному сознанию и одновременно удовлетворяющая потребность неиудеев в независимости от реального иудаизма – а именно богочеловеческий Мессия, стоящий выше Моисея и Авраама (даже если Сам Он в Своем историческом явлении не провозгласил этой отмены, возможно, даже не желал ее, а лишь Своими новыми требованиями, выходящими за рамки позитивного Закона, дал точку опоры для нее), – как только эти условия совпали (что впервые произошло у Павла), началась борьба религий.
Новому направлению было труднее утвердиться внутри иудаизма и среди почитателей Мессии, державшихся буквы авторитета Того, Кто лично жил среди них, чем внутри эллинизма – хотя и он уступил не без ожесточенного сопротивления. Более того, подчиняясь, эллинизм одновременно наполнил христианство существенными элементами самого себя, так что в определенном смысле справедливо можно назвать христианство (хотя оно и происходит прежде всего из иудаизма) синтезом, выходящим за пределы и иудаизма, и эллинизма. Эти два фактора, наряду с другими новыми мотивами, затем внутри самого христианства вступили в противостояние, первым успешным преодолением которого стал католицизм.
По отношению к иудейству христианство было одухотворением, поэтому для староверующих позитивистов, которые особенно не могли примириться с Павловской отменой закона, оно стало вольнодумным соблазном (σκάνδαλον, 1 Кор. I, 23). Для образованных эллинов учение о распятом Боге из иудейского рода было суеверным безумием (μωρία, там же), почему и не многие знатные приняли его (1 Кор. I, 26 и далее); слабые же, обремененные и угнетенные охотно внимали вести о Боге, сошедшем к их уничижению, и проповеди о будущем воскресении к блаженной жизни; их нуждам соответствовало утешение в несчастье, а не религия светлого удовлетворения; противодействие угнетателям обрело в вере во Христа духовную опору, а взаимная поддержка – в заповеди любви мощный побудительный мотив; на материальный и духовный интерес отдельного человека, на личную нравственность и индивидуальное блаженство теперь, после утраты политической самостоятельности, падало гораздо большее значение, чем прежде, для городов и народов, которые в прежние времена либо вовсе не соприкасались друг с другом, либо непрестанно враждовали; объединение единомышленников в единую религиозную общину среди самых разных народов и гражданских обществ стало теперь впервые возможным и приобрело высокую духовную притягательность; существование мировой монархии благоприятствовало религиозной идее единства и проповеди согласия и любви; религия стала необходимостью, которая даже в своих теоретических предпосылках опиралась не на старые национальные воззрения, а на более широкое, менее поэтичное, более рефлексирующее сознание тогдашней современности; перед искусственными, интеллектуально-аристократическими, чуждыми народному мнению попытками переосмысления и слияния, каковые возникали особенно в позднем стоицизме и неоплатонизме – попытками, которые не осмеливались и не могли удержать древнеэллинский принцип в его первоначальной форме перед лицом христианства, – более простая и народная евангельская доктрина должна была одержать победу; аллегорическое толкование мифов было лишь доказательством того, что в глубине души их стыдились, и потому подготовило торжество христианства, которое открыто отвергало их; в нравственном же отношении, после распада этической гармонии, существовавшей в период расцвета эллинской древности, при прогрессирующем нравственном вырождении спасение виделось прежде всего в очищении через отречение от мира – в «распятии похотей и страстей» – и в обращении к такому этическому идеалу, который не одухотворял и не преображал художественно естественную жизнь, но возвышал дух над нею. Для многих весьма действенны были страх перед угрожающими адскими муками и надежда на обещанное спасение и блаженство соучастников Царства; но и кровь мучеников, благодаря вниманию и уважению, переходившим с их личности на их дело, стала семенем Церкви.
1
О времени возникновения канонических Евангелий и их соотношении друг с другом и с некоторыми другими, по большей части утраченными евангельскими писаниями с пробуждением исторической критики было проведено бесчисленное количество исследований, которые, однако, до сих пор не привели к повсеместно достоверному результату. Трудность достижения надёжного вывода заключается в том, что при исследовании, помимо редакций, дошедших до нас, необходимо учитывать и более древние, не дошедшие до нас, а также другие утраченные евангельские писания, от которых сохранились лишь немногие следы. Если пренебречь этим учётом, исследование будет основываться на ложной предпосылке; если же принять его, тем самым открывается столь широкое поле для построения гипотез, что методологическое требование – доказать несостоятельность всех возможных гипотез, кроме одной, как противоречащих установленным фактам, – становится почти невыполнимым. В этих условиях достаточно избегать предположений, ошибочность которых строго доказана, и формировать такое представление, которое, хотя и не может быть строго доказано по крайней мере на данный момент, является возможным согласно научным нормам и способно объяснить фактическое положение вещей. Вопрос о соотношении так называемых «синоптических Евангелий» (от Матфея, Марка и Луки) между собой имеет для общего исторического взгляда гораздо меньшее значение, чем вопрос о том, стоят ли они или четвёртое, названное по имени Иоанна Евангелие ближе по времени и характеру к описываемым событиям. Евангелие от Марка, как можно с уверенностью заключить из гораздо большей естественности изложения по сравнению с соответствующими частями у Матфея и Луки, наиболее точно передаёт события, тогда как Евангелие от Матфея, как явствует особенно из подтверждаемого иными источниками (например, посланиями Павла) отношения первых апостолов к закону, в большинстве речей носит (хотя и не безусловно) характер по существу верного изложения. Наилучшим образом этому соответствует предположение, что Евангелие от Марка (гл. I—XVI, 8 с изначально более кратким заключением) является самым ранним из сохранившихся Евангелий, тогда как каноническое Евангелие от Матфея представляет собой свободную переработку очень раннего, возможно, записанного апостолом Матфеем собрания изречений Иисуса о Царстве Небесном и условиях принадлежности к нему, а также соответствующих рассказов из жизни Иисуса, переработанную в универсалистском духе с использованием других писаний (родословия Иисуса, апокалиптических пророчеств и, вероятно, также нашего Евангелия от Марка). Евангелие от Иоанна отражает послепаулинистскую стадию развития христианского сознания. Оно строго отделяет закон иудеев от заповеди Христа, но сохраняет (оставленное гностицизмом) отношение к традиции и, в духе апостолов, подобно Поликарпу и Иустину, утверждает тождество ветхозаветного Бога с Отцом Иисуса Христа, но одновременно (чем превосходит Первое послание Иоанна) подчёркивает присутствие Царства Божия. Иерапольский Папий (см. о нём Шлейермахер, «О свидетельствах Папия касательно наших первых двух Евангелий» в Theol. Stud. u. Krit., 1832 г., стр. 735—768, перепечатано в Schl.’s sämmtl. Werken, отд. I, т. 2, стр. 361—392; далее – Т. Цан в Theol. Stud. u. Krit., 1866 г., стр. 619—669, и Франц Овербек в Zeitschr. f. wiss. Theol., X, 1867 г., стр. 35—74), иудео-христианин, живший в первой половине и, вероятно, также после середины II века по Р. Х. и собиравший сведения о речах Иисуса у непосредственных учеников апостолов, в своём сочинении «Толкование изречений Господних» (ἐξήγησις λογίων κυριακῶν), как сообщает Евсевий в Церковной истории (III, 39), на основании показаний так называемого пресвитера Иоанна, пережившего апостола Иоанна, засвидетельствовал, что Марк написал Евангелие, основываясь на воспоминаниях о проповедях апостола Петра, а Матфей составил на еврейском языке собрание изречений Иисуса, которое сначала каждый толковал, как мог (или позволял толковать), пока не был сделан письменный перевод на греческий язык и он не получил распространения. Ириней свидетельствует (Adv. haer., III, 1; греческий текст у Евсевия, Церковная история, V, 8): «Затем (после того как Матфей написал по-еврейски, в то время как Пётр и Павел проповедовали в Риме, а после их смерти – Марк, истолкователь Петра, и Лука, спутник Павла) Иоанн, ученик Господа, возлежавший у Него на груди, также издал Евангелие, пребывая в Эфесе Азийском». Эти свидетельства отражают взгляд, который остался преобладающим в христианской Церкви; однако параллельно существовали и другие предположения, а в последние столетия число гипотез значительно умножилось. В частности, после того как Б. Спиноза, отчасти также Ричард Симон, а затем и несколько английских деистов критиковали Библию в духе, отличном от традиционного, Германия стала плодотворной почвой для библейских исследований. В Евангелии евреев (родственном Евангелию от Матфея), которое ещё видел Иероним, Лессинг полагал найти источник формирования Евангелий вообще; Гердер указывал на устное предание, предшествовавшее Писанию и обусловившее его. На гипотезу Лессинга о письменном перво-Евангелии опирался, в частности, Эйхгорн; на гипотезу устного предания Гердера – Гизелер и также Шлейермахер; значение свидетельств Папия особенно подчеркнул Шлейермахер. Предположение о по меньшей мере относительной первоначальности Евангелия от Марка защищали, среди прочих, Шторр, Гердер (Werke zur Rel., XII, стр. 15), Лахман (Theol. Studien u. Krit., 1835, стр. 570—590), Х. Вайзе, Вильке, Б. Бауэр, Хитциг (Johannes Marcus und seine Schriften, Цюрих, 1843), Зоммер, Рейсс, Эвальд (хотя и с весьма сложными допущениями), А. Ричль, Фолькмар, Гольцман (Die synoptischen Evangelien, Лейпциг, 1863), Шенкель (Charakterbild Jesu, Висбаден, 1861). То, что Марк писал позже Матфея, в новое время допускали, среди прочих, Гуго Гроций, И. Л. Гуг, а также А. Гильгенфельд и А. Клостерман (Der Markustext nach seinem Quellenwerth für die evangelische Geschichte, Гёттинген, 1867), хотя при этом признавалось (как особенно подчёркивает Клостерман), что нынешняя редакция текста Матфея предполагает знакомство с Евангелием от Марка. Согласно гипотезе Грисбаха (несостоятельной из-за простоты повествования), к которой присоединились, среди прочих, Де Ветте (Lehrbuch der hist.-kritischen Einleitung in die kanon. Bücher des neuen Test., 6-е изд., Берлин, 1860, §§82 и 94—96), Д. Ф. Штраус, Баур, Целлер и Кейм, Евангелие от Марка представляет собой комбинирующий (и примирительный) сокращённый вариант Евангелий от Матфея и Луки. Баур относил составление четвёртого Евангелия (подлинность которого оспаривал Бретшнейдер в «Probabilia», Лейпциг, 1820) к периоду между 150 и 170 гг. по Р. Х.; к его аргументации в основном присоединился и Й. Х. Схолтен в своём труде (впервые изданном на голландском в 1864 г.) «Евангелие от Иоанна: Критико-историческое исследование» (перевод с голландского Г. Ланга, Берлин, 1867). Гильгенфельд, хотя и не считал четвёртое Евангелие произведением самого апостола Иоанна, полагал его значительно древнее, чем допускал Баур, и относил его создание примерно к 130 году. Однако, если признать, что оно не обусловлено учениями Иустина, Валентина и др., а, напротив, повлияло на них, то его можно отнести к более раннему времени (ближе к 100 г.) и предположить, что автором был непосредственный ученик Иоанна. См. также К. Газе (Geschichte Jesu, Лейпциг, 1876), который считает, что Евангелие было написано учеником апостола примерно через десять лет после смерти Иоанна. Густав Фолькмар (Die Religion Jesu, Цюрих, 1857; Der Ursprung unserer Evangelien, Цюрих, 1866; Die Evangelien oder Marcus und die Synopsis der kanon. u. ausserkanon. Evangelien nach dem ältesten Text mit hist.-exeget. Commentar, Лейпциг, 1869) придерживается мнения, что: – около 55 г. Павел написал Послание к Галатам, затем до 60 г. – к Коринфянам и Римлянам; – ближе к концу 68 или началу 69 г. была составлена Апокалипсис; – около 75—80 гг. появилось Евангелие от Марка, названное так в честь Марка, ученика Петра и Павла; – около 90 г. – древнейшее «Евангелие евреев»; – около 100 г. – Евангелие от Луки вместе с Деяниями апостолов (где главы I – XII используют возникшую около 90 г. Петрову историю, «Керигму Петра», а главы XIII и далее – путевые записки Луки, спутника Павла, составленные около 75 г.); – в 105—110 гг. – Евангелие от Матфея как соединение Марка и Луки, с использованием также Евангелия евреев (написанного по-арамейски около 90 г. и содержащего подлинную родословную Иисуса); – наконец, после нескольких других евангельских сочинений, между 150 и 165 гг., в связи с трудами Иустина и в духе, как полагали, Иоанна как автора Апокалипсиса (где в XIX, 13 Иисусу приписывается имя Λόγος), было создано «Евангелие от Иоанна»; – около 175 г. в Риме был составлен новозаветный канон, объединивший синоптиков с Логосовым Евангелием, Деяниями, 13 посланиями Павла, Первым посланием Иоанна и Апокалипсисом. Однако ср., с другой стороны, Христофора Иоганна Риггенбаха («Свидетельства о Евангелии от Иоанна, заново исследованные», Базель, 1866) и возражения А. Гильгенфельда (Zeitschr. f. wiss. Theol., X, 1867, стр. 179—197). Adhuc sub judice lis est (Дело ещё не решено).