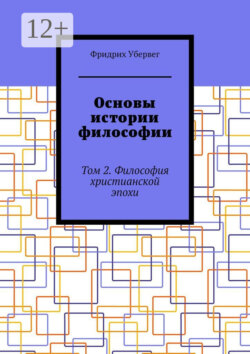Читать книгу Основы истории философии. Том 2. Философия христианской эпохи - - Страница 7
Вторая часть. Средний период, или патристическая и схоластическая эпоха
Первый период философии христианской эпохи
Патристическая философия.
§5. Иудеохристианство, паулинизм и древнекатолическая церковь
ОглавлениеПротиворечие между иудейством и эллинизмом повторилось в ограниченном смысле и мере, обусловленных общностью христианских принципов, внутри самого христианства как противоречие между иудеохристианами и языкохристианами. Иудеохристианство соединяло веру в Иисуса как Мессию с соблюдением Моисеева закона; языкохристианство же исходило из Павловского понимания христианства как оправдывающей и освящающей веры во Христа, независимой от дел закона. Это противоречие, при общем признании Иисуса Мессией и принятии Его нравственного закона любви, было преодолено силой христианского стремления к единству (особенно господствовавшего в смешанных общинах, таких как римская), был установлен общеапостольский канон Писаний, близкий к нашему, который присоединяет к первым трём нашим Евангелиям, отвергая прочие, Евангелие от Иоанна и связывает с ним собрание апостольских писаний, и была основана древнекатолическая церковь, понимавшая христианство по существу как новый закон любви при отмене Моисеева обрядового закона на основе веры во Христа и определявшая содержание веры в законодательной форме через правило веры, в связи с формированием новой иерархической организации.
Правило веры преимущественно касается объективных предпосылок спасения, а именно – основывается на понятиях о Боге, Его Единородном Сыне и Святом Духе, которые закрепились в христианском сознании главным образом через крещальную формулу, в противоположность, с одной стороны, иудаизму, с другой – не соответствующим общему духу христианства спекуляциям гностиков.
Август Неандер, Всеобщая история христианской религии и церкви, Гамбург 1825—52, 3-е изд. Гота 1856; История насаждения и руководства христианской церкви апостолами, Гамбург 1832 и др., 5-е изд. Гота 1862; История христианских догматов, изд. Я. Л. Якоби, Берлин 1857.
Рихард Роте, Начала христианской церкви и её устройства, т. I, Виттенберг 1837.
А. Ф. Гфрёрер, История первоначального христианства, 3 т., Штутгарт 1838.
Фердинанд Христиан Баур, Павел, апостол Иисуса Христа, Тюбинген 1845, 2-е изд. под ред. Э. Целлера, Лейпциг 1866—67; Лекции по новозаветной теологии, изд. Фердинандом Фридрихом Бауром, Лейпциг 1865 и след.; Христианство и христианская церковь первых трёх веков, Тюбинген 1853, 2-е изд. 1860, 3-е изд. 1863; Христианская церковь от начала четвёртого до конца шестого века, Тюбинген 1859, 2-е изд. 1863.
Альберт Швеглер, Послеапостольский век в главных моментах его развития, Тюбинген 1846.
Ройсс, История христианской теологии в апостольский век, 2 т., Париж 1852.
Альбрехт Ричль, Возникновение древнекатолической церкви, Бонн 1850, 2-е изд. 1857.
Тирш, Церковь в апостольский век, Франкфурт 1852, 2-е изд. там же 1858.
Иоганн Петер Ланге, Апостольский век, Брауншвейг 1853—54.
Адольф Гильгенфельд, Первоначальное христианство в главных поворотных пунктах его развития, Йена 1855. См. также многочисленные статьи Гильгенфельда в издаваемом им Журнале научной теологии.
Генрих Гольцман, Иудейство и христианство, Лейпциг 1867 (составляет второй том сочинения: История народа Израиля и возникновение христианства Георга Вебера и Г. Гольцмана).
Филипп Шафф, История христианской церкви, т. I: Апостольская церковь, Мерсерсберг 1851, 2-е изд., Лейпциг 1854, англ. Нью-Йорк 1853 и др.; История древней церкви до конца шестого века, англ. Нью-Йорк и Эдинбург 1859, 2-е изд. там же 1862, нем. Лейпциг 1867, 2-е изд. там же 1869 (см. также Шафф, Личность Иисуса Христа, Гота 1865).
Древнекатолическая церковь, обусловленная иудеохристианством и паулинизмом и воспринявшая от них некоторые элементы, но всё же первоначально развившаяся из Павловского языкохристианства, по содержанию совпадает с паулинизмом в отмене Моисеева закона и национальных границ на основе веры во Христа, но по форме близка к иудейству и иудеохристианству благодаря законодательной формулировке, которую она дала христианскому принципу в отношении веры, дел любви и церковного устройства. Для неё христианство по существу было новым законом (Ин. XIII, 34: ἐντολὴ καινή, как и Павел в Гал. VI, 2 признаёт любовь, проявляющуюся во взаимной поддержке, как νόμος τοῦ Χριστοῦ в отличие от Моисеева закона; ср. 1 Кор. XI, 25; 2 Кор. III, 6 и Евр. VIII, 13: καινὴ διαθήκη, Послание Варнавы II, 4: новый закон Иисуса Христа).
Пристрастие к законодательной форме в вере, действиях и устройстве объясняется (подобно тому как переход от веры Лютера к положениям веры Лютера и далее к символам лютеранской церкви отчасти основывался на примере древней церкви, несмотря на всё противодействие, отчасти – на внутренней необходимости объективных норм и на реакции против крайних реформаторских направлений) частично влиянием, которое религия закона и иерархия Ветхого Завета, несмотря на всю христианскую идеализацию, должны были оказывать и на языкохристиан (причём даже без сознательных «уступок» противоположной стороне, которые имели место лишь попутно и гораздо более со стороны части иудеохристиан, чем языкохристиан), а также влиянием древнехристианского предания, особенно λόγια Κυριακά, а с другой стороны – церковной потребностью перехода от субъективных воззрений Павла к объективным нормам и моральной реакцией против ультрапаулинистского антиномизма2.
Баур и Швеглер придают главное значение последовательному развитию и примирению противоречия между иудеохристианством и паулинизмом, приписывая иудеохристианству (чья существеннейшая значимость состоит в том, что оно было исторической предступенью паулинизма) для послепавловского времени (когда оно в виде так называемого эвионитства оставалось влиятельным примерно до 135 года, а затем почти стало лишь угасающей древностью) возможно большее распространение и влияние, чем это фактически доказуемо или вероятно по внутренним причинам.
Напротив, Альбрехт Ричль особенно старался доказать, что католическое христианство возникло не из примирения иудеохристиан и языкохристиан, а представляет собой ступень исключительно языкохристианства; основа преобразования паулинизма лежит в церковной потребности общезначимых норм мышления и жизни в противовес мистической связанности теоретического и практического элементов в понятии веры у самого Павла, обусловленной его особенностью и его опытом, – причём, конечно, с фиксацией того, что в воззрении Павла было текучим и живым, утратились глубина и возвышенность Павлова христианства (Возникновение древнекатолической церкви, 1-е изд., с. 273).
Во втором издании своей работы А. Ричль полагает, что вопрос следует ставить не так, основывалась ли древнекатолическая церковь на почве иудеохристианства или паулинизма, а так, развилась ли она из иудео- или языкохристианства. Он усматривает признаки языкохристианства в устранении иудейского обычая и в убеждении, что они вступили в заветное общение с Богом вместо иудеев (что, конечно, стало возможным лишь благодаря превосходящей иудеохристианство деятельности Павла), и замечает:
«Языкохристиане нуждались сначала в наставлении о единстве Бога и истории Его заветного откровения, о нравственной праведности и суде, о грехе и искуплении, о Царстве Божием и Сыне Божием, прежде чем они могли обратиться к диалектическим отношениям между грехом и законом, благодатью и оправданием, верой и праведностью» (2-е изд., с. 272).
Они объединяли авторитет всех апостолов, включая Павла, но произвольно разлагали их учение так, что Христос представлялся им новым законодателем, а религиозное отношение к Нему – как признание правила веры и исполнение Его закона (там же, с. 580 и след.).
Замечательная работа Ричля, возможно, нуждается в дополнении более подробным рассмотрением развития содержания вероучения, особенно Иоаннова учения, гностицизма и реакции против последнего.
Иудеохристианство, которое характеризуется сочетанием соблюдения Моисеева закона с верой в мессианское достоинство Иисуса, со времени появления Павла разделилось на две фракции. Строгие иудеохристиане не признавали апостольского служения Павла и допускали христиан из язычников к участию в Мессианском Царстве только при условии, что они подвергнутся обрезанию; более умеренные же иудеохристиане признавали за Павлом законную деятельность среди язычников и требовали от уверовавших из язычества лишь соблюдения заповедей, обязательных для прозелитов врат у иудеев (согласно так называемому Апостольскому декрету, Деян. 15:29: ἀπέχεσθαι εἰδωλοθύτων καὶ αἵματος καὶ πνικτοῦ καὶ πορνείας, тогда как в Гал. 2:10 упоминается лишь сбор в пользу бедных в Иерусалиме – условие, которое Павел скорее мог принять, не поощряя возврата к законничеству, им же самим отвергаемому).
Более умеренная фракция, терпимо относившаяся к христианам из язычников, уже ко времени Иустина сама превратилась в терпимое направление (Диал. с Трифоном, гл. 47); строгая же фракция теряла влияние по мере обострения противостояния между христианами и иудеями. Декрет, изданный после подавления восстания Бар-Кохбы (135 г. н. э.), запрещавший иудеям проживание в Иерусалиме, исключил также всех иудеохристиан, живших по иудейскому закону, из этого центра христианства, и только свободная от Моисеева закона христианская община сохранилась там, теперь уже под управлением епископа из числа христиан из язычников. Наконец, древнекафолическая церковь, оформившаяся с признанием общеапостольского канона (ок. 175 г. н. э.), исключила всё иудеохристианство как еретическое (так что после этого времени оно продолжало существовать лишь в виде секты), в то же время отвергая и крайний, ультрапаулинистский антиномизм и гностицизм, которые угрожали упразднением самой нравственности и разрывом связи христианства с его ветхозаветной основой.
Эти противоречия обусловили и начало философской спекуляции в христианстве (поэтому они не могли остаться здесь неупомянутыми).
2
Неандер наряду с малой силой и чистотой религиозного духа в послеапостольское время указывает также на ветхозаветный образец, первоначально получивший значение в отношении устройства, как причину, по которой в древнекатолической церкви сложилась новая дисциплина закона.