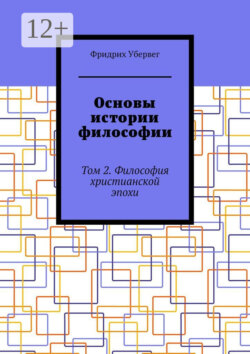Читать книгу Основы истории философии. Том 2. Философия христианской эпохи - - Страница 9
Вторая часть. Средний период, или патристическая и схоластическая эпоха
Патристическая философия до Никейского собора
§7. Гностицизм
ОглавлениеСтремление так называемых гностиков перейти от христианской веры к христианскому знанию стало первой попыткой создания христианской религиозной философии. Однако форма гностических спекуляций – не чистый концепт, а фантастическое представление, гипостазирующее отдельные моменты религиозного процесса в виде вымышленных личностей, так что сложилась христианская (или, точнее, полухристианская) мифология, под покровом которой скрывались зачатки историко-философского понимания христианства.
Речь шла, во-первых, об отношении христианства к иудаизму, где практическая позиция ультрапаулинизма по отношению к иудаизму обрела теоретико-богословское выражение; во-вторых – об отношении христианства к язычеству, особенно к эллинизму. Представления гностиков заимствованы частично из Ветхого Завета и специфически христианских источников, частично – из эллинских и вообще языческих, включая восточные. В зависимости от этих связей различаются этапы и формы гностицизма, развивавшегося от простых начал к сложным системам.
Отделение христианства от иудаизма проявляется во все более резкой форме в учениях Керинфа, Кердона и Сатурнина, которые противопоставляли Бога, проповеданного Моисеем и пророками, Богу – Отцу Иисуса Христа. Маркион, враждебный всякой внешней законности, полностью изолировал христианство как абсолютную, самодостаточную религию, лишенную предпосылок, от ветхозаветного откровения, чей автор казался ему лишь справедливым, но не благым существом.
На язычество опирались и отчасти ориентировались на его отношение к христианству:
– Карпократ – христианско-платонический универсалист;
– офиты (наассены) и ператы, видевшие в змее мудрое и доброе существо;
– сириец Василид, помещавший высшие божественные силы в надмирное пространство, отводивший почитаемому иудеями Богу ограниченную сферу власти, а людей, верующих во Христа, просвещаемых и обращаемых Евангелием, исходящим от высшего Бога;
– наконец, Валентин и его последователи, чья гностическая система, обусловленная эллинизмом и парсизмом, учила об эманации из Праотца божественных надмирных эонов (гипостазированных сил, причастных Божеству и Его вечности), составляющих плерому. Последний из эонов, София, из-за неумеренного стремления к Праотцу впала в страдание, породив низшую мудрость – Ахамот, пребывающую вне плеромы, а также психическое и телесное начало вместе с Демиургом. Согласно этой системе, произошло троякое искупление:
1) в мире эонов – через Христа;
2) для Ахамот – через Иисуса, созданного эонами;
3) на земле – через Иисуса, сына Марии, в котором обитал Святой Дух (божественная Премудрость).
Сходное учение изложено в книге «Пистис София». Сириец Бардесан упростил гностицизм, найдя преимущество человека в свободе воли. Дуализм Мани – это сочетание магизма и христианства, пронизанное гностическими спекуляциями.
Источники по гностицизму
Помимо гностических сочинений (таких как «Пистис София», извлеченная из коптского кодекса и переведенная на латынь М. Г. Шварце, изд. Й. Х. Петермана, Берлин, 1851) и ряда фрагментов, основными источниками служат труды их оппонентов:
– Ириней, «Опровержение лжеименного знания» (изд. Штирен, Лейпциг, 1853; Т. I, с. 901—971: фрагменты гностиков, упомянутых Иринеем);
– Псевдо-Ориген (Ипполит), «Опровержение всех ересей» (первое изд. Эм. Миллер, Оксфорд, 1851);
– сочинения Псевдо-Игнатия, Иустина, Тертуллиана, Климента Александрийского, Оригена, Евсевия, Филастрия, Епифания, Феодорита, Августина и других, а также трактат неоплатоника Плотина «Против гностиков» (Эннеады II, 9).
Среди современных историков особенно значимы:
– Неандер, «Генетическое развитие важнейших гностических систем» (Берлин, 1818);
– Ж. Маттер, «Критическая история гностицизма» (2-е изд., 1843);
– Мёлер, «Происхождение гностицизма» (Тюбинген, 1831);
– Ф. К. Баур, «Христианский гностицизм, или Религиозная философия» (Тюбинген, 1835);
– А. Гильгенфельд, «Гностицизм и Новый Завет» (в «Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie», 1870);
– А. Гарнак, «К критике источников по истории гностицизма» (Лейпциг, 1873);
– Г. Л. Мансел, «Гностические ереси I—II веков» (изд. Б. Лайтфута, Лондон, 1875).
В «Analecta Ante-Nicaena» Бунзена (Лондон, 1854) Якоб Бернайс обработал выдержки Климента Александрийского из валентинианца Феодота (Т. I, с. 205—273).
О некоторых гностиках и их системах писали:
А. Гильгенфельд, «Маг Симон», в «Zeitschr. f. wiss. Theol.», Jahrg. XI, 1868, S. 357—396;
А. Липсиус, «Симон Маг», в: Schenkels Bibellexicon, Bd. V, S. 301—321.
Маркион и «Философумена», в «Theol. Jahrbüch.», Tüb. 1854, S. 102—126.
Липсиус, «Время Маркиона и Гераклеона», в «Zeitschr. f. wiss. Theol.», X, 1867, S. 55—83.
О офитских системах в последнее время писал главным образом Липсиус в выпусках 1863 и 1864 годов гильгенфельдовского журнала «Zeitschr. f. wiss. Theol.». Ср. Иоганн Непомук Грубер, «Об офитах». Инауг. дисс., Вюрцбург, 1864.
О ператах – Баксман, «Философумена и ператы», в «Niedner’s Ztschr. f. hist. Theol.», 1860, S. 218—257.
О Василиде:
Якоби, «Учение гностика Василида», Берлин, 1852;
Бунзен, «Ипполит и его время», Лейпциг, 1852, I, S. 65 и далее;
Ульхорн, «Василидианская система», Гёттинген, 1855;
Гильгенфельд, «Система гностика Василида», в: «Theol. Jahrb.», 1856, S. 86 и далее, и: «Еврейская апокалиптика, с приложением о гностической системе Василида», Йена, 1857, S. 287—299;
Баур, «Система гностика Василида и новейшие её толкования», в: «Theol. Jahrb.», 1850, S. 122 и далее, и: «Христианство первых трёх веков», 2-е изд., 1860, S. 204—213;
Липсиус, «К критике источников Епифания», Вена, 1865, S. 100 и далее;
П. Хофстеде де Гроот, «Василид на рубеже апостольского века как первый свидетель древности и авторитета новозаветных писаний, особенно Евангелия от Иоанна». Нем. доп. изд., Лейпциг, 1868;
см. также статьи в журнале «Zeitschr. f. wiss. Theol.», издаваемом Гильгенфельдом.
О Валентине:
Г. Россель, в: «Посмертные сочинения», Берлин, 1847, Bd. II, S. 250—300;
Георг Генрици, «Валентинианская гносис и Священное Писание», Берлин, 1871.
Послание валентинианца Птолемея к Флоре рассмотрено Стиреном, «De Ptolem. Valent. sp. ad Floram», Йена, 1843.
«Пистис София», произведение, приписываемое гностику Валентину, переведено с коптского лондонского кодекса Шварце, изд. Петерман, Берлин, 1851.
Кёстлин, «Гностическая система книги Πίστις Σοφία», в: «Theol. Jahrb.», Тюбинген, 1854, S. 1—104, 137—196.
О Бардесане:
Август Ган, «Бардесан, гностик, первый сирийский гимнограф», Лейпциг, 1819,
а также места из «Фихриста» у Флюгеля, «Мани», Лейпциг, 1862, S. 161 и далее и S. 356 и далее,
далее А. Меркс, «Бардесан из Эдессы», Галле, 1863,
и Гильгенфельд, «Бардесан, последний гностик», Лейпциг, 1864.
О Мани:
Ж. де Боссобр, «Критическая история Мани и манихейства», Амстердам, 1734—39;
К. А. фон Райхлин-Мельдегг, «Теология мага Мани и её происхождение», Франкфурт, 1825;
А. Ф. В. де Вегнер, «Индульгенции манихеев с кратким очерком всего манихейства по источникам», Лейпциг, 1827;
Ф. Хр. Баур, «Религиозная система манихеев», Тюбинген, 1831;
Ф. Э. Кольдит, «Возникновение манихейской религиозной системы», Лейпциг, 1831;
П. де Лагард, «Четыре книги Тита Бостренского против манихеев на сирийском», Берлин, 1859;
Флюгель, «Мани и его учение», Лейпциг, 1862;
Алексис Гейлер, «Система манихейства и её отношение к буддизму», Йена, 1875.
«Гносис – это первая всеобъемлющая попытка философии христианства; но эта попытка, перед лицом огромного размаха спекулятивных идей, которые гностикам гениально представлялись, но далеко превосходили их научные возможности, превращается в мистику, теософию, мифологию, короче говоря, в совершенно нефилософское изложение» (Липсиус в: «Encyclop. der Wissensch. und Künste», изд. Эршем и Грубером, I, 71, Лейпциг, 1860, S. 269).
Классификация форм гносиса должна (согласно Бауру, «Христианство первых трёх веков», S. 225, хотя и не во всех деталях следуя его методу) основываться на религиях, разнородные элементы которых определяют содержание гносиса.
Понятие γνῶσις вообще в смысле религиозного познания в отличие от простой веры значительно древнее, чем формирование гностических систем. Аллегорическое толкование священных писаний александрийски образованными иудеями по своей сути было гносисом, и гностики во многом опирались на александрийцев, особенно на Филона.
В Мф. XIII, 11 Христос, после того как говорил с народом притчами, даёт ученикам толкование, поскольку им была дарована способность, недоступная народу: γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν («познать тайны Царства Небесного»).
Павел (1 Кор. I, 4—5) благодарит Бога за то, что коринфяне преуспели ἐν παντὶ λόγῳ καὶ πάσῃ γνώσει («во всяком слове и всяком познании»), он называет (1 Кор. VIII, 1 и далее) рациональный взгляд на употребление идоложертвенного мяса γνῶσις, и различает (1 Кор. XII, 8) среди даров благодати λόγος σοφίας и λόγος γνώσεως от πίστις, где γνῶσις, как и в Послании к Евреям (V, 14) στερεὰ τροφή, по-видимому, относится особенно к аллегорическому толкованию Писания (ср. 1 Кор. X, 1—12; Гал. IV, 21—31).
В Откр. II, 24 говорится о познании глубин сатанинских, вероятно, в противовес тем, кто приписывал себе познание глубин Божества.
К первохристианскому понятию γνῶσις присоединились как иудео-христиане, например, авторы Климентин, так и языко-христиане, ортодоксальные и гетеродоксальные, в стремлении углубить христианское познание; особенно у александрийских церковных учителей большое значение придаётся различию между πίστις и γνῶσις.
Послание Варнавы хочет научить своих читателей с целью: ἵνα μετὰ τῆς πίστεως τελείαν ἔχητε καὶ τὴν γνῶσιν («чтобы вы наряду с верой имели и совершенное познание»), и эта γνῶσις есть понимание типического или аллегорического смысла Моисеева ритуального закона.
Но к аллегорическому толкованию новозаветных писаний первыми перешли те, кто (сознательно или бессознательно) пытался выйти за пределы их круга идей; это расширение принципа аллегорического толкования впервые встречается у еретических гностиков, особенно у валентиниан, а затем практикуется и церковно настроенными александрийцами и другими.
Среди различных сект, которые принято объединять под именем гностиков, особенно офиты (по Hippol. philos. V, 6 и Epiph. haeres. 26) или наасены, по-видимому, сами себя так называли (φάσκοντες μόνοι τὰ βάθη γινώσκειν – «утверждая, что только они познают глубины»).
Религиозно-философская мысль, что иудаизм – лишь предварительная ступень христианства, у Керинфа (Κήρινθος), жившего около 115 г. н. э. в Малой Азии, возможно, получившего образование в Александрии (по Hippol. philos. VII, 33: Αἰγυπτίων παιδείᾳ ἀσκηθείς – «воспитанный в египетской учёности»), облеклась в форму различения между почитаемым иудеями Богом, который создал мир и дал закон, подготовивший христианство, и высшим истинным Богом.
Последний ниспослал на Иисуса из Назарета, сына Иосифа и Марии, при крещении реальную божественную силу, называемую Христос. Этот Христос возвестил Его, истинного Бога, но покинул Иисуса перед его смертью и не участвовал в его страданиях, так как эти страдания были лишь несчастьем, но не имели искупительной силы (Iren. I, 26; Hippol. loc. cit.).
Приписываемое Епифанием (haeres. 28) Керинфу и его последователям частичное склонение к иудаизму (προσέχειν τῷ Ἰουδαϊσμῷ ἀπὸ μέρους) едва ли следует понимать как регрессивное иудействование с позиций уже более развитого церковного учения (хотя, конечно, в легко объяснимом недоразумении, ранние источники уже принимали это), но лишь как ещё не изжитый остаток первоначальной связи с иудаизмом при (что доказывается теософией Керинфа) весьма решительной тенденции к преодолению этой границы.
Направление Керинфа должно было определяться павловским учением о законе как преддверии христианства, παιδαγωγὸς εἰς Χριστόν, а также идеями, подобными записанным в Послании к Евреям; различие религиозных форм представлено (посредством выходящего за пределы филоновского замысла использования филоновского различения между Богом и Его миротворящей силой) как различие божественных существ.
Николаиты, упомянутые в Апокалипсисе Иоанна, которых Ириней (III, 11) называет предшественниками Керинфа, могли быть таковыми в той мере, в какой они, последовательно проводя паулинистский принцип отмены Закона верой, также не налагали на себя законов, действующих для «прозелитов врат», которые, согласно посредническому предложению, изложенному в Деяниях Апостолов, должны были соблюдаться и христианами из язычников.
Подобно тому как Апокалипсис борется с николаитами, так, согласно свидетельству Иринея (III, 11), Евангелие от Иоанна было направлено против лжеучения Керинфа. Это указание сохраняет свою истинность даже в том случае, если Евангелие было написано не во времена Керинфа, а, возможно, ещё до его появления – около 100 года н. э., и если оно обращено не против антииудаистских гностиков, а скорее против иудеев и иудействующих христиан. Истинность его заключается в том, что, изображая миротворение как дело Божьего Λόγος’а, оно противостоит разделению, защищаемому Керинфом (а впоследствии ещё более радикально проводимому другими гностиками), между творящим мир иудейским богом и высшим Богом, и делает это, несомненно, в духе апостола Иоанна.
Неясно, в какой степени правомерно приписывать начало еретической гносисы Симону Магу (упоминаемому также в Деян. 8:9—24), который выдавал себя за явление Бога, а сопровождавшую его Елену – за воплощение божественной ἔννοια (Юстин, Apol. I, 26 и 56; Ириней I, 23). Однако на него было перенесено многое, что относится отчасти к Павлу, отчасти к более поздним авторам, – и это неисторично. Существовала секта симониан (Ириней I, 23). Выдающимся учеником Симона считается Менандр из Самарии (Ириней I, 23), а под влиянием Менандра, по-видимому, находились Сатурнин из Антиохии и Василид (Ириней I, 24). Также Кердон, как говорят, был связан с Симоном и николаитами (Ириней I, 27; Философумены VII, 37).
Сатурнин из Антиохии, живший при Адриане, учил (согласно Иринею I, 24; Философумены VII, 28), что существует непостижимый Бог (θεὸς ἄγνωστος), Отец, который создал ангелов, архангелов, силы и власти. Царству этого Бога противостоит царство сатаны, владыки ὕλη. Через семь ангелов (ἄγγελοι κοσμοκράτορες), пожелавших основать самостоятельное царство, от ὕλη был оторван кусок, и так возник мир. Человек также является её творением, однако высшая сила, по образу которой он создан, дала ему искру жизни, которая после смерти возвращается к своему источнику, тогда как тело распадается на элементы. Отец нерождён, бестелесен и бесформен и лишь казался людям; бог же иудеев – один из низших ангелов, сотворивших мир. Христос пришёл, чтобы упразднить власть иудейского бога, спасти верующих и добрых и осудить злых и демонов. Христос, эон νοῦς, явился не в настоящем теле, а в призрачном, ибо не мог иметь ничего общего с чувственностью. Очищение от материи должно совершаться через гносису и аскезу, поэтому брак и деторождение – от сатаны. Пророчества отчасти вдохновлены ангелами-миротворцами, отчасти же сатаной, который действовал против этих ангелов и особенно против иудейского бога.
Кердон, сириец, который (по свидетельству Иринея I, 27, 1 и III, 4, 3) прибыл в Рим при епископе Гигине (преемнике Телесфора и предшественнике Пия), то есть около 140 года н. э., подобно Керинфу и Сатурнину, отличал Бога, возвещённого Моисеем и пророками, от Бога, Отца Иисуса Христа: первый познаваем, второй – непостижим; первый справедлив, второй – благ (Ириней I, 27; Ипполит, Философумены VII, 37).
Маркион из Понта, который (по Иринею III, 4, 3) учил в Риме после Кердона, во время епископа Аникета (преемника Пия и предшественника Сотера), то есть около 160 года (поскольку Аникет стал епископом не ранее 155 и не позднее 157 года и занимал кафедру 11—12 лет), но, возможно, и раньше – с 143—144 годов, после того как выступил в Синопе в 138 году и уже около 140 года был отлучён тамошним епископом (который был также его отцом), – в этическом отношении, как антиномист, представлял крайний паулинизм, а из Евангелий признавал только Евангелие от Луки в редакции, соответствующей его взглядам (о чём подробно пишет Фолькмар в своём сочинении «Евангелие Маркиона»). Когда же он погрузился в гностические спекуляции, то придал теоретическим фикциям, в которых его практическое отношение к иудейскому закону нашло фантастически-богословское выражение, наиболее резкую форму. Он не удовлетворился различием между творцом мира, которого почитали иудеи, и высшим Богом и подчинением первого второму, но объявил первого (сопоставляя некоторые места Ветхого Завета со своим христианским сознанием и отвергая аллегорическое толкование) справедливым (в смысле беспощадного исполнения закона), но не благим, поскольку он также является виновником злых дел, воинственным, непостоянным и противоречивым. В пятнадцатый год правления Тиберия Иисус был послан Отцом, высшим Богом, в человеческом образе в Иудею, чтобы упразднить закон, пророков и все дела Бога, который создал мир и управляет им (Κοσμοκράτωρ). К борьбе против миротворца относится и то, что мы воздерживаемся от брака (Климент Алекс., Строматы III, 3 и 4). К вечному блаженству может прийти только душа; земное же тело не может пережить смерть (Ириней I, 27; Ипполит, Философумены VII, 29).
Маркиониты, согласно Фихристу (у Флюгеля, Мани, Лейпциг, 1862, с. 159 и далее), считают свет и тьму вечными принципами и принимают третье, посредствующее существо – Иисуса, отличают миротворца от бога света и требуют аскетического поведения в борьбе со злом.
В прямом противоречии с этим антииудаистским направлением находится этический и религиозно-философский иудаизм Климентин (см. выше, §6) с его резкой критикой разделения между высшим Богом и творцом мира.
В различении высшего Бога, от которого происходит Христос, и Демиурга-законодателя Карпократ, Василид, Валентин и другие сходятся с упомянутыми выше гностиками, но проявляют значительно большее влияние эллинской спекуляции и отчасти прямо учитывают отношение язычества к христианству. Валентин, а ещё более Мани, соединили христианство с персидскими воззрениями.
Карпократ из Александрии, к числу последователей которого, среди прочих, принадлежала некая Маркеллина, прибывшая в Рим при Аникете (около 160 г.), а сам он, вероятно, учил уже около 130 г., представляет универсалистский рационализм. Его приверженцы хранили изображения тех, кого они особенно почитали, в частности, образы Иисуса, а также Павла, но также Гомера, Пифагора, Платона, Аристотеля и других.
В определении отношения христианства к иудаизму Карпократ в основном сходится с Керинфом и Кердоном, а наиболее близко – с Сатурнином, полагая, что мир и всё, что в нём есть, создано духами, которые произошли от нерождённого Отца, Монады, но далеко уступают Ему и восстали против Него.
С эвионитами Карпократ соглашался в том, что Иисус произошёл от Иосифа и Марии, но не так, как считали эвиониты – будто Он был совершенным иудеем, которому за абсолютно точное исполнение закона была дарована мессианская честь, – а скорее как совершенный человек. Карпократ учил, что Иисус именно потому и стал Спасителем, что, несмотря на иудейское воспитание, сумел презирать иудейскую сущность и отменил страдания, наложенные на людей в наказание; всякая душа, которая, подобно Иисусу, способна презирать господствующие над миром силы, получит такую же силу, как и Он.
Карпократ углубляет это воззрение догматами, заимствованными из платонизма. Души людей существовали ещё до того, как сошли в земные тела: они вместе с нерождённым Богом созерцали вечное за пределами небесного свода (очевидно, имеются в виду идеи, которые, согласно мифу в «Федре», пребывают вне неба). Чем сильнее и чище душа, тем больше она способна в земном существовании вспомнить увиденное тогда; тот же, кто способен на это, получает свыше силу (δύναμις), посредством которой обретает власть над миродержавными силами.
Эта сила проникает от места за небесным сводом, где пребывает Бог, сквозь планетные сферы и обитающие в них миродержавные силы и, свободная от их власти, стремится с любовью к душам, подобным ей самой, какой была душа Иисуса. Тот, кто прожил жизнь совершенно чистой и незапятнанной никаким проступком, после смерти восходит к Богу; все же прочие души должны для покаяния последовательно вселяться в разные тела, пока, наконец, не искупят достаточно и не спасутся все, чтобы жить в общении с Богом, Господом миротворящих ангелов.
Иисус установил для достойных и послушных тайное учение. Человек спасается через веру и любовь; всякое дело само по себе есть адиафорон (безразличное) и лишь по человеческому мнению – доброе или злое.
Карпократиане занимались не только умозрениями, но и имели весьма развитый культ, который их церковные противники называли магией (Ириней, I, 25; Ипполит, «Философумены», VII, 32, что позволяет исправить неточности латинского текста Иринея и ошибочные толкования, разделяемые многими новыми исследователями, у Епифания, «Панарион», 27; ср. Феодорит, «О ересях», I, 5).
Сын Карпократа, Епифаний, доводя принцип своего отца до крайности и, вероятно, находясь под влиянием «Государства» Платона, проповедовал анархический коммунизм (Климент, «Строматы», III, 2).
Наасены, или офиты, называвшие себя гностиками, учили, что начало совершенства – познание человека, а конец – познание Бога (ἀρχὴ τελειώσεως γνῶσις ἀνθρώπου, θεοῦ δὲ γνῶσις ἀπηρτισμένη τελείωσις, Ипполит, «Философумены», V, 6). Первый человек, Адам, по их мнению, был мужженским (ἀρσενόθηλυς) и соединял в себе духовное, душевное и материальное (τὸ νοερόν, τὸ ψυχικόν, τὸ χοϊκόν); всё это вновь сошло на Иисуса, сына Марии (Ипполит, «Философумены», V, 6). Чтя принцип предания, эти гностики возводили своё учение к Иакову, брату Господню (там же, гл. 7).
Более разработанная система, сходная с валентинианской, приписывается им Иринеем и Епифанием; вероятно, она принадлежит более поздним офитам.
Родственны офитам ператы, утверждавшие, что через познание могут преодолеть тленность (διελθεῖν καὶ περᾶσαι τὴν φθοράν, «Философумены», V, 16). Они различали три начала: нерождённое Благо, саморождённое и ставшее. В земной мир, место становления, сошли все силы из высших миров, и туда же снизошёл Христос-Спаситель из нерождённости – Сын, Логос, Змей, который есть посредник между неподвижным Отцом и движущейся материей. Змей при грехопадении (ὁ σοφὸς τῆς Εὔας λόγος), змей, воздвигнутый Моисеем, и Христос – тождественны («Философумены», V, 12 и далее).
Василид (Βασιλείδης), который, согласно Епифанию, происходил из Сирии, преподавал в Александрии примерно с 125 года н. э. Его учение, во многом напоминающее Филона, излагают главным образом Ириней (I, 24) и Ипполит («Философумена», VI, 20 и далее).
Согласно Иринею, Василид учил, что из нерожденного Отца, θεὸς ἄῤῥητος, ἀκατονόμαστος («Бога неизреченного, неименуемого»), сначала произошел Ум (Νοῦς), из Ума – Логос (Λόγος), из Логоса – Фронезис (Φρόνησις), из Фронезиса – София (Σοφία) и Динамис (Δύναμις), а из Динамис и Софии – δικαιοσύνη (справедливость) и εἰρήνη (мир). Эти сущности, как высшие из ангелов, вместе с Первоотцом образуют первую небесную сферу. Из них произошли другие ангелы, создавшие второй небесный мир – подобие первого. Из этих ангелов, в свою очередь, истекли новые, образовавшие третий небесный уровень, и так далее, пока в целом не возникло 365 небес (или небесных сфер) и ангельских чинов, во главе которых стоит правитель Абраксас (Ἀβραξᾶς) или Абрасакс (Ἀβρασάξ), чье имя заключает в себе число 365 (1 +2 +100 +1 +60 +1 +200 – по числовому значению греческих букв).
Низший небесный уровень видим нами, и ангелы, владеющие им, являются также творцами и правителями земного мира; их глава – Бог, почитаемый иудеями. Этому царству света противостоит хаос, ῥίζα τοῦ κακοῦ («корень зла»), далеко от него отстоящий, однако из высших областей туда проникли отдельные лучи, и возникшая смесь была использована владыкой последнего неба для создания земного мира с целью расширения собственной власти. Однако с возникновением чувственного мира начался процесс освобождения духа, заключенного в материи, и замыслы πρόνοια (промысла) приближаются к осуществлению.
Бог иудеев хотел подчинить все народы своему избранному народу, но против него восстали все прочие небесные силы, а прочие народы – против его народа. Тогда нерожденный Отец, движимый состраданием, послал своего первородного Ум (Νοῦς), который есть Христос, для освобождения верующих от власти мировых правителей. Этот Ум явился в человеческом облике, но не был распят сам – вместо себя он подставил Симона Киринеянина. Тот, кто верит в распятого, остается под властью мировых правителей; необходимо верить в вечный Ум, который лишь казался подверженным крестной смерти.
Бессмертны только души людей, тела же тленны. Жертвоприношения богам не оскверняют христианина. Тот, кто обладает знанием (γνῶσις), познает всех, но сам не познается другими. Знающих – единицы среди тысяч.
Согласно Ипполиту, василидиане возводили свою систему к тайным учениям Христа, переданным им через Матфея. Василид, по их словам, учил, что изначально вообще ничего не существовало. Из не-сущего сначала возникло семя мира, когда не-сущий Бог из не-сущего посредством Своей воли (которая не была волей в обычном смысле, а не через эманацию) вызвал Единство, содержащее в себе πανσπερμία (все-семя) (или, согласно Клименту Александрийскому, τάραχος καὶ σύγχυσις ἀρχική – «первичный хаос и смешение»).
В этом семени заключалась троичная сыновность (υἱότης): первая мгновенно вознеслась к не-сущему Богу, вторая, менее тонкая и чистая, была как бы окрылена первой, получив от нее Святого Духа, а третья, нуждавшаяся в очищении, осталась в массе πανσπερμία. Не-сущий Бог и две первые υἱότητες пребывают в надмирном пространстве, отделенном от мира твердой сферой (στερέωμα). Святой Дух, вознесшись со второй сыновностью в надмирное, вернулся в среду между надмирным и миром, став πνεῦμα μεθόριον (пограничным духом).
Внутри этого мира обитает великий правитель (ὁ μέγας ἄρχων), который не может подняться выше στερέωμα, считая его абсолютной границей и полагая, что он – высший Бог, и выше него ничего нет. Под ним находится законодательствующий Бог; каждый из них породил своего сына. Первый из этих ἄρχοντες обитает в эфирной сфере (Огдоада) и правил на земле от Адама до Моисея, второй – в подлунном мире (Гебдомада) и властвовал от Моисея до Христа.
Когда пришло Евангелие – познание надмирного (ἡ τῶν ὑπερκοσμίων γνῶσις), и сын мирового правителя через посредство Духа воспринял свет надмирной υἱότης, то правитель узнал о высшем Боге и устрашился. Но этот страх стал для него началом мудрости. Он раскаялся в своей гордыне, как и подчиненный ему Бог, и Евангелие было возвещено всем властям и силам 365 небес.
Свет, исходящий от надмирной сыновности, просветил также Иисуса. Третья υἱότης достигла необходимого очищения и вознеслась к месту пребывания блаженной сыновности, к не-сущему Богу. Когда всё заняло свое место, низшее погрузилось в ἄγνοια (неведение) о высшем, чтобы не испытывать томления.
Оба рассказа сходятся в основной мысли: Бог, почитаемый иудеями (как и боги язычников), обладает ограниченной сферой власти, а искупление, совершенное Христом, исходит от высшего Бога. Существенное различие – в описании посредствующих сущностей: у Иринея это Ум, Фронезис, София, Динамис и т. д., а у Ипполита – три υἱότητες.
Спорно, какой из отчетов отражает подлинное учение Василида, а какой – позднейших василидиан. Баур считает сообщение Ипполита более достоверным, предполагая, что тот, хотя в других местах менее осведомлен, чем его учитель Ириней, в данном случае имел лучшие источники. Напротив, Гильгенфельд (опираясь на свои и Липсиуса исследования) полагает, что «Философумены» Ипполита отражают позднюю, выродившуюся форму василидианства.
Аристотель, к учению которого Ипполит пытается возвести систему Василида, вероятно, повлиял лишь на астрономические представления; но верно замечание (Ипполит, «Философумена», I, 22), что учение о «окрылении» заимствовано у Платона.
Основное содержание системы возникло из сравнения христианства с дохристианскими религиями (что привело к сравнению божеств).
Этическую задачу человека сын и последователь Василида Исидор видел в устранении следов (προσαρτήματα) низших ступеней бытия, которые еще прилипают к нам.
Наиболее полной среди гностических систем является система Валентина, к которой также примыкали Гераклеон и Птолемей, Секунд и Марк, а также многие другие. Валентин жил и преподавал до приблизительно 140 года н. э. в Александрии, а затем в Риме, умер около 160 года на Кипре; Ириней свидетельствует (III, 4, 3, греческий текст у Евсевия, «Церковная история» IV, 11):
Οὐαλεντῖνος μὲν γὰρ ἦλθεν εἰς Ρώμην ἐπὶ υγίνου, ἤκμασε δὲ ἐπὶ Πίου καὶ παρέμεινεν ἕως Ανικήτου.
Он в большей степени, чем любой другой гностик, включил в свое учение элементы Платона.
Основными источниками наших знаний о валентинианской системе являются:
– сочинение Иринея против ложного гнозиса, направленное главным образом против учения Валентина и Птолемея,
– «Философумены» Ипполита (VI, 29 и далее),
– трактат Тертуллиана «Против валентиниан»,
– а также многочисленные упоминания и выдержки из источников у Климента Александрийского.
Во главе всего сущего валентиниане помещают единую, вневременную и внепространственную сущность – μονὰς ἀγέννητος, ἄφθαρτος, ἀκατάληπτος, ἀπερινόητος, γόνιμος (согласно Ипполиту, VI, 29). Они называют ее:
– Отцом (πατήρ, по Ипполиту, VI, 29),
– Праотцом (προπάτωρ, по Иринею, I, 1, 1),
– Бездной (βυθός, по Иринею, I, 1, 1),
– Неназываемым (ἄῤῥητος),
– совершенным Эоном (τέλειος αἰών).
Сам Валентин (по Иринею, I, 11, 1) и некоторые валентиниане сопоставляют с этим мужским началом женское – Σιγή (Молчание) или ἔννοια (Мысль). Другие же (по Ипполиту, VI, 29) не хотят соединять Отца всего с женским началом, но (по Иринею, I, 2, 4) считают Его превосходящим половые различия.
Из любви Праотец произвел потомство (Ипполит, «Философумены», VI, 29):
φιλέρημος γὰρ οὐκ ἦν. ἀγάπη γάρ, φησίν, ἦν ὅλος, ἡ δὲ ἀγάπη οὐκ ἔστιν ἀγάπη, ἐὰν μὴ ἢ τὸ ἀγαπώμενον.
Первыми порождениями высшего начала являются νοῦς (Ум) и ἀλήθεια (Истина), которые вместе с порождающим и рождающим началом – βυθός (Бездна) и σιγή (Молчание) – образуют Тетрактиду (πρώτην καὶ ἀρχέγονον Πυθαγορικὴν τετρακτύν), корень всех вещей (ῥίζα τῶν πάντων).
Νοῦς получил от них предикат μονογενής (Единородный), он был для них (по Иринею, I, 1) πατὴρ καὶ ἀρχὴ τῶν πάντων (Отец и начало всего).
Из νοῦς (и ἀλήθεια) происходят λόγος (Слово) и ζωή (Жизнь), а из них, в свою очередь, – ἄνθρωπος (первообраз божественной индивидуализации) и ἐκκλησία (первообраз божественной общности жизни). Все они вместе образуют ὀγδοάς (Огдоаду).
Еще десять Эонов происходят от λόγος и ζωή, а двенадцать – от ἄνθρωπος и ἐκκλησία. Младший из этих двенадцати Эонов, а значит, и младший из всех тридцати Эонов, – это София, женский Эон.
Совокупность всех этих Эонов составляет Плерому (πλήρωμα), царство божественной полноты жизни, которое делится на ὀγδοάς, δεκάς и δωδεκάς.
Тридцать лет Спаситель (σωτήρ, которому они не давали предиката κύριος) жил в сокрытии, чтобы обозначить тайну этих тридцати сокрытых Эонов.
Для поддержания порядка и границ в этом царстве был создан Эон ὅρος (Предел).
София, якобы из любви, но на самом деле из гордыни, возжелала приблизиться к непосредственной близости Праотца и постичь Его величие, как это сделал νοῦς (и только он). В этом стремлении она могла бы раствориться, если бы ὅρος не убедил ее с трудом, что высший Бог непознаваем (ἀκατάληπτος).
По мнению некоторых валентиниан, София, подобно высшему началу, захотела произвести нечто одна, без участия своего супруга, но не смогла сделать это истинно, и в результате возникло несовершенное существо – бесформенная сущность (οὐσία ἄμορφος), выкидыш (έκτρωμα), поскольку мужское, оформляющее начало не участвовало в этом.
София страдала от этого результата, обратилась с мольбой к Отцу, и Тот повелел ὅρος очистить и утешить ее, возвратив ей место в Плероме, после того как ее стремление (ἐνθύμησις) и страдание (πάθος) были отделены от нее.
По велению Отца νοῦς и ἀλήθεια извели Христа и Святого Духа. Христос придал произведению Софии форму и сущность, затем вернулся в Плерому и научил Эоны их отношению к Отцу, а Святой Дух научил их благодарности и привел к покою и блаженству.
В качестве благодарственной жертвы Эоны, каждый внося свое лучшее, с согласия Христа и Святого Духа, создали великолепное образование – Иисуса, Спасителя, которого они принесли в дар Отцу. Он также называется Христом и Логосом по имени Отца. Это – общий плод Плеромы (κοινὸς τοῦ πληρώματος καρπός), великий Первосвященник.
Плерома послала Его, чтобы спасти ἐνθύμησις (помысел) высшей Софии, которая, оказавшись вне Плеромы, скиталась в виде низшей Софии, именуемой Ахамот (от евр. חָכְמָה, «мудрость»), и избавить ее от страданий, которые она испытывала в поисках Христа. Ее πάθη (страдания) были:
– страх (φόβος),
– печаль (λύπη),
– нужда (ἀπορία),
– мольба (δέησις или ἱκετεία).
Иисус отделил эти πάθη от нее и превратил их в самостоятельные сущности, ставшие основами видимого мира:
– страх – в психическое влечение,
– печаль – в гилическое (материальное),
– нужду – в демоническое,
– мольбу – в обращение, покаяние и восстановление психической сущности.
Область, в которой пребывает Ахамот, – это низшая Огдоада, отделенная от области Эонов ὅρος τοῦ πληρώματος (Пределом Плеромы) и крестом (σταυρός).
Ниже Огдоады находится Гебдомада – область психического, где пребывает демиург (δημιουργός), считающий себя высшим Богом и создавший из материальной субстанции тела для душ.
Материальный человек (ὁ ὑλικὸς ἄνθρωπος) является обиталищем:
– либо только души,
– либо души и демонов,
– либо души и разумных сил (λόγοι), которые были рассеяны в этом мире Иисусом (общим произведением Плеромы) и Софией и вселяются в душу, если в ней не обитают демоны.
Все человечество делится на:
– гиликов (материальных),
– психиков (душевных),
– пневматиков (духовных).
Язычники в большинстве своем – гилики, иудеи – преимущественно психики, и лишь избранные духи среди тех и других – пневматики, которые либо заранее возвещали истину, либо сразу приняли ее, когда она была явлена через Иисуса.
Свободные от рабства любому внешнему закону, они сами себе закон. Причастные Духу, они возвышаются над верой к гнозису, который достаточен для их спасения, так что им не нужны дела.
Закон и пророки происходят от Демиурга. Но когда пришло время открытия тайн Плеромы, родился Иисус, сын Девы Марии, созданный не только Демиургом (как дети Адама), но и низшей Софией (Ахамот), или Святым Духом, давшим Ему духовную сущность, так что Он стал небесным Логосом, порожденным Огдоадой через Марию.
Итальянская школа валентиниан (особенно Птолемей, широко использовавший Евангелия, в том числе и четвертое, которое он, как видно из его письма к Флоре у Епифания, «Панарион», XXXIII, также приписывал апостолу Иоанну, и толковавший его в основном аллегорически) и Гераклеон (ок. 175 г. составивший комментарий на Евангелие от Луки, а ок. 195 г. – на Евангелие от Иоанна; первый комментарий упоминает Климент Александрийский, а из второго приводит выдержки Ориген) учили, что тело Иисуса было психическим, а Дух сошел на Него при крещении.
Восточная школа (особенно Аксионик и Ардесиан, возможно, Бардесан) учила, что тело Иисуса было пневматическим, наделенным Духом уже с момента зачатия и рождения.
Подобно тому как Христос, изведенный νοῦς и ἀλήθεια, был восстановителем и спасителем внутри мира Эонов, а Иисус, созданный Плеромой, – в Огдоаде у Ахамот, так Иисус, сын Марии, стал Искупителем для этого земного мира.
Искупленные через Него становятся причастными Духу; они познают тайны Плеромы, и для них больше не действует закон, данный Демиургом.
Полнейшее блаженство связано с гнозисом; лишь ограниченного блаженства удостаиваются психики, остающиеся при простой вере (πίστις). Им, кроме веры, нужны дела для спасения, тогда как гностик спасается без дел как пневматик.
Злоупотребление этим учением для оправдания безнравственности, особенно половой распущенности, особенно характерно для Марка и его учеников, у которых спекуляция все более погружалась в нелепости и абсурд (Ириней, I, 13 и далее).
На учении Валентина о заблуждении, страдании и искуплении Софии основывается также содержание книги «Пистис София», в которой подробно развивается роман о страданиях этой Софии и приводятся её покаянные и плачевные песни.
Бардесан (сын Дейсана, то есть рождённый у реки Дейсан в Месопотамии), родившийся около 153 года н. э. и умерший вскоре после 224 года, упростил гностицизм, приблизив его к более понятным формам, уже более близким к церковному учению. Однако и он всё ещё ставит рядом с Отцом жизни женское божество для объяснения творения. То, что зло возникает не по природному побуждению и не по необходимости, как того хотят астрологи, а проистекает из свободы воли, которую Бог даровал человеку вместе с ангелами как высшую привилегию, доказывает Филипп, ученик Бардесана, в опубликованном Кюретоном в его «Spicilegium Syriacum» (Лондон, 1855) диалоге «О судьбе» (περὶ εἱμαρμένης, «Книга законов стран») – ясно и убедительно. Как тело обитает душой, так и душа обитается духом.
Религия, выдвинутая персом Мани (который, согласно наиболее вероятному предположению, родился в 214 году н. э., впервые публично выступил со своим учением в 238 году и после почти сорокалетней деятельности пал жертвой ненависти персидских жрецов), представляла собой фантастическую смесь гностико-христианских и зороастрийских представлений. Почти исключительно философский интерес вызывает её дуалистический принцип – изначальное существование злого первоначала наряду с добрым, а также связанная с этим аскетическая форма этики. Также и в человеке присутствуют две души: телесная душа, происходящая от злого начала, и световая душа, ведущая своё начало от доброго. Они повторяют борьбу, происходящую между космическими началами. На совершенных, которые уже здесь должны быть свободны от всякой материи, было наложено тройное печать совершенства: signaculum oris – воздержание от всякой животной пищи и нечистой речи, signaculum manuum – отказ от всякой собственности и любой работы, и signaculum sinus – отречение от брака и половых отношений. Августин, который некоторое время был приверженцем манихейства, позже в нескольких своих сочинениях выступил против него, и эти труды являются главным источником наших знаний о манихейском учении.
В противоположность аристократическому сепаратизму гностиков, с одной стороны, и ограниченной односторонности иудействующих христиан – с другой, формировалась католическая церковь, ведя полемику, но в то же время вдохновляясь на новое творчество; её твёрдую догматическую середину обозначает правило веры (regula fidei), постепенно развившееся из более простых основ, данных в крещальном исповедании.