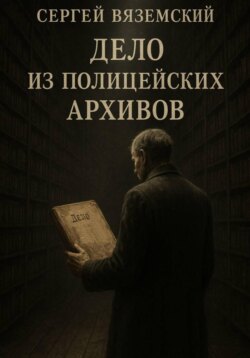Читать книгу Дело из полицейских архивов - - Страница 3
Шепот Третьего отделения
ОглавлениеУтро встретило меня не рассветом, а лишь сменой оттенков серого за окном. В Петербурге заря не приходит, она просачивается, как вода сквозь худую крышу, неохотно и холодно. Я не спал, но и не бодрствовал, проведя ночь в том странном, липком оцепенении, когда сознание работает с лихорадочной ясностью, а тело остается неподвижным, словно парализованным. Конторская книга с первой, единственной записью, лежала на столе, и ее чистые страницы казались мне укором, требованием заполнить их, дать имена вырезанным теням.
Папка жгла руки, даже сквозь толстую оберточную бумагу, в которую я ее завернул. Нести ее по улице в таком виде было все равно что нести бомбу с зажженным фитилем. Каждый взгляд встречного, казалось, проникал под мой сюртук, видел очертания запретного дела. Я направился не к архиву, а на Васильевский остров, туда, где прямые, как армейский строй, линии улиц пытались навести порядок в хаосе болотной топи. Там, в тихом доходном доме, доживал свой век Петр Захарович Стасов, бывший главный архивариус Департамента, мой давний приятель и, в некотором роде, мой предшественник в этом добровольном склепе. Но, в отличие от меня, он ушел на покой по выслуге лет, а не по причине душевного надлома, и сохранил ту ясность ума и обширность памяти, которые для архивариуса ценнее любого ордена. Если кто и мог пролить свет на административные призраки прошлого, так это он.
Его квартира на третьем этаже встретила меня запахом, который я всегда с ним ассоциировал: смесь ромашкового отвара, которым он лечил свою вечную одышку, старых книг и теплого воска от натирания паркета. Сам Петр Захарович, маленький, высохший старичок в стеганом халате и с ермолкой на лысой голове, сидел в глубоком вольтеровском кресле у окна. Его лицо, похожее на печеное яблоко, сморщилось в улыбке при моем появлении.
– Алексей Глебович! Какими судьбами? Решил-таки променять пыль казенную на мою, домашнюю? Проходи, садись. Аннушка, голубушка, нам бы чаю! – прошамкал он, указывая дрожащей, покрытой коричневыми пятнами рукой на стул напротив.
Мы обменялись ритуальными фразами о здоровье, о погоде, о новом государе и туманных перспективах, которые его воцарение сулило. Я пил горячий, пахнущий луговыми травами чай и чувствовал, как сверток под мышкой становится все тяжелее. Я знал, что должен выждать, дать старику выговориться, но терпение мое истончилось за бессонную ночь.
– Петр Захарович, я к вам по делу, – сказал я наконец, когда его словоохотливость начала иссякать. – По архивному делу.
Он с любопытством посмотрел на меня поверх очков.
– Что, нашел-таки дело о короне скифских царей? Или записки душеприказчика мадам Помпадур? Твой Дмитрий мне все уши прожужжал, говорит, ты там порядок наводишь, какой и при мне не бывал.
– Порядок наводить – занятие для тех, кто верит, что он возможен, – ответил я. – Я нашел другое. Странное.
Я медленно развернул оберточную бумагу и положил серую картонную папку на маленький столик между нами, рядом с чашками и блюдцем с сухарями. Я положил ее надписью вверх. Петр Захарович наклонился, близоруко сощурился, вчитываясь в выцветшие чернила. И я увидел, как это произошло.
Это было не то резкое изменение, какое случается при испуге или внезапной боли. Это было медленное, страшное угасание. Словно кто-то невидимый приложил к его лицу промокательную бумагу, и она впитала в себя все краски жизни. Серые щеки стали пепельными, губы, только что растянутые в улыбке, превратились в тонкую бескровную линию. Он откинулся на спинку кресла, и его дыхание, и без того неровное, стало прерывистым, со слабым свистом. Рука, тянувшаяся было к папке, замерла в воздухе и бессильно упала на подлокотник. Он смотрел на картонную обложку так, как смотрят на голову Медузы Горгоны, боясь и пошевелиться, чтобы не окаменеть окончательно.
– Откуда… – прошептал он, и голоса его я почти не услышал. – Откуда ты это взял?
– С антресолей над канцелярией. Дмитрий привез с прочим хламом. На ней приказ об уничтожении. Но ее спрятали.
Он закрыл глаза. Его пальцы нервно сжимали и разжимали потертый бархат подлокотника.
– Уничтожить… – повторил он, как эхо. – Да. Сжечь. И пепел развеять над Невой в безлунную ночь. Так было бы правильно. Так было бы… безопаснее.
– Что это, Петр Захарович? – спросил я в упор, не давая ему уйти в себя. – Вы знаете это дело?
Он медленно покачал головой, не открывая глаз.
– Это дело я не знаю. И слава Богу. Я знаю этот почерк, – его палец едва заметно дрогнул, указывая на красную резолюцию. – Я знаю этот метод. Это не полицейская работа, Алексей. Это работа могильщиков.
Он наконец открыл глаза, и в них я увидел нечто большее, чем просто страх. Там был ужас воспоминаний, тот застарелый, глубоко въевшийся в душу страх, который не проходит с годами, а лишь глубже пускает корни.
– Ты служил уже при покойном государе Александре Николаевиче, ты человек новой формации, – заговорил он тихо, будто боясь, что нас могут подслушать даже здесь, в его маленькой, заставленной книгами келье. – Ты не застал того времени. Времени Николая Павловича. Ты не знаешь, что такое настоящее… государство в государстве. Ты читал в бумагах о Третьем отделении Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Читал, как о чем-то давно минувшем, как о египетских пирамидах. А я… я его видел. Я его чувствовал. Оно было не на бумаге, Алексей. Оно было в воздухе, которым мы дышали.
Он сделал паузу, чтобы перевести дух. Я молчал, давая ему говорить.
– Это была не просто тайная полиция. Охранка по сравнению с ними – щенки-переростки, шумные и глупые. Те были другими. Они были невидимы. У них не было ни мундиров, ни официальных зданий, которые можно было бы показать пальцем. Они были повсюду и нигде. Их агенты могли сидеть с тобой в трактире, могли быть твоим соседом, могли быть даже твоим начальником. Они не подчинялись ни министру, ни Сенату. Только одному человеку в этой Империи. И их власть была абсолютной. Они могли взять любого – князя, купца, генерала – и он просто исчезал. Растворялся. И не было ни дела, ни протокола. Была лишь пустота на его месте. И тишина. Страшная, всеобщая тишина тех, кто знал, но боялся спросить.
Я вспомнил вырезанные из протоколов имена. Пустота. Тишина.
– Но это дело все-таки завели, – заметил я. – Значит, им занималась обычная полиция.
Петр Захарович горько усмехнулся.
– Занималась. До поры до времени. У них была практика, о которой не писали в циркулярах. «Параллельное следствие». Когда какое-нибудь происшествие затрагивало интересы… особых людей или государственной тайны, они начинали свое, негласное дознание. А официальное следствие продолжалось, как ни в чем не бывало. Полицейские следователи, такие же честные служаки, как ты, собирали улики, допрашивали свидетелей, писали отчеты. А потом, в один прекрасный день, к ним в кабинет являлся тихий господин в штатском, показывал маленький синий жетон и вежливо просил передать ему все материалы. И все. Дело переставало существовать. Его вычеркивали из всех книг. А если оно было слишком громким, чтобы просто исчезнуть, его «закрывали». Фабриковали удобную версию, подчищали документы, запугивали свидетелей. Как здесь. – Он кивнул на папку. – Это их почерк. Вырезать имена скальпелем. Внести путаницу в даты. Оставить от живой истории лишь выпотрошенную оболочку, бессмысленную и безопасную. А потом – приказ «уничтожить». Чтобы даже эта оболочка не смущала ничей покой.
Я взял медальон, который достал из кармана, и положил его на стол.
– Они оставили это.
Петр Захарович посмотрел на портрет, и в его глазах промелькнула жалость.
– Значит, кто-то из тех, кто исполнял приказ, не был до конца мразью. Или был сентиментален. Иногда даже у палачей просыпается что-то вроде совести. Он не сжег дело, а спрятал. Глупец. Или святой. Он надеялся, что когда-нибудь… когда-нибудь все изменится. Но он не учел одного, Алексей. Отделение упразднили. Бенкендорфа и Дубельта давно черви съели. Но люди… люди остались. Их методы остались. Их тайны остались. Они, как раковая опухоль, которую вырезали, но метастазы расползлись по всему организму. Они сидят в министерствах, в гвардейских полках, в Государственном совете. Они постарели, обзавелись новыми чинами и титулами, но они помнят. И они не позволят никому копаться в их старых могилах. Потому что в этих могилах похоронены не только их жертвы, но и их собственная молодость, их карьера, их власть, построенная на костях и молчании.
Он наклонился ко мне через столик. Его дыхание пахло ромашкой и страхом.
– Брось это, Алексей. Слышишь меня? Я тебя не как бывшего начальника прошу, я тебя как друга умоляю. Сожги эту папку. Сделай то, что должны были сделать тридцать пять лет назад. Ты отставной чиновник, одинокий старик. У тебя нет ни власти, ни защиты. Они тебя не заметят. Они тебя просто раздавят, как таракана, и пойдут дальше, не сменив шага. Ты борешься не с преступником. Ты пытаешься вызвать на дуэль призрак. Но у этого призрака вполне материальные дети и внуки. И они очень не любят, когда тревожат покой их отцов.
В комнате повисла тишина, нарушаемая лишь натужным тиканьем старых часов-ходиков на стене. Я смотрел на испуганное, умоляющее лицо моего старого друга. Он был прав. Каждое его слово было правдой – трезвой, холодной, неоспоримой. Я прекрасно понимал, во что ввязываюсь. Это было не расследование, это было самоубийство, растянутое во времени. Исход был предрешен. Система, перемоловшая мою собственную жизнь, была все так же сильна и безжалостна.
И все же… Предупреждение Петра Захаровича произвело обратный эффект. Его страх стал для меня подтверждением. Если дело, которому тридцать пять лет, все еще способно обратить в пепел лицо старого архивариуса, значит, его заряд не иссяк. Значит, тайна, которую оно хранит, до сих пор жива и опасна. А раз она опасна, значит, она чего-то стоит.
Его слова о «параллельном следствии» и «подчистке» не отпугнули меня. Напротив, они дали мне то, чего не хватало – структуру, логику безумия. Теперь я видел не просто хаотичный набор улик, а осмысленную, целенаправленную работу. И это разжигало во мне азарт, тот самый профессиональный азарт, который я считал в себе давно умершим. Передо мной была задача, головоломка, собранная гениальным и злобным умом. И я не мог устоять перед искушением попробовать ее разобрать.
– Ты думаешь, я ищу справедливости, Петр? – тихо спросил я, собирая бумаги и пряча медальон. – Я уже слишком стар для этой сказки. Справедливость – это товар для барышень из Смольного института. Я ищу другое. Я ищу ответ. Они оставили следы. Они были небрежны. И это меня оскорбляет как профессионала.
Петр Захарович откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза рукой.
– Твое упрямство тебя погубит, Глебов. Оно всегда было твоей главной добродетелью и твоим главным проклятием.
– Возможно, – согласился я, заворачивая папку обратно в бумагу. – Но это единственное, что у меня осталось.
Я поднялся, чтобы уйти.
– Спасибо за чай, Петр Захарович. И за совет. Я его обдумаю.
Это была ложь, и мы оба это знали.
Он не встал, чтобы меня проводить. Лишь когда я был уже в дверях, он окликнул меня.
– Алексей…
Я обернулся.
– Если тебе понадобится… найти какую-нибудь старую бумагу… без официального запроса… Ты знаешь, что у меня остались кое-какие ключи. И кое-какие должники. Только будь осторожен. Ради всего святого, будь осторожен.
Я кивнул и вышел, плотно притворив за собой дверь. На лестничной клетке я остановился, прислонившись спиной к холодной, выкрашенной охрой стене. Ноги слегка дрожали. Предупреждение друга, его явный, неподдельный ужас подействовали на меня сильнее, чем я хотел показать. Шепот Третьего отделения донесся до меня сквозь толщу лет и стал оглушительным. Я отчетливо понял, что перешел невидимую черту. До этого визита это была лишь моя частная прихоть, игра ума старого сыщика. Теперь это стало реальностью. У угрозы появилось имя.
Спустившись на улицу, я зашагал по прямой, как стрела, линии проспекта. Ветер с залива пронизывал до костей. Город больше не казался мне просто местом преступления. Он стал полем боя. Незримого, безмолвного боя, где противник не носит мундира и не объявляет войны. Он просто наблюдает из-за угла, из окна проезжающей кареты, из-за газетного листа в руках господина на соседней скамейке. Паранойя? Возможно. Но в нашей профессии паранойя – это не болезнь, а необходимое условие выживания.
Я крепче сжал под мышкой свой опасный груз. Слова Петра Захаровича не остановили меня. Они лишь дали мне первое правило для моего расследования: не доверять никому. Не верить ни одному официальному документу. Искать правду не в том, что написано, а в том, что вырезано, выжжено и похоронено. Искать ее в тишине и в пустоте. Там, где когда-то поработали могильщики из Третьего отделения. Мой путь лежал не вперед, в будущее, а назад, в прошлое. И я знал, что эта дорога будет усеяна не цветами, а призраками. И я был готов встретиться с ними.