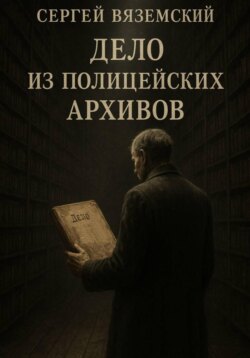Читать книгу Дело из полицейских архивов - - Страница 6
Наследники князя Орбелиани
ОглавлениеИмя Орбелиани не было ключом, отпирающим двери. Оно было стеной. Гладкой, гранитной, уходящей в свинцовые петербургские облака, без единой щели или уступа, за который можно было бы зацепиться. Нанести визит действительному тайному советнику, члену Государственного совета, было для отставного титулярного советника задачей столь же выполнимой, как для мыши попросить аудиенции у кота. Прямой путь был заказан. Он вел в приемную какого-нибудь мелкого секретаря, где мое прошение, написанное на дешевой бумаге, сгинуло бы, не достигнув даже передней.
Нужен был обходной маневр, тропа, известная лишь старым служакам, знающим все ходы и выходы в запутанном лабиринте имперской бюрократии. Эта тропа вела в Департамент Герольдии, где в пыльных кабинетах вершились судьбы дворянских родов, составлялись гербовники и велись родословные книги. Там, среди кип бумаг, досиживал свой век в чине коллежского асессора некто Аполлинарий Маркович Вырубов, человек, чью карьеру я когда-то спас от неминуемого краха, вытащив его имя из одного весьма грязного дела о растрате. Он был мне обязан, и долг этот, невысказанный, но ощутимый, лежал между нами уже два десятка лет.
Я нашел его в маленькой, заваленной фолиантами каморке. Аполлинарий Маркович, с его жидкими, прилизанными волосенками и вечно испуганными глазами, кажется, ничуть не изменился. Он вспотел, едва завидев меня, словно само мое появление воскресило в его памяти призрак былого позора. Я не стал ходить вокруг да около. Я изложил свою просьбу сухо и по-деловому: мне нужно передать личное и конфиденциальное письмо князю Николаю Андреевичу Орбелиани. Не по почте. Не через секретаря. А так, чтобы оно легло ему на стол.
Вырубов слушал, бледнея и обмахиваясь платком. Имя Орбелиани произвело на него то же действие, что и вид синего жандармского жетона на его деда-часовщика. Это был генетический, въевшийся в кровь страх маленького человека перед сильными мира сего. Он лепетал что-то о невозможности, о риске, о том, что князь человек суровый и не терпит беспокойства по пустякам. Я молча смотрел на него. Я ничего не напоминал. Я не угрожал. Я просто ждал. И мой взгляд был тяжелее любых угроз. Наконец он сдался. Скрипнув зубами, он пообещал, что попробует через кузена своей жены, служащего в канцелярии Государственного совета. Это будет стоить ему бутылки хорошего коньяку и, возможно, нескольких бессонных ночей, но он сделает это.
Письмо я составил дома, за своим письменным столом, потратив на него не меньше часа. Каждое слово было взвешено, каждая фраза отточена до холодного блеска. Я представился отставным чиновником сыскной полиции, занимающимся на досуге историческими изысканиями, и упомянул, что при разборе старых архивных дел наткнулся на несколько документов, касающихся одного малоизвестного эпизода из жизни его покойного родителя, князя Андрея Игнатьевича. Я добавил, что один из найденных артефактов, имеющий, несомненно, фамильную ценность, я хотел бы передать ему лично, как законному наследнику. Ни одного намека. Ни одного прямого обвинения. Лишь сухая, почтительная формальность, под которой, как тончайший слой льда над омутом, скрывалась угроза. Я запечатал письмо в плотный конверт из дорогой бумаги, купленной по такому случаю, и на следующий день передал его дрожащему от страха Вырубову.
Ответ пришел через три дня. Это была визитная карточка, доставленная нарочным. Плотный бристольский картон, строгий шрифт без вензелей. «Князь Николай Орбелиани». На обороте каллиграфическим почерком было выведено: «Буду ожидать Вас в среду, в три часа пополудни. Английская набережная, 22».
В назначенный день я надел свой лучший, хотя и вышедший из моды сюртук, тщательно вычистил сапоги и отправился в самое сердце Империи. Путь от моей Гороховой до Английской набережной был не просто перемещением в пространстве. Это был переход через невидимую социальную границу. Чем ближе я подходил к Неве, тем шире становились улицы, выше и величественнее дома. Исчезали мелкие лавки и трактиры, уступая место посольствам и дворцам. Воздух становился чище и холоднее, в нем уже не было запахов угля и щей, а пахло речной водой, дорогим табаком и конским потом породистых лошадей. Здесь даже цокот копыт по брусчатке звучал иначе – неторопливо, властно, уверенно.
Особняк Орбелиани под номером 22 был не просто домом. Он был утверждением. Серый гранит фасада, строгие линии, лишенные всяких архитектурных излишеств, окна, похожие на бойницы, и массивные дубовые двери, окованные темной бронзой. Он не пытался понравиться, он подавлял. Он стоял на берегу Невы, как утес, о который веками разбивались волны времени, интриг и человеческих судеб, оставаясь незыблемым.
Меня встретил швейцар в ливрее, похожий на отставного гвардейского унтер-офицера, высокий и прямой, как аршин. Он принял мою карточку без единого слова, смерив меня взглядом, в котором читалось все – и мое скромное платье, и мое незначительное звание, и мое дерзкое вторжение в этот мир. Он провел меня в вестибюль, где царил холод мрамора и полумрак. Воздух здесь был неподвижен и выстужен, как в склепе. Тишина имела плотность и вес, и мои шаги по каменным плитам отдавались неуместным, вульгарным эхом. Другой слуга, бесшумный, как тень, принял у меня пальто и шляпу и жестом пригласил следовать за ним.
Мы поднимались по широкой парадной лестнице, покрытой темно-красным ковром, который полностью поглощал звук шагов. Стены вдоль лестницы были увешаны портретами. Десятки глаз смотрели на меня из потемневших от времени рам. Мужчины в горностаевых мантиях, в сверкающих кирасах, в строгих сенаторских мундирах. Женщины с высокими прическами, в жемчугах и бриллиантах. Их лица, написанные лучшими художниками своего времени, были похожи одно на другое в своей аристократической надменности, в своей уверенности в праве владеть и повелевать. Это были не просто предки. Это были стражи. Они безмолвно судили каждого, кто осмеливался подняться по этой лестнице, и в их застывших взглядах я читал свой приговор. Я чувствовал себя разночинцем Раскольниковым, идущим на допрос к Порфирию Петровичу, только мой Порфирий был коллективным, родовым, и состоял из десятков поколений тех, кто привык стоять над законом.
Меня провели в комнату, служившую, по-видимому, приемной или малой гостиной, и оставили одного. Слуга закрыл за собой дверь так бесшумно, что я даже не услышал щелчка замка. Комната была обставлена с тяжелой, давящей роскошью. Мебель из черного дерева, инкрустированная слоновой костью, массивный письменный стол, увенчанный бронзовой композицией, изображающей битву лапифов с кентаврами, тяжелые бархатные портьеры на окнах, почти не пропускающие скудный дневной свет. И снова портреты. Здесь висел лишь один, но он занимал всю стену над камином, который, несмотря на промозглую погоду, не был растоплен. С полотна на меня смотрел князь Андрей Игнатьевич Орбелиани, тот самый. Герой, меценат, убийца. Художник запечатлел его в расцвете сил, в мундире генерал-адъютанта. Властное, красивое лицо, орлиный нос, пронзительные, глубоко посаженные глаза. И в этих глазах, написанных гениальной кистью, не было ничего, кроме холодной, как сталь, воли. Он смотрел не на меня, он смотрел сквозь меня, сквозь время, на что-то, видимое лишь ему одному – на поле боя, на парадный плац, на карту Империи. Я стоял перед ним, маленький, сутулый старик, и физически ощущал пропасть, разделявшую наши миры.
Я не сел. Я стоял посреди комнаты, чувствуя, как ее холод проникает в самые кости. Это была часть ритуала. Меня заставили ждать, чтобы я успел проникнуться величием этого дома, осознать свою ничтожность, чтобы мой первоначальный запал угас, сменившись робостью и сомнением. Я знал эти приемы. Они были стары, как мир. Но знание не спасало. Атмосфера этого дома действовала на нервы, как медленно капающая на темя вода. Тишина звенела в ушах. Часы на каминной полке не шли. Время здесь остановилось, подчиняясь воле хозяев.
Дверь в стене, замаскированная под книжный шкаф, открылась без скрипа, и в комнату вошел князь Николай Орбелиани. Он был точной, хотя и постаревшей копией своего отца с портрета. Те же статные плечи, та же седина на висках, тот же пронзительный взгляд холодных голубых глаз. Но если в отце чувствовалась хищная сила воина, то сын был воплощением холодной мощи государственного мужа. Его лицо было непроницаемой маской, отточенной десятилетиями придворных интриг и заседаний в высоких кабинетах. Он был одет в безупречно скроенный домашний сюртук из темного сукна. Ни единой лишней складки. Ни единого лишнего движения.
– Господин Глебов? – его голос, ровный, лишенный всякой окраски, идеально соответствовал его внешности. – Прошу прощения, что заставил вас ждать. Неотложные государственные дела.
Это была ложь. Он не был занят. Он наблюдал за мной откуда-то, из-за потайной двери, из-за зеркала, давая мне «промариноваться» в этой атмосфере.
– Ваше сиятельство, – я слегка поклонился, не выказывая ни подобострастия, ни излишней фамильярности.
– Прошу, присаживайтесь, – он указал на одно из жестких, неудобных кресел, а сам остался стоять, возвышаясь надо мной. Еще один прием. Я сел на краешек стула, положив руки на колени.
– Итак, – начал он, сцепив пальцы за спиной. – В своем письме вы упомянули некие исторические изыскания и артефакт, касающийся моего покойного батюшки. Я вас слушаю. У меня не так много времени.
Я медлил, собираясь с мыслями. Прямая атака была бы самоубийством. Нужно было действовать, как сапер, щупом проверяя каждый сантиметр почвы.
– Как я и писал, ваше сиятельство, на досуге я привожу в порядок некоторые дела в архиве Департамента полиции. Работа, скажу вам, скучная, но иногда наталкиваешься на любопытные документы, проливающие свет на быт и нравы ушедшей эпохи. Недавно мне в руки попала папка, датированная тысяча восемьсот пятьдесят девятым годом. Весьма невнятное дело об исчезновении некоего студента. Оно было прекращено за отсутствием улик. Само по себе оно не представляло бы интереса, если бы не одна деталь.
Я сделал паузу. Князь смотрел на меня не мигая. Его лицо не выражало ничего. Абсолютно ничего. С таким же выражением он, вероятно, выслушивал доклады министров или просматривал смертные приговоры.
– В деле упоминается, вскользь, имя одной известной в то время особы, пользовавшейся покровительством вашего родителя. Артистки Александринского театра Елены Волынской.
При имени Волынской в его глазах ничего не дрогнуло. Ни единый мускул не шевельнулся на его лице. Словно я назвал имя египетской царицы, умершей три тысячи лет назад.
– Волынская? – переспросил он тоном человека, пытающегося припомнить что-то совершенно незначительное. – Да, припоминаю. Батюшка, как известно, был большим ценителем театра. Он покровительствовал многим молодым дарованиям. Вероятно, и эта… госпожа была в их числе. Какое это имеет отношение к делу?
– Прямого – никакого, – солгал я. – Просто любопытное совпадение. Но самое интересное, ваше сиятельство, это то, что я нашел внутри этой папки. Предмет, который, очевидно, не имеет к полицейскому дознанию никакого отношения и попал туда по ошибке. Я счел своим долгом вернуть его законным наследникам.
С этими словами я медленно полез во внутренний карман сюртука. Я чувствовал его взгляд на своих руках, тяжелый и внимательный. Я достал серебряный медальон, завернутый в носовой платок. Развернул его и, встав, положил на полированную поверхность стола между нами. Я не открывал его. Я просто положил его там, тусклый овал старого серебра с выгравированными литерами «Е» и «В».
Князь опустил глаза. На одно краткое, почти неуловимое мгновение его маска дала трещину. Это было нечто на уровне мельчайших физических реакций, заметных лишь наметанному глазу сыщика. Его зрачки едва заметно сузились. Уголок его тонких губ дернулся в спазме, который он тут же подавил. Его пальцы, до этого спокойно сцепленные за спиной, сжались в кулаки так, что побелели костяшки. Это длилось не более секунды. А потом он снова стал непроницаемым.
Он не притронулся к медальону. Он смотрел на него так, как смотрят на ядовитую змею, внезапно оказавшуюся на паркете.
– Любопытная безделушка, – произнес он своим ровным, бесцветным голосом. – Но я не вижу на ней герба нашего рода. Боюсь, вы ошиблись адресом, господин Глебов. Эта вещь не имеет к нашей семье никакого отношения.
– Возможно, – сказал я, не отступая. – Но если ваше сиятельство позволит…
Я шагнул к столу и, взяв медальон, нажал на застежку. Раздался тихий щелчок, прозвучавший в мертвой тишине комнаты, как выстрел. Я поставил раскрытый медальон на стол, повернув его портретом к князю.
Теперь он не мог не смотреть. Лицо Елены Волынской, ее красота, ее мольба в глазах – все это лежало перед ним на черной полированной поверхности стола. Он молчал. Молчание длилось, казалось, целую вечность. Он смотрел на миниатюру, и я видел, как в холодной глубине его глаз идет какая-то титаническая внутренняя работа. Он не вспоминал. Он хоронил. Он затаптывал, утрамбовывал глубоко внутри себя призрака, которого я так неосторожно выпустил на волю. На его лбу выступила крошечная капелька пота, которую он тут же смахнул машинальным, отточенным движением.
– Красивое лицо, – сказал он наконец. В его голосе появились новые нотки. Не металл, а лед. – Лицо женщины, принесшей много бед. Такие лица губят не только себя, но и тех, кто имел несчастье поддаться их чарам. Мой отец был человеком увлекающимся. Иногда его увлечения заводили его слишком далеко. Но он всегда умел… исправлять свои ошибки. И он не любил, когда посторонние проявляют нездоровое любопытство к его личным делам.
Он поднял на меня глаза. И я понял, что вежливая игра окончена. В его взгляде больше не было ничего, кроме холодной, смертельной угрозы.
– Вы, господин Глебов, служили в полиции. Вы должны понимать, что такое порядок. Порядок в государстве держится не только на законах, но и на вещах, которые остаются невысказанными. На тайнах, которые хранят определенные семьи. Потому что эти семьи и есть государство. Их честь – это честь Империи. Их стабильность – это стабильность трона. Покушаясь на одно, вы расшатываете другое.
Он сделал шаг ко мне. Я невольно отступил.
– Вы отставной чиновник. Одинокий человек. У вас много свободного времени. Я это понимаю. Но я бы настоятельно советовал вам найти себе более безопасное хобби. Нумизматику, например. Или разведение фиалок. Прошлое – это болото, Алексей Глебович. Не стоит бросать в него камни. Круги могут разойтись слишком широко и захлестнуть не только того, кто бросил камень, но и совершенно посторонних людей, которые вам дороги.
Он намекал на Дмитрия? На Петра Захаровича? Откуда он мог знать? Или это была лишь общая угроза, рассчитанная на то, чтобы нащупать мои слабые места?
– Я всего лишь историк-любитель, ваше сиятельство, – пробормотал я, чувствуя, как во рту пересохло.
– Вот именно. Любитель, – подхватил он с ледяной усмешкой. – А копаться в истории нашего рода – это занятие для профессионалов. И эти профессионалы состоят у меня на службе. И не только у меня. У государства длинная память и очень много верных слуг. Они не любят, когда кто-то пытается переписать страницы, которые давно вырваны и сожжены.
Он подошел к столу, взял медальон двумя пальцами, как нечто нечистое, и захлопнул его. Затем он протянул его мне.
– Заберите вашу находку. И мой вам совет, как человеку, желающему вам добра. Выбросьте ее в Неву. Или переплавьте. И забудьте. Забудьте это дело, эту женщину, этот разговор. Считайте, что его не было.
Я молча взял медальон. Холодный металл обжег пальцы.
– Поймите меня правильно, – продолжал он уже почти дружелюбным, но оттого еще более страшным тоном. – Я не угрожаю. Я предостерегаю. Есть старые могилы, которые не стоит тревожить. Не потому, что в них лежат преступники. А потому, что над ними возведены прекрасные, величественные здания. И если начать подкапываться под фундамент, может рухнуть весь дом. А под его обломками погибнут и правые, и виноватые. Вам это нужно?
Я молчал. Сказать было нечего. Все было сказано. Я получил то, за чем пришел. Не признание. А подтверждение. Его страх, его ярость, тщательно скрытые под маской аристократического самообладания, были красноречивее любых слов. Я нашел нерв. И ударил по нему. И теперь система, которую он олицетворял, готовилась нанести ответный удар.
– Я вас понял, ваше сиятельство, – сказал я, пряча медальон.
– Я рад, – кивнул он. – Рад, что мы поняли друг друга. Дверь там. Швейцар вас проводит.
Он отвернулся от меня и подошел к портрету своего отца, встав к нему спиной. Он давал понять, что аудиенция окончена, что я перестал для него существовать. Я поклонился его прямой, непреклонной спине и вышел из комнаты, чувствуя на затылке ледяной взгляд двух князей Орбелиани – живого и мертвого.
Обратный путь по гулкой лестнице, мимо безмолвных судей в золоченых рамах, показался мне бесконечным. Я шел, как во сне, оглушенный и опустошенный. В вестибюле мне молча подали пальто и шляпу. Тяжелая дубовая дверь за мной закрылась с глухим, окончательным стуком, отрезая меня от этого мира холода и теней.
Я вышел на набережную и вдохнул полной грудью сырой, промозглый воздух. Он показался мне сладким и живительным после мертвой атмосферы особняка. Нева несла свои темные, свинцовые воды к заливу. Ветер трепал полы моего сюртука. Я стоял, прислонившись к гранитному парапету, и смотрел на воду.
Угроза была реальной. Она не была плодом моего воображения. Она была высказана ясно и недвусмысленно. Орбелиани не шутил. Он был из тех, кто никогда не шутит. Он был наследником не только титула и состояния, но и той безжалостной воли, что смотрела на меня с портрета. Он будет защищать честь своего рода, честь своего отца, до конца. Любыми средствами. И против него я был пылинкой, песчинкой, которую можно стереть с рукава и не заметить.
Я сжал в кармане холодный медальон. Я мог последовать его совету. Выбросить его в эту черную, равнодушную воду. Вернуться в свой архив, в свою тихую заводь, и доживать свой век в мире и безопасности. Так поступил бы любой разумный человек.
Но когда я смотрел на мутные воды Невы, я видел не только их. Я видел отражение своего собственного прошлого. Я вспоминал унижение, бессилие, отчаяние, когда другая, такая же безжалостная сила сломала мою жизнь и я не смог ничего сделать. Я отступил тогда. Я сдался. И тринадцать лет жил с этим пеплом в душе. И вот мне был дан второй шанс. Не на победу. Нет, в победу я не верил. А на то, чтобы не отступить. Чтобы встретить удар, даже если он будет последним.
Князь сказал, что некоторым могилам лучше оставаться безымянными. Возможно, он был прав с точки зрения государственной мудрости. Но с точки зрения простого человеческого упрямства, с точки зрения старого сыщика, который верит не в справедливость, а в факты, каждая могила должна иметь имя. И каждый убийца тоже.
Я отвернулся от реки и медленно пошел прочь от Английской набережной, обратно, в свой мир темных дворов и узких улиц. Я шел, и с каждым шагом во мне крепла холодная, безрадостная решимость. Князь думал, что он меня напугал. Он ошибся. Он лишь зажег во мне тот самый огонь, который сам же и пытался потушить. Война была объявлена. И я, безоружный солдат, принял вызов.