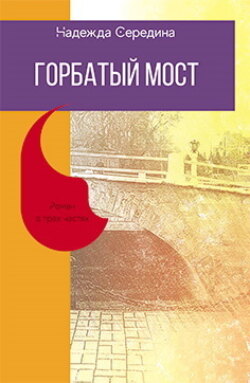Читать книгу Горбатый мост - - Страница 4
Часть первая
3. В глубинке
ОглавлениеГоворят, что параллельные пересекаются, если очень далеко устремиться в будущее. Там, за горизонтом Млечного пути, время, место и действие обретают свободу. Какую? А кто ж её знает, свободу, стремящуюся к Абсолюту?
Евдокия стала бабушкой в начале восьмидесятых, дочка подарила ей внучку Олю. Прошло почти полвека с того октября, когда Евдокия стояла на Горбатом мосту, гуляла по Соборной площади Москвы, удивляясь величественности храмов. Архитектура так действовала на неё, что она замирала, глядя на золотые купола и колокольню, похожую на огромную свечу.
Евдокия привезла в деревню дочку-учительницу и тринадцатилетнюю внучку Олю. В городе жизнь у них не задалась, надо спасать. Она была санитаркой в военном эшелоне в войну. Одноклассники Евдокии сразу после школы шли на войну, Отечественную. И пережив военное время, трудностей в мирной жизни она не боялась. Жить можно, живут же миллионы. Она давно сменила имя и фамилию и много лет не была в Москве. Жизнь сильно изменила её, она стала мужественнее, курила, как мужчина, могла матюгнуться на безобразника, защищая свою зону комфорта. Вышла замуж беременной за Михаила, внушала ему, что это его дочь, да и сама этому почти верила.
В деревне, на природе, им было свободнее, а значит, комфортнее, чем в бетонном мешке города.
Евдокия, увидев около дома Михаила, обрадовалась, но виду не подала. Привыкла радость скрывать, словно кто-то унести может.
Михаил вышел за калитку встречать. Знал, что жена его, Евдокия, вернется из города с дочкой и внучкой. Он по-своему любил её, по-стариковски, тихо и верно. В молодости много пережил он страстей, и когда встретил эту женщину, думал, всё – тихая пристань. А она оказалась беременной. Сам он примирился, а родня его взбунтовалась: не наша кровь. Уехал с ней в большой город. Девочка росла разумной, трудолюбивой. И белокурой. Сам же Михаил чёрный, как смоль, с горбинкой нос и самые большие уши в деревне, за что прозвали его «слоном».
Вот и гости. Михаил, увидел перед собой Марию, белокурую, голубоглазую, и с ней такую же белобрысенькую девочку-подростка, засуетился. Они так похожи на Евдокию. Он понимал, что Марии не хотелось мешать матери в её кое-как налаженной жизни, не разрушать их дома. И Оля рассказывала, что бабуля с дедулей если и ругаются-бранятся, то когда мама среди них. И рассказала, что когда маме было 17 лет, то Михаил в порыве гнева сказал ей, что он не отец ей. И что мама говорила о каком-то дипломате, о Московских кривых улочках, о «Марии Стюарт» и «Незнакомке». И из журнала «Огонёк» висела над её кроватью эта «Незнакомка». Иногда ей казалось, что это её портрет написал Крамской.
Вкусив чаю с мёдом, Мария и Оля пошли в школу. Ей нужна работа, а девочка будет ходить в 7-й класс. Матери, как учительнице, обещали квартиру рядом со школой. И ей хотелось скорее определиться, где она будет жить: с матерью и отчимом или отдельно с дочкой.
Михаил, чувствуя волнение и какую-то робость, точнее сомнение, подошел к своей жене и по-молодому приобнял её.
– Дуня! – не видит он запыленных морщин в её лице, а видит глаза голубые, родные. Несмотря на трудности, она не потеряла вкус к жизни. – Дуня, посмотри, кто там…
Михаил стоял около трубы, пустой и давно ненужной, торчащей как пень. Дотронулся до верхнего края и улыбнулся трогательно, нерешительно и глуповато.
– Посмотри.
– Где?
– В трубе! – сказал муж.
Евдокия нагнулась, прикрыв один глаз, словно собралась смотреть в бинокль.
– Ах! – отскочила. Из трубы рванулось шипение и шум. – Змея?! – испуганно уставилась на него, но, видя, что он смеется, мстительно прошипела. – Ты ш-ш-што?
– Ты что, Дуня?! – дед не ожидал такого шипения. – Какая змея? Ты чего там, в городе, совсем закружилась? – муж смирился, не спорил, она на пятнадцать лет моложе, он только улыбался. – Смотри, она сейчас вылетит.
– Кто?
– Птичка.
– Какая птичка?
– С птенчиками. Вот, смотри… – старик провел рукой над трубой, шипение, взмахи крыльев о трубу повторились. – Птичка гнездо там устроила. Птенчики будут…
– Надо их вынуть.
– Зачем? Ни кошка, ни коршун их там не достанут.
– А с пчелой что? – Евдокия, наконец, пришла в себя и поспешила осмотреть ульи, за пчёл она тоже переживала не меньше мужа.
Он поплёлся за ней: что-то без хозяйки да без горячего борща он совсем ослаб:
– Старая пчела далеко от своего жилища не летает.
Евдокия не обращала внимания на ворчание мужа, она смотрела, как возвращаются тяжелые пчелы с желтыми корзиночками на ножках.
– Отдыхай, а мы тут по ульям посмотрим, прополис подсоберём, ещё рано к зиме заклеиваться.
Михаил пошёл на пасеку, там будет ждать юного пчеловода-помощника.
Через час пришёл Колюшка. Парень с интересом изучал пчёл, не боялся укусов, обладал невероятной врождённой выдержкой.
Колюшка радостный, подвижный, стремительный. С дедом пошли в сарай, там сетка от пчел, пустые ульи, старые рамки, сушь с темными кремовыми сотами оттого, что пчелы их как бы затаптывают, пачкают пыльцой и полируют прополисом.
Они важно, торжественно, благоговейно обошли пасеку, как алтарь природы, посмотрели, как работают у летка пчелы, нет ли воровства, нет ли признаков роения. Потом дед выбрал улей, который надо осмотреть. Колюшка сам снял крышку, дед был уже слаб, а парню было приятно чувствовать, что дед без него не может. Пчеловод неторопливо отвернул темный коврик, покрытый прополисом, как пластилином. Улей загудел от удара прямых лучей солнечного света. Вот этот момент особенно возбуждает, когда с гудением поднимается пчелиный дух и окутывает головокружительным ароматом. Дед вынул рамку. Пчёлы, как жидкое золото, каплями перетекают по сотам.
– Главное, найти матку, и если матка есть – улей будет жить.
– Вот она, вот!
– Матка пчелиная, матушка, светлее и крупнее рабочих пчел, с длинным брюшком. Брюшко у нее, видишь, длинное, полное, яйцевидной формы, наполовину прикрыто крыльями.
Через пару часов пчеловодов Евдокия позвала на чай с мёдом. Вернулись Оля с Марией.
Марии нравился этот паренёк, она вспоминала свою первую любовь. Потом вышла замуж не за того. И всё пошло не так, как обещала первая любовь. Вспомнила, как они с дочкой после развода жили в рабочей слободке. И там она была невольной свидетельницей начала оранжевой революции, как ей тогда казалось. Но протест подавили, тихо, как пчёл в ослабевшем больном улье.
* * *
Небо полно звёзд, как улей пчёл. Ночь. Фонарь, похожий на луну. В окне небо угловатое, квадратное, как у Малевича. Как в ту маленькую «революцию», в которой победил народ. Хоть ненадолго, как в Париже в 18 веке. Но был уже исход 20 века. СССР – самое большое государство по площади. Со своим ядерным потенциалом, со своим защитным зонтом.
Мария не могла уснуть всю ночь. Вся жизнь проходила перед ней, как большой прожитый, но ещё не написанный роман. Много углов сменила женщина, в людях пожила. Ей нужно было всё выстроить, обдумать и принять решение. Посоветоваться было не с кем, а жить здесь невероятно сложно. Она вспомнила отчетливо, ясно полнолуние августа того мрачного для неё года, словно там была скрыта разгадка сегодняшнего дня. Всё вспомнилось ясно, до деталей, будто это произошло не годы назад, а дни.
Мария вошла в кабинет, и директор сразу понял: не работник – проситель перед ним.
– Что? – директор кинул взгляд на заранее приготовленный лист бумаги в её руке.
– У меня ребенок маленький. Я работаю. Детский садик нужен.
Дальше он не слушал. Смотрел. Перед ним стояла женщина моложе его лет на пятнадцать, миловидная, застенчивая. А это, хочет он того или нет, не лишено своеобразной заманчивости. Он встал. Прошелся по кабинету от стола к окну. Коренастый, с крепкой красной шеей, обтянутой петлей серого галстука. Смотрел в окно, сжимал замком пальцы на спине.
Она в ожидании молчала. А в окне – поля. Чистое, словно после дождя, солнце и от чистоты своей высокое и яркое. Повернулся, подошел к молоденькой просительнице.
– Я всё понял! – улыбнулся, положил тяжелую кисть на её плечо, другой взял заявление. – Придёте завтра, – прошелестел бумагой. – Лучше послезавтра. Потолкуем.
– Послезавтра? В воскресенье?
– А вы что работаете и в воскресенье?
– Нет.
Она протянула руку к заявлению, он разжал пальцы.
– Ты хочешь устроить своего ребенка?
– Да.
– Что «да»? А муж где работает?
– Я разведена, воспитываю ребенка одна. И без детсада… – начала объяснять и запнулась.
– Понятно! – его возбуждало в её голосе эдакая нотка горделивой жалости – вызова одинокой женщины. – Где работала?
– В школе, в центре.
Он отошел к окну, будто угадывая кого-то за стеклом, молчал. Медленно повернулся.
– А если заведующей? В садике человека ещё не утверждали. Пойдешь?
– Я?
– И ребенка возьму! Ну, подумай до воскресенья, – и, не глядя на неё, пошёл к двери.
Мария вышла красная, как из парилки. «Что делать? – думала она. – Человек хочет помочь. Но почему так?»
Мария зашла в магазин, как она говорила дочке «за молоком». Запас денег кончался. У кого занимать?
– Замуж выйти – не напасть, как бы замужем не пропасть! – судачили у магазина бабы.
Она вслушивалась, выстаивая долгое время в тесной очереди.
– Я развод обмывала шампанским! – смеялась заразительно Тоська, утирая нос сыну. – Прямо после суда взяла бутылку – и к девкам. Шампанское пили!
– Ты-то вольная – в квартиру вселилась.
– А мне директор и говорит: «Веди мужика, тогда возьму и квартиру дам». Работники ему нужны? Тяпать! И садик не дает…
– Садик-то один, а нас вон сколько. Через год своих, совхозных, девать некуда будет!
– Куда уж там! Каждое заявление подписывает сам!
– Правильно! Хозяин!
– Удумал, чтоб и отец, и мать у него в поле работали! А ушел – ребёнка из садика бери: «Наш садик! Вам сразу: и садик, и квартиры!»
– Как мы жили… Тяпка тяжела, как соха, и от зари до зари пашешь… – ворчливо шептала пенсионерка. – Разбежались с села-то, и мужики за вами в город рвутся…
Жили там, где было жильё. Вот они и ехали, ехали, прослышав про скорое жилье. Мужиков везли и квартиры получали. Свадьбы перемешались с разводами: не то, чтобы семьи распадались, а движение началось, обмен. Глядишь, от одной муж ушёл – у другой нашёлся; сегодня с одной расписался, через год с другой туда же идёт. В загсе – не в церкви, записывают не на всю жизнь, на время. А дети, как огурцы на грядке.
Мария слушала, думала и решила в воскресенье к директору не ходить.
* * *
В понедельник опять Мария пришла в контору. Тут стояли желтые «Икарусы». Веселые, точно туристы, городские рабочие в джинсах да кроссовках прохаживались возле автобусов. Трактор протарахтел, слившись с бодрыми утренними голосами. Мария поднялась на второй этаж, остановилась у двери директора, открыла и прошептала: «Быть или не быть?» Здоровенный мужик с загорелым лицом и такой же румяной лысиной подхватил её в дверях и, слегка стиснув, пробасил: «Ишь, смелая, против течения идёт! Куда? Против мужика не ходи…» Она, молча, отбросила его руку и очутилась в кабинете. Села у стола.
– Алексеевна, задержись… – остановил директор парторга, направившегося к выходу.
Высокая, плотная, с мужскими сильными плечами, парторг подошла к столу:
– Остаться?
– Посиди, – показал на стул рядом с Марией. Дождавшись, пока все выйдут, начал: – Вот, садик пришла просить… Что будем делать?
– У меня заявление… – протянула Мария бумагу. – На комиссии райисполкома мне объяснили, что вы обязаны выделить место в садике.
– Причем тут комиссия? – читала заявление парторг. – Это наш садик! Для рабочих. К 85 году мы должны укомплектовать совхоз рабочими! А где их взять?
– Напишите тогда, что отказываете…
– Я уже принял решение: или идёте работать в совхоз, или…
– Или? – вспылив, перебила Мария. – Почему вы заставляете меня ходить, просить, ждать, намекаете на что-то?! Я – учитель!
– Ну и что, что «педахох»? – заменила парторг звонкую «г» хриплой «х» «Педахох! У нас вон и инженера, и художники, и писатели с тяпками ходят… Жить негде, вот и тяпают! Директор – не дойная корова: плана не даст – его никто не погладит по шапке!»
– По голове, – поправила учительница.
– Что?! – поднялась Алексеевна.
– Выражение такое, – начала объяснять и запнулась, видя, как переглянулись директор с парторгом.
– Всё! Вопрос решён! – Алексеевна уперлась мясистыми пальцами в полировку стола, придавив заявление. Потом рванула бумагу. Лист пикнул, раздвоился, на какой-то миг замер, словно в недоумении, и, нервно прошелестев, стал разлетаться мелкими клочками.
Маша ощутила себя маленькой, беспомощной, как девочка младших классов. Перед глазами крутились, летели бумажные снежинки, будто затевалась метель, и откуда-то эхом докатывалось: «Всё! Всех заставлю тяпать!». Стыло, каменело в груди: «А как же с работой?» Шаг. Второй… Она старалась не наступать на разорванные строчки своего неровного почерка.
* * *
Через неделю Мария вспоминала порванное заявление и искала работу в школе с жильём. Ей добродушно отказывали, словно из рекламы: «Учителя как люди. Только квартирный вопрос их испортил». Вечером Мария возвращалась из города с дочкой. Девочку укачало в дороге, и она еле шла. Пятиэтажки в полях стояли серо, нелепо, диковато. Вдоль дороги к домам тянулись длинноногие тонкие тополя.
У конторы запыленные, уставшие рабочие столпились вокруг грузовой машины.
– Что здесь? – подошла Мария с дочкой.
– Танцы! Оставайся! – хохотнула Тоська. – Может и нам дадут потанцевать… Пригласите, пригласите танцевать!
Мария остановилась, прислушалась к разговорам. «Да где же она была-то?» Задавали вокруг вопросы и тут же отвечали: «Где ж? У матери, в селе. В отпуске». «Да узнала-то как?» «Как?» – отзывались эхом. «Слухом земля полнится. Телеграмму кто-то из баб отбил» – И уточняли: «Верка, подружка её дала. Сама, небось, и отбила, на почте теперь свой телеграф завели». «Смотри, директора не боится…», – донёсся осторожный осмотрительный голос и оборвался, заглушенный напористым, дерзким возгласом: «А чего ей бояться?! Не в совхозной живет квартире – в доме своём! А работы везде хватит. Вон, город рядом… Местные-то не ишачат в поле!» И опять потонули в вопросах. «Да как же выселяют? У неё двое ребятишек?» «Как? – отозвался голос-эхо. – Закон в их руках! А закон у нас как дышло, куда повернёшь – туда и вышло». И голос стихал, ударяясь о другую волну слов: «Директор же говорил, мол, с поля уйдёте – выселю… Говорил?!» «Власти и законы не нужны – они сами себе закон! Хоть маленькая у него, а все-таки власть».
Молодая учительница увидела в кабине грузовика почтальоншу, на руках у неё сынишка трех лет. Броская цыганская красота этой женщины возбудила не зависть, а удивление… Тяжелая почтальонская сумка не перекосила её плечи… Слухи ходили об этой женщине разные: и любовницей директора была, и что мужики её все бросают, не уживаются, и прохода ей не дают. Почтальонка сидела в машине грузовика и, казалось, ничего не слышала и не видела вокруг.
В кузове всё навалом: полированный шкаф упирается в спинку кабины, прижимая узлы; ножки стульев тупо торчат над бортом…
– Вот тебе, бабушка, и Юрьев день… – донесся сухой стершийся голос.
Мария оглянулась. Старая женщина напомнила ей мать: голубые усталые глаза в ободке морщин, светлые волосы из-под платка в синий горошек, тонкие струночки губ, изъеденные старостью.
– Бабушка, бабушка! – подбежал мальчик. – А что здесь будет?
– «…И покрыла ея нищета, как Красное море фараона…».
– А куда тётя хочет ехать?
– «…И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь…».
– Я тоже хочу покататься. Бабушка, посади меня к ней.
– Нельзя! – сгустила сердито морщинки. – Что ты всё бежишь и бежишь, как быстрота речная!
– Хочу прокатиться!
– Вон, видишь, полицай, а ну, беги домой!
С другой стороны конторы стояла серая, крытая брезентом машина – «козёл». Рядом три блюстителя порядка в форме и двое штатских. И юрист совхозный. Участковый подошел к машине с вещами, дернул дверцу:
– Выходи! Хватит фокусы показывать! Вон людей сколько собрала!
Почтальонша обернулась, сынишка беспокойно завозился у неё на руках. Мать, молча, будто не замечая участкового, посадила сына так, чтобы он не видел злого лица.
– Я заставлю тебя подчиниться! Поедешь с нами! – лихо хлопнул дверцей, будто стегнул кнутом. – Петька, крути баранку.
Петька был шофером директора, он приехал в совхоз по весне, летом уже управлял директорской «Волгой», а к зиме целился вселиться в квартиру.
– «Поехали!» Как сказал Юрий Гагарин. В городе разберутся, – прикрикнул участковый.
Петька схватился за металлическую ручку дверцы, оперся о ступеньку подножки, но кто-то хлестнул его по руке и сбил с ног. Участкового оттеснили своими плечами и спинами, давили, толкали без побоев, без крови, как в старые времена на деревенских кулачных боях в праздники. Грузовик плотно окружили. Ближе подтягивались те, кто стоял сзади. Толпа забурлила. Волнение охватило и Марию, словно это она была в кабине машины, с ребёнком на руках, а вещи её, весь нехитрый домашний скарб здесь, в кузове. Куда повезут? На вокзал и в Магадан?
Мария смотрела, как медленно отходил блюститель порядка, как размахивали руками вокруг грузовика, как, сутулясь, прикрыв лицо локтем, уходил Петька, и чувствовала, как в ней поднимается что-то далекое, смутное. Она крепче сжала ручонку дочки и пошла домой. Но память уже открылась, и она всматривалась в своё детство.
* * *
В светлом уголке памяти живёт наше детство и обнаруживает себя в минуты сильных волнений радостных или печальных.
Машу и старшую сестру в интернате звали «тепличные». Вход в теплицу был через пристройку. Воспитанники интерната брали здесь тяпки, грабли, лопаты, ведра, веники на уроках общественно-полезного труда и называли пристройку «тепличкой».
Однажды в субботу мать взяла сестер из интерната, подвела по узкой, вытоптанной в снегу тропке к теплице, сняла замок. Они зашли. Остановились в темноте. Щёлкнул выключатель. И вместо пыльной кладовки сестры увидели две кровати, узкие, с металлическими грядушками, как в интернатовских спальнях. Старый футляр ручной машинки. «Сверчок» называли её сестры и, когда слышали её стрекотание, вспоминали маленький дом из железнодорожных шпал на Сибирском полустанке. Дом под высоким раскидистым тополем, разбросавшим корни свои по всему огороду и палисаднику был всему голова. Дом, где за теплой печкой дозревали в валенках помидоры, и зимовали весёлые, не унывающие, настоящие сверчки.
Сестры ещё стояли на пороге помещения без окна, а мать уже накладывала толстых, на дрожжах, блинов и наливала холодный компот из трехлитровой банки. Блины были вкусные, а компот из интернатовской столовой.
«Козямозя» – уборщица принесла ещё компот в трёхлитровой стеклянной банке. Маленькая сухонькая старушонка достает подталые леденцы из кармана черного халата, который она носила и на работе, и дома. Леденцы пахнут «Беломорканалом». Дышит она с астматическим присвистом. Вдруг звонкие удары камней по крыше, глухие по стенам: мальчишки играют в войну. Козямозя выходит, кричит в темноту, сгущая голос до мужского хрипловатого баса, ругается грубо, но не злобно. Кашляет, тяжело хрипит в удушливом приступе. Мать дает ей лекарство, наливает в граненый стаканчик воду.
– Дуня, а покрепче у тебя есть?
– Брось. Это вредно. И дети тут. Не надо.
– Зиму в тепле, в тепличке. Живы, и войны нет. Слава Богу за всё. И дети твои с тобой. Не отдавай никому. Вон какие славненькие. Вырастут – помогать будут. Слава Богу за все.
В тёплые дни открывали дверь в большую солнечную теплицу с запылёнными и кое-где разбитыми стёклами: тогда дверь служила окном. Но в самой теплице ничего не росло, земля в ящиках была сухая, словно умерла.
Март, апрель, май – весна ликовала, торжествовала природа. Природа не зависит от перестроек, революций и войн. Природа сама себя возрождает.
В мае мать перебралась в новое жилище. Одноэтажный аварийный дом привлек внимание Евдокии зияющей чернотой пустых окон. Вставив стекла, она побелила комнату, отремонтировала печь. На чердаке под сверкающими, точно звёздочки, дырочками в шифере расставила корыто, тазы, кастрюли, баночки… Когда дождь барабанил по шиферу, сестры сидели на чердаке и выливали воду из баночек прямо на макушку сирени. А ночной ливень барабанил по обшарпанному полу. Сразу после уроков они теперь уходили из интерната, готовили уроки дома, слушали стрекотание машинки, которую мать расположила в центре комнатки. Теперь они с сестрой – на зависть всем интернатовским сиротам – ночевали дома. «Тепличные домой пошли…», – докладывали завистливыми голосами воспитанники воспитателю. И на лето сестры в один голос отказались ехать в пионерские лагеря: заводили своего «сверчка» – шили яркие платьица.
Тугие набухшие гроздья сирени, казалось, вот-вот брызнут ярким душистым цветом под окном, не зря выливали на них воду из тазов и вёдер на чердаке.
Но вдруг к дому подошли мужики в рабочих ветровках.
– Кто они? – Маша смотрела на старшую сестру.
Их было пятеро, они остановились у двери дома. Высокий оглянулся на них не как на людей, а как на дворовых щенят или бездомных, выброшенных котят, в глазах его не возникло боренья с помыслами, только бесовской пламень сверкнул ярче. Он толкнул дверь ногой, точно заходил в сарай.
– Почему? – схватилась девочка за руку старшей сестры. – Кто это? Почему он пришёл в наш дом?!
Страшно горбились спины мужиков. Засучены по локоть рукава, засалены обвислые рабочие брюки. Вчетвером выносили, как гроб, скрипучий старый диван. И всё выходили, выходили, выходили, выходили. Только высокий, праздничный человек оставался там, в доме.
– Надо позвать маму! – рванулась маленькая худенькая девочка Маша.
– Молчи! – отдернула руку старшая сестра. – Она знает…
Куча скарба росла. И вдруг грохот! То ли обвалилась ветхая крыша, то ли раскатились кирпичи от какого-то толчка. Это «сверчок»! Их домашний «сверчок»… Фанерная крышка старого футляра треснула, вывернулась ручка. Звук оборвался и замер. В напряженной тишине крутилось отлетевшее маленькое колесо, которое так весело крутилось, когда сёстры шили себе летние платьица.
– Фашисты! – смотрела на них Маша и шептала, подходя к «сверчку». – Фашисты. Уходите! – кричала и била их по спинам маленькими бессильными кулачками.
– Молчи! – оттаскивала её сестра. – Молчи, видишь, у него лицо без глаз, двойные стёкла. Это – аварийка! Нам отсюда уходить надо, только некуда.
Мать вернулась, когда мужики ушли.
А через неделю Марию везли на электричке за город. Там был детдом.
– Почему нам квартиру долго не дадут, если я буду записана в твоем паспорте? – под стук колёс спрашивала у матери дочка.
– Маша, мне нужна такая справка, чтобы директор мог дать комнатку.
Справка позволяла директору пойти женщине навстречу и дать комнатку в 9 метров в коммуналке, не обходя закон. Закон был строг – матерям-одиночкам полагалось 5 рублей в месяц на ребёнка, а жилья не полагалось. Директор получал в 50 раз больше. А на троих нужно не 9 метров, а 27. Всё дело в квадратах.
У директора в кабинете был телевизор. В Алма-Ате после Чиликского землетрясения 30 ноября русские строят город-сад, говорил диктор, демонстрируя чёрно-белые картинки бедствия. Заново город для казахов строили в 67 году такой, что Европе на зависть.
Время было такое в русской глубинке, за МКАД – жилья не хватало женщинам с детьми. По двадцать лет стояли на государственной очереди, чтобы получить бесплатное жилье. А купить не на что: все одинаково бедные. То было по-своему крепостное право – приписка к заводу, к фабрике – и хочет человек – не хочет, а семье жить где-то надо, и он смирял себя, работал. Кто больше перетерпит, тот и достигнет чего-нибудь. Справка решала всё. Вот посмотрит какой-нибудь директор или парторг в справку и уже не усомнится, а сразу начнёт решать, что с этой справкой делать, чтобы, когда придут проверяющие парторга из райкома партии, не могли заметить ничего незаконного. Всё по закону, по долгу, по справке. Как это без справки, что это за мать-одиночка без документа? Но директор завода был человек пожилой, участник войны, практик, он с людьми работал, а не по кабинетам сидел, много видел разных матерей. И когда увидел женщину с ребёнком, то посоветовал – возьми справку, что ты одна, без детей. Как? Отдай в детдом. Справку дают матерям, у которых дети в детдоме. Но они там никогда не были. Будут переселять в новый дом, что-нибудь тебе в старом выделю, всё сделаю, что смогу, только со справкой не тяни. Вынул из кармана серого пиджака десять рублей и дал «на молоко детям». Он получал 250 рублей в месяц, своих детей у него не было. Евдокия в этот же день купила сапожки для старшей дочери, а младшую теперь государство обует.
Оле было 12 лет, и она уже понимала, что взрослые всё делают правильно. Детдом? Значит детдом. Девочка верила в правильный порядок вещей.
У Василия Шукшина люди из народа – мудрецы. А дети у Андрея Платонова – чуть ли не пророки. Станьте как дети, любите друг друга. Дети номенклатурных родителей восхищаются иначе, у них Райкины и Стругацкие разгоняют скуку. Родители, не желая отягощать своих детей знанием тёмных сторон жизни, лишают их почвы, устойчивости, и культура раскололась.
«Как-то так получилось, что забыли, что помимо Каина и Авеля, был ещё брат их Сиф, и родил он Эноса от Азуры», – говорила бабынька Евдокии.
– К хорошему легко привыкнуть, а вот вы попробуйте прожить, когда трудно! – часто говорила Евдокия своим дочкам.
И был день, когда мать привезла дочь в детдом и оставила там.
И Маша поверила – так надо. Надо терпеть.
– Вот, надень это, – показала коротким пальцем воспитательница на старое вылинялое, поношенное одеяние. – Что ты такая худая, как будто война кругом!? Что ли на тебя ни солнце не сияет, ни дождь не дождит? А это, – ткнула пальцем, как сосиской, в новое ромашковое платьице на девочке, – сюда положи.
Маша разделась. Положила ромашковое платье, которое надевали при матери, на край стола, как на прилавок после примерки. И пошла читать «Сказки народов мира», чтобы не расплакаться ни о маме, ни о ромашках.
Жил-был король. Однажды прислал ему другой король тяжелую дубинку – палицу. Собрались все храбрецы, у кого силища была невероятная, чтобы разбить эту дубинку и жениться на дочери короля. Вдруг слеза упала на слово «дубинку». Один храбрец разбил палицу на сотни мелких осколков. Все вокруг кричали: «Он разбил палицу! Он разбил палицу! Какой силач – он разбил королевскую палицу!» И позвал к себе король храбреца и велел снаряжать сватов, чтобы поехать забрать невесту, дочь соседнего короля. «Я пойду туда один, – решился храбрец. – Уж как я сумею получить её у короля, это мое дело». Идёт храбрец, идёт и встретил по дороге человека, который сидел на берегу речки и пил воду. Пил, пил, до тех пор пил, пока речка не высохла.
Тут девочка перестала плакать совсем, задумалась, зачем нужно так много пить, зачем автору нужно, чтобы речка высохла?
Так в памяти и осталось: тополь, «сверчок» с заломанной ручкой, мерзлая сухая земля теплички да ромашковое платье на краю стола. Даже фотографии отца не было.
Кто мой отец? Нельзя человека лишать кровного родства, 40 колен знать надо бы. Род формирует долги? Родовая память – в крови. Совесть будет болеть. Что происходит в душах, нарушивших закон родства? Кинограмма рода – это новая наука со старыми корнями. Если исправить, то у последующих поколений не будет повторений ошибок.
Дочь уснула. И Мария задремала, и детство вернулось к ней.