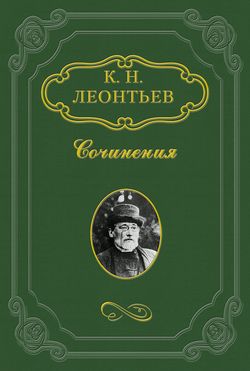Читать книгу В своем краю - Константин Леонтьев - Страница 9
Часть I
IX
ОглавлениеНа горке побег Руднева нельзя было скрыть надолго; Катерина Николаевна скоро заметила, что его нет, и стала спрашивать о нем. Лихачев сказал, что молодой доктор занемог и уехал.
– Что с ним? Где ж он? Может быть, ему нужна помощь? – спросила баронесса.
– Нет, не тревожьтесь, – отвечал Лихачов, – эта болезнь, кажется, душевная. Он очень бодро переехал на лодке на тот берег.
– Что это такое – спросили все друг друга.
– Не установился, должно быть, – сказал Лихачов. Иным поступок Руднева понравился; другие нашли его странным. Князь Самбикин сказал, что это не совсем вежливо; предводитель, – что это не беда; Баумгартен, – что оно очень таинственно и сообразно с теми претензиями, которые имеют русские, быть теперь самой поэтической нацией в мiре; Милькеев предложил ему, по этому поводу, написать роман из русской жизни, в котором бы героем был «le fils d'un boyard et d'une serve»! Дети хотели послать за Рудневым, забывая, что в объезд по берегу, до той деревни, насчитывалось верст шесть; но Катерина Николаевна покончила все эти разговоры и споры тем, что пожалела Руднева.
– Это недаром, – заметила она, – что-нибудь его мучает. И какой сюрприз это будет бедному Владимiру Алексеичу, которому ужасно хочется ввести его в свет! Он его так ведь любит!
– Кто это Владимiр Алексеич? – спросила посланница, – это – старый Руднев? Я никогда не думала, чтоб он что-нибудь чувствовал. C'est une espèce de bibliothèque renversée!
Все засмеялись и оставили Рудневых в покое. Катерина Николаевна еще с утра не раз задумывалась и была гораздо молчаливее и скучнее обыкновенного; ссора с Милькеевым оживила ее на время; но чем темнее становилась ночь, чем ближе подвигался ужин и сон, тем чаще на глаза ее набегало облако, и раз она даже не слышала, что спросила у нее баронесса.
Поужинали; дамы и девочки ушли в палатку; мужчины и прислуга уснули где попало под деревьями, на шинелях и коврах, и кожаных подушках; только Катерине Николаевне не спалось; часа два пролежала она в палатке, на покойной складной кровати, прислушиваясь ко всем звукам, к ржанью и топоту лошадей у коновязи, и вышла наконец на воздух, накинув только шаль на белую блузу. Ночь стояла темная, костер чуть тлелся в стороне. Терпела она три часа, хотела и еще терпеть, и не стало сил! Хотела она просидеть одна у костра на ковре и не тревожить никого, но и на это решимость длилась недолго. Ей надо видеть Милькеева, надо говорить с ним; завтра утром опять шум, опять люди, опять любезная хозяйка и вождь веселого отряда; целый день думала она о том, как бы остаться с ним надолго одной. Она зажгла спичку и, на тихом воздухе, едва прикрыв ее рукой, нагнулась к живой чорной груде, которая была у ног ее… Вот севастопольская бурка младшего Лихачова… (лишь бы он не проснулся некстати!) вот и кудри Милькеева из-под шинели…
Вот он спит, сегодня, при всех, хоть и поделом, но все-таки обиженный друг! Еще зажгла спичку: или не надо будить его? лучше не надо… Совсем было нагнулась, чтобы рукой его тронуть; но у Милькеева сон был самый чуткий.
– Это кто? Это вы? Что вы делаете?! – спросил он с удивлением и встал..
Она уговаривала его лечь опять, раскаивалась, но он отвечал:
– Нет, ни за что! Я и так не спал. Бог знает, что бродило в голове…
Он сам отнес небольшой коврик подальше от палатки и поближе к костру, подложил еще хворосту, и они сели.
– Что с вами? Отчего вы опять не спите? – спросил он.
– Отчего? Вы бы лучше с удивлением спросили, отчего я сплю? Много ли я сплю и как я сплю? Впрочем, вы сами говорили всегда, что я не имею права ни на что жаловаться, что вы ни в каком случае жалеть меня не станете…
– Еще бы вас жалеть! Не принесть ли вам еще что-нибудь на плечи?
– Не надо, сидите; скажите мне лучше, что мне делать, брать или не брать этого Юшу?
– Муж вас очень просит, отчего же не взять… Да и на что совет, – вы его слушать не станете. Вы сами все уже передумали…
– Вот потому-то мне и хочется узнать от вас, все ли я передумала. Я как безумная ждала ночи, чтобы хоть между сонными оставаться одной.
– Что же вы придумали?
– Взять? – продолжала она в раздумье, – неравенство с моими детьми… зависть; быть может, он избалован; мать его была умна, но недобра и несимпатична; отец? Я бы вам сказала, что такое его отец! В кого ему быть, какое воспитанье!.. Ну, хорошо, исправим его. Все же страшно; уж наша жизнь здесь так хороша, не испортить бы ее как-нибудь. И это не беда; положим, я сумею опять все поправить… Другое придет в голову: покажется, что ребенок этот не по годам испорчен, что он моих детей всему грязному научит!.. Одно за одним, одно за одним. Придет мысль, поточит-поточит, вот здесь, и опять отойдет… Другая за ней…
– Да это просто вас раздражило все вместе. Езда верхом, жаркий день, наш давишний спор, быть может…
– Да! Если бы вы знали, что вы мне напомнили давича, когда так гадко выразились за обедом… Я понемногу, с годами, стала забывать свои старые впечатления. А теперь все смешалось у меня в голове: Юша, вы, мои дети, как я мужа любила, как я его разлюбила, как я с ним рассталась… Я представила себе, что он захочет повидаться с Юшей, приедет сюда… могу ли я отказать ему в том?.. Дети уже забыли… По крайней мере меньшие. Маша? О, Маша ничего не забудет… Она молчит и не спрашивает об отце. И я, разумеется, не спрошу у нее, помнит ли она, как она отвечала, когда в Тифлисе гости спрашивали у нее: кто она? Она отвечала: «Маша, солдатская дочь!» Но, ручаюсь вам, что она помнит это!.. Я знаю, что я права, что для них и для людей я с ним рассталась. А сердце точит-точит, все спрашиваю себя: не лучше ли было бы его переносить? Может быть, он с годами бы лучше стал!
– А за что вы с ним расстались-то, я до сих пор толком не знаю? Неужели за какую-нибудь неверность?
– Нет, мой друг, я терпела все его неверности. И любила его, и терпела… Пробовала ревновать сначала и устала. Его и ревновать было трудно: он сам этого чувства не признавал между мужем и женою. Его правило было «vivons et laissons vivre!» Сам неверен, и в отчаянии, что я верна… Ведь я вышла за него глупая, невинная, совсем ничего не понимала, всего боялась… Любила его так, что без него отыскивала его старые перчатки, которые ремнями от уздечки пахли, и цаловала их по получасу; а он уверял, что взять за руку законную жену несносно.
– И сам никогда не ревновал?
– Он!? Да он был самый счастливый человек, когда видел, что я нравлюсь и была окружена. «Дай мне забыть, что ты жена моя, и я влюблюсь опять в тебя», вот что он твердил. И на Кавказе, и за границей, и в Москве – он старался из всех сил сблизить меня то с тем, то с другим. «Ради Бога, не компрометируй ты меня своей буржуазною привязанностью… К чему ты до сих пор не можешь не смотреть на меня при всех с счастливым лицом… Это грязно и еще хуже, c'est ridicule, c'est roturier! Это прилично жене какого-нибудь станового, любоваться на мужа». Как он расхваливал мне то того, то другого! Не было самых грязных вещей, которыми бы он не старался расшевелить мое воображение: заставлял меня Жорж-Занда читать; а я, вместо того, чтобы из Жорж-Занда-то «гососо» взять, которое он бы хотел… взяла, как бы это сказать?
– Положим, готическое и стройное стремление вверх!.. – сказал Милькеев. – Вы и наружностью похожи немного на Страсбургский собор… Вы не сердитесь, однако, если я вам не шутя скажу, что он мне очень нравится, и я удивляюсь, как вы могли расстаться с таким блестящим человеком… И на том портрете, который у вас остался, в казацком платье, – какое славное лицо русского вельможи!.. Немного грубые черты, но сколько благородства и энергии… И притом он, говорят, отважный человек!.. Удивляюсь!..
– Он не знал, что такое страх, – продолжала Катерина Николаевна. – И доброта у него была, по временам, сильная… Федя на него очень похож: такой же веселый и храбрый… Но у Феди никогда, я надеюсь, не будет тех ужасных пороков, которые сгубили отца… Мой муж ничего не боялся: первый раз он был разжалован двадцати лет, по просьбе отца, который сам приезжал просить государя об этом… Не было шалостей, самых жестоких, которых он не позволил бы себе, когда приходила фантазия: стрелял в людей дробью, женщин, знаете, таких, выбрасывал из окна; потом осыпал их деньгами и раздавал деньги бедным товарищам и слугам… Шесть лет был он солдатом… Когда новый начальник приехал на Кавказ, – велел тотчас позвать его к себе, увидел у него на лбу рубец от кивера и спросил: «Что, Новосильский, тяжело?», – так он отвечал: «О! нет, ваше п-ство, отлично!..» Его оставили еще на год. Солдаты его обожали; в деле, мне говорили, он был страшен… Солдаты под Салтами ему сами присудили георгиевский крест, и начальство утвердило. Вот какой он был! Я тогда приехала с отцом на Кавказ на воды; отец мой знал его еще ребенком. Я вышла раз на балкон, вдруг подходит солдат и спрашивает отца; я говорю ему: «Подожди, на что тебе сейчас, папа спит!» И сама удивляюсь, что это за солдат – comme il faut. Я такая была дикая, неловкая, сентиментальная… По целым часам при лунном свете сиживала у окна и плакала о том, что никто в свете не может любить так, как я; или ночью на фортепиано играла, когда в трубе камина шумел ветер… Долго ли мне было влюбиться, да еще и в такого героя… Ведь он в самом деле был герой! Отец мой сам влюбился в него; обвенчались; произвели его скоро, и уехали мы за границу… тут три года был все праздник и праздник! Во Флоренции танцовали, в Неаполе, Париже, на водах, везде были… И я похорошела, пополнела, и застенчивость моя пропала… Я прежде думала, что я урод, такая большая, чорная, худая; и братья дома смеялись надо мной, все звали меня «вороной» и «madame фон Амстердам» – это тогда великаншу показывали за деньги, а «вороной» звали за то, что я была бестактна, что меня всякий мог обмануть… И после этих всех мелочей, понимаете, везде на меня все любуются; в Рим мы въезжали в самый карнавал, в коляске… так итальянцы кричали: «как она красива!» и бросали мне цветы… Вот после какого-нибудь такого случая он дня на два влюбится опять в меня… А там, опять старается влюбить в кого-нибудь, чтобы я не плакала об его неверностях. Какой он был бесстыдный на все это! Раз мы ехали из Парижа в Saint Cloud в коляске: я, он и одна маркиза, по-моему очень натянутая и противная… Но он говорил, что «такой он еще не знает – надо и такую узнать; что он в Париже в первый раз!» Пошел маленький дождик, она предложила ему пересесть к нам и поднять верх… В сумерках я не могла рассмотреть ничего, но слышала только, как она без стыда сказала, когда дождь перестал и велели открыть коляску: «nous avons été trop peureux», т. е. «trop heureux!» Он на другой день сам мне рассказывал, что они Бог знает что около меня делали!.. Бросил меня в Милане одну на целую зиму…
– И тут вы не увлеклись никем? Это непонятно! – перебил Милькеев.
– Нет, был в Милане один поляк высокий, бледный, лицом на Ван-Дика похож был немного. Он стал часто ездить ко мне, учил меня по-польски, говорил, что поляки должны быть для славян тем, чем французы были для Европы, что Пушкин перед Мицкевичем то же, что изящный афинский раб перед чистым и свободным римлянином; занимал у меня деньги, и я ему стала во всем верить… Начала думать: «Что ж? Если мой муж будет рад, и поляк будет рад, и я буду рада?» Только был тоже в Милане тогда один француз, именно un petit francais – Charpentier, всем он был petit и мне вовсе был не по сердцу, однако он что сделал? приехал к Злотницкому и сказал: «Или завтра стреляйтесь со мною насмерть, или уезжайте отсюда, чтобы Новосильская вас забыла!» Злотницкий, не простясь, уехал, a Charpentier я перестала к себе пускать. Так и осталась, все-таки назло мужу, верна.
– Все это презанимательно, – сказал Милькеев, – только я не понимаю, за что вы с ним расстались и чем я давича напомнил его. Я все о себе беспокоюсь! Хоть до сих пор это сходство было для меня вовсе не обидно.
– Вы сказали давича, что не купите лекарства мужикам… Отчего вы не сказали: людям вообще? Я понимаю, что это все равно; только если бы вы сказали просто людям, меня бы это, кажется, не так испугало и оскорбило… Из-за крестьян мы с ним и разошлись… Постойте, впрочем, я лучше по порядку вам буду рассказывать, как его характер все хуже и хуже портился.
– Вы смотрите, не озябли ли… Скоро заря займется – холодно.
– Что вы! Я вся горю! дайте руку… Видите… Ну, пустите теперь руку и слушайте… Приехали мы опять на Кавказ: он без своей службы и войны соскучился, и через год опять его разжаловали.
– Это еще за что? – с удивлением спросил Милькеев.
– За пустяки… У него был соперником один генерал… Толстый, глуп очень, bon vivant из себя представлял и за мной ухаживал и за Имеретинской, княгиней одной. Он так был толст и глуп, что никому не мог нравиться: вздумал меня раз не пускать верхом ехать и лег у ворот дачи ничком, а я и перепрыгнула через него. После жалко стало, но та грузинка его и не жалела даже, и где же ему было с моим мужем спорить… Мой муж был так находчив, так остроумен, стихи даже очень недурно писал… Раз в маскараде он был просто в своем казацком платье и подал ей стихи. Я их помню: Я много жил в немноги годы И школу жизни изучил, Но в вихре светской непогоды Прямое сердце сохранил.
И верьте, средь забав нестрогих Я многих, может быть, любил, Но уважал немногих.
и подписался: «уважающий вас казак-стихотворец». Недурно ведь?
– Да, кстати, по крайней мере! – отвечал Милькеев.
– Вот раз мой муж сходил с лестницы от товарища с другим офицером, немного пьяный, а генерал ему встретился, щолкнул по воротнику и говорит: «Что поручик, залито?» А муж мой его по лбу ударил: «Что, генерал, пусто?» За это и разжаловали опять… Опять начались эти экспедиции, слезы; Маша родилась, в плен его взяли, насилу выпустили – это я вам в другой раз все расскажу. Тут он стал гораздо злее: выпрыгнул раз из окна одной дамы, днем, растрепанный и без фуражки, чтобы опозорить ее… Народу на бульваре было множество. Сорвал раз со стены мундштук и прибил меня из-за вздорного спора; я хотела уехать, но он раскаялся и даже плакал. Я осталась, и мы уехали сюда… Здесь он что начал от скуки делать! Если бы вы знали! Это передать трудно. Я читала, занималась детьми; цветники и зимний сад разводила; Оля только что родилась, а он стал пить и играть в уездном городе, пропадал по неделям, сек и бил людей, заставлял запрягать себе, как он называл, «обывательских» лошадей по восьми разом в карету; вздумал, наконец, собирать с крестьян по рублю с души в месяц каких-то столовых, потому что денег ему всегда было мало. А я в Троицком выросла, всех людей здесь знала, отец и мать здесь жили, я любила здесь все… Я сказала ему, что дети такого примера не увидят, и люди не должны больше ничего терпеть… чтобы он ехал отсюда, что я заплачу все его долги; он чуть не убил меня, но я уехала с Машей к брату в Москву… А тех детей он не дал. Брат мой придумал уловку: пригласил его через полгода в свой дом на свиданье с теми детьми, – я их увела через сад, посадила в карету и уехала сюда, а у брата в руках оставила к мужу письмо, в котором объявила ему, что для детей и крепостных моих я не пощажу его и, как он сам знает, могу про него такие тайны и такие насилия обнаружить, что ему лучше согласиться на мои предложения. С тех пор мы больше не видались; я знаю, что у него кроме жалованья ничего нет; узнала, что ему три года тому назад ногу оторвало ядром, хотела было ехать в первую минуту, да образумилась и послала ему только денег через третье лицо. Он, разумеется, знал, что это от меня; но он настолько умен, что не благодарил и пишет только иногда об детях к брату… Вот вам, Вася, моя жизнь!.. Вот вам мой муж!
– Какая полная, пышная жизнь, – в раздумье сказал Милькеев, – сколько пользы сделал вам этот человек! Я понимаю индусов, что они строили храмы Злу!.. Что ж вы сделаете теперь?
– Насчет Юши? Я придумала вот что; не знаю, как вы найдете. Пусть его присылает с верным человеком, но чтобы сам муж мой не ездил сюда, иначе я несогласна, деньги на воспитание мне не нужны; а то, что от матери Юши осталось, пусть пришлет; я спрячу их, а он истратит. И чтобы в воспитание ребенка и не думал никогда мешаться; но я увижу через год: если он будет вреден моим детям, я его, как ни жалко, а держать не стану!.. Он знает меня, и сам, в добрые минуты, звал меня прозрачным хрусталем, я уж постараюсь!.. Хорошо придумала я?
– Я удивляюсь, зачем вы спрашиваете у меня совета? Вы так хорошо сами умеете и думать и делать!.. – вздохнув, отвечал молодой человек.
– Все-таки спокойнее, когда другой ободрит. Завтра же, в монастыре, напишу письмо!
На другой день в живописный монастырь приехали прямо перед всенощной; все, кроме Катерины Николаевны и Маши, сказались усталыми и остались в гостинице за оградой, но мать и дочь отстояли всю службу за огромной колонной в тени. Глядя оттуда на свечи перед золотым иконостасом и на седых монахов, которые становились посреди церкви полукругом и пели густыми, согласными голосами, они обе молились, плакали и клали земные поклоны.