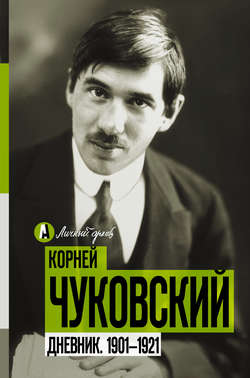Читать книгу Дневник. 1901-1921 - Корней Чуковский - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Дневник. 1901–1921
1906
ОглавлениеКажется, 17 января. С удивлением застаю себя сидящим в Петербурге, в Академическом переулке, и пишущим такие глупые фразы Куприну:
Ваше превосходительство ауктор «Поединка»!
Как в учиненном Вами Тосте* оказывается быть 191 линия, и как Вы, милостивец, 130 линий из оного Тоста на тройках прокатать изволили. То я, верный твоего превосходительства Корней, шлю вам дифференцию в 41 линию, сия же суть 20 руб. с полтиною. В предвидении же последующих Тостов делаю тебе препозицию на пятьдесят рублей; пришли поскорея генеральского твоего ума размышления касательно [не дописано – Е. Ч.].
Да, господин дневник, многого Вы и не подозреваете. Я уже не тот, который писал сюда до сих пор. Я уже был редактором-издателем, сидел в тюрьме, познакомился с Мордуховичами, сейчас состою под судом*, за дверью висит моя шуба – и обедаю я почти каждый день.
Глаз у меня опух, что с ним, не знаю.
27 января. Пишу статью «Бельтов и Брюсов»*. Мне она нравится очень. Чувствую себя превосходно. Мне почему-то кажется, что сегодня приедет моя Маша. Вчера проводил Брюсова на вокзал и познакомился с Вячеславом Ивановым.
Боже, вот если б сегодня приехала Маша.
30 января, утро. Проснулся часа в 4. Читаю Thackeray’s «Humorists»*. Маши еще нету. Покуда я попал в глупую переделку. Получил от Обух-Вощатынского повестку – с приглашением явиться к нему в 12 час. Это уже 3-е дело, воздвигающееся против меня*.
Теперь возможна такая комбинация: Маша приезжает в половине десятого. Я встречаю ее мимоходом, иду к Обуху, меня арестовывают и Маша на улице без куска хлеба. А главное, мы даже и не поговорим друг с другом – ничего. Но гаже всего будет, если Маша и сегодня не приедет. Тут у меня нет ни одной души, кому бы до меня было хоть немного дела. Был несколько раз у Куприных: она глупая и вульгарная, он – искренне уверен в своем величии и так наивно делает вид, будто скрывает эту уверенность. Общество их кошмарно по своей пошлости: Кранихфельд – добрый, глупый, должно быть, влюбчивый; заика душевный – Цензор, Поликсена Соловьева с остановившимся лицом; Дымов – нечуткий и самодовольный, – скука, скука. У Слонимских мне хорошо. Там так патриархально, люди так ничего не знают – горя и радости, там такие уютные: мать-юдофобка – так деревянна, отец, известный публицист, – так добросовестно пришиблен Богом (он очень похож на портного Сорина), Диття так безнадежно невинна, брат Дитти так безнадежно туп, – что с ними легко, что с ними свободно, что с ними ничего не хочешь, не кокетничаешь, не ломаешься. Бываю у Саши Мордуховича. Там Элла, как хороший кисель, – без мыслей, без забот, без жизни. Там лысый Давид – скромный и ленивый, там мелкий, ломающийся, умный, самолюбивый Саша – и мать Арнштама, немецкая дама… У них я пообедаю, подкину стулья и уйду… Большей частью занимаюсь, а если нет – шляюсь, – у меня бесконечная, тяжелая, неразгоняемая тоска. Душа болит, как зубы, – как никого мне не надо, и ничего не хочу, и смерть, смерть, смерть – вот одно, что я знаю, о чем я думаю, что я ношу с собой. Недавно перечел сборник памяти Чехова* – и до сих пор не могу сбросить с себя безнадежной тоски, которую он нагнал на меня.
Этот месяц я занимался, как никогда. Во-первых, по-английски я успел больше, чем за целый год, – я прочел 3 книги, из которых – одна добрых 600 страниц будет; я выучил массу слов, я прочитал Короленку для своей о нем статьи, я написал статью о Бельтове и Брюсове, я возился с «Сигналами» – и т. д.
И это в пору, когда 7 дней я лежал с завязанными глазами – ибо у меня с 17 по 24 были на глазу нарывы – ячмени, и все что угодно. Кстати: сегодня у меня нарвало на другом глазу. Машенька, дорогая, приезжай!
30/1. 906. Ячмени на глазах. «Сигналы». Как уехать из СПб.?
Утро 31 января. Всю ночь не спал. Вчера, едучи к следователю, заехал на Морскую в English Library[111] купить Thomas Hardy, и массивная дверь так прищемила мне палец, что со мной приключился обморок. Теперь одно спасенье: холодная вода или свинцовая вода. Всю ночь просидел, встромив[112] палец в стакан с водою. Ровно через сутки приезжает Маша. Это единственное мое теперь счастье. Глаз у меня вспухает, читать я не смогу, и, если меня не посадят в тюрьму, Маша будет читать мне вслух Короленку, «Мир Божий», Гамсуна. С тех пор как я поселился на острову, я лучше работаю – и никуда не хожу: все равно далеко.
Сегодня надлежит идти к следователю. Вчера я его не застал. Хорош я буду перед ним: на глазу повязка, на пальце повязка, – сам после бессонницы желтый и нелепый… Моя комната превращается в больницу: гигроскопическая вата, борная кислота, стакан с водою – для глаза. Тряпочка полотняная, свинцовая вода, стакан с водой – для пальца. Машу я ждал вчера до того, что, уезжая к Обуху-Вощатынскому, послал левую руку «Сигнала» сказать моей жене, что я буду часа через 3. Он возвратился – говорит: «К. И., могу передать вам утешительную весть. (Пауза.) Супруга ваша не приехала». Я отчего-то так разозлился, что послал его к… Вчера обедал у Слонимских. Была З. Венгерова и Белла. Диття с Зиной ушли в театр Яворской, – и я с головной болью – сейчас же после обеда улизнул. Лег спать в 8 ½ ч. В 8 ½ пришли Айзеншер и Пустынин за Брюсовым. Дал им – и заснул до 10 ¼. За ночь докончил «Dungly Junction»[113] – давно не читал ничего такого глупого. Палец, как говорится, «стреляет». Кровь сильными редкими приливами стучит в нем – и всякий раз сердце у меня замирает, ноги холодеют, мысли и внимание останавливаются. Писать больше не могу – голова идет кругом…
Был у Обуха. Плохо мое дело. Придирка к совершенно невинной статье, лишь бы меня погубить. Но я не умею печалиться о будущем, когда в настоящем у меня такое страдание: палец. Какая страшная, непонятная работа происходит у него: ему нужно кровью и тканью воссоздать новый ноготь, прогнать старый, затянуть больное место – и нужно поторопиться, потому что он знает, как больно его хозяину. Теперь он весь опух – и стал такой величины, что кожа у него трескается.
Еще 8 часов – и я увижусь с Машей. Теперь начало 1-го часу.
4 февраля. Скоро меня судят. Седьмого. Никаких чувств по этому случаю не испытываю.
Маша уже здесь. Сейчас сидит против меня и режет шпилькой «Мир Божий». Мы только что были в «Вене», обедали с Омегой, Головковым и Случевским (какие непохожие, не нужные мне и друг другу люди!), а потом пошли к Чюминой. Зверь*, Зинаида, разговоры о сенаторах, о тюрьмах, Машин бенефис о моем гонораре у декадентов и т. д. Скучно и ненужно.
10-й час. Сейчас иду спать. Сегодня много работал в «Сигналах» и, встав в 4 часа, переводил для них стихи Браунинга. Перевел песню Пиппы из «Pippa Passes»[114], которую давно уже и тщетно хочу перевести всю.
Говорят, мне нужно бежать за границу. Чепуха. Я почему-то верю в свое счастье.
На заре вселенной близко к небесам была земля,
Жил король тогда, и низко вились кудри короля.
Над челом белоснежным и нежным,
Как чело у вола, безмятежным,
Развевались власы короля.
Вечно спал он, и беспечно жизнь его текла вперед.
И сдавалось – бесконечно он на свете проживет.
Смерть спящих царей не нужна вам, о боги,
Пусть вечно живет он, не зная тревоги,
Пусть вечно и вечно живет.
Он на солнце у порога… и т. д.
Иду спать. Машка зевает над «Миром Божиим». Завтра с утра поработаю. Звонит кто-то. Только бы не к нам. Ну, прощай сегодняшний день – прощай навеки.
14 февраля, вторник. Читал эти несколько дней декадентов. Так надоели, что явилась потребность освежиться. Взял Hackel’я «The riddle of the Univers»[115]. Прочел две главы. В первой доказывается польза естественных наук, во второй происхождение человека от обезьяны. Нельзя сказать, чтоб это было ново, но чрезвычайно полезно после Вячеслава Иванова и Андрея Белого. (Сейчас получил новую повестку от Обуха – явиться в камеру его к 1 ч.)
Вклеена квитанция:
М.П.С. КАЗЕННЫЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ. Станция Псков 18/II месяца 1906 г. 5ч. 25 м. попол.
КВИТАНЦИЯ
За депешу № 196 в Ново-Александровск в 13 слов получил – руб. 80 к. (Подпись).
С этой квитанцией связаны у меня забавные воспоминания о бегстве в Меддум. Насколько я помню, дело было так. Я был редактором журнала «Сигнал». Меня привлекли к суду, посадили в предварилку, Марья Карловна Куприна внесла за меня 10 000 р. залогу [Абзац дописан позже. – Е. Ч.].
12 мая, пятница. Были у Чюминой – обедали. Сегодня она рассказывала свою биографию. Лет 19-ти она в Новгороде сочинила стихотворение «Памяти Скобелева», которое попало в комаровский «Свет». Отец Чюминой обеспокоился: что скажет его начальство, если узнает, что дочь его пишет стихи. Второе стихотворение (тоже о Скобелеве) в аксаковской «Руси». Потом она послала в «Новое Время» поэму «Христианка». Буренин ответил ей ласково – и пригласил зайти в редакцию. Она познакомилась тогда с Сувориным, Полонским etc. Потом Буренин стал делать ей гнусные предложения; она их отвергла, и с тех пор ее стали травить в «Новом Времени».
Сегодня нечто таинственное: приехала Паша в Питер и заявилась к нам на квартиру. Нина не запомнила ее адреса, и теперь мы не можем объяснить себе эту таинственность.
Теперь ночь – белая, – и я хочу сочинять балладу для «Адской Почты». Только что получены «Весы». Там есть «Хамство во Христе»*. Статья сама по себе неважная, – но по отношению к Волжскому – верная и выпуклая.
13 мая. Был сегодня у Зверя (муж Чюминой). Учил его фотографической мудрости. Речь Горемыкина, по-моему, прекрасна: ловкая и вежливая пощечина*. Поссорился с Марией Борисовной – из-за чего, не помню. В ресторане встретился с Володей Жаботинским; купил Менгера*, был у княгини Тархановой – старая, обольстительная женщина, – которая говорила только о себе. Теперь уже ночь, я провел вечер у Лемберка – так и убит мой день. Ужасно. В оправдание себе могу привести следующее стихотворение:
Жил-был штрейхбрехер молодой*,
Жила-была с-р.
И полюбила всей душой
Штрейхбрехера с-р.
Твердит рассудок ей одно:
Штрейхбрехеру бойкот.
А в сердце девушки давно
Амнистия цветет.
О, страсти власть! О, власть Эрота!
Что пред тобою власть бойкота!
Цвела весна, и, как цветник,
Весь мир благоухал.
И меньшевик, и большевик
Душою расцветал.
Средь черносотенных ночей
Сбирался митинг звезд…
О, провокатор соловей!
О, агитатор дрозд!
И не слышно в журчаньи ручьев беззаботных
Ничего о страданьи рабов безработных.
Плохо, по-моему. Нужно переделать совершенно. Черносотенные ночи – это не того. Дрозд здесь ни при чем. Не лучше ли так:
О, провокатор соловей!
О, агитатор дрозд!
О, средь лазоревых полей
Весенний митинг звезд!
О, если б журчанье ручьев беззаботных
Воспело (Нам пело) страданье рабов безработных!
И взгромоздяся на сосну,
О, если б ворон рек:
Читайте «Невскую Волну»,
Долой «XX Век».
Несамостоятельность М. Б-ны вызывает во мне негодование. Стоит мне с ней поссориться – она не идет обедать. Сегодня у нее были деньги, я расстался с нею, и она, чтобы наказать меня, морит себя голодом. Пришла, ест хлеб. Смотрит на меня так, будто я виноват в ее голоде.
14 мая. Сегодня наверное убедился, что амнистии не будет. Значит, самое большее через 2 недели – меня посадят в крепость. Стихотворение закончу так:
О, зоркий месяц – соглядатай
Четы, любовию объятой!
Поверь вещанию весны,
Прекрасная с-р:
Весенней ночью все равны —
Штрейхбрехер и с-р.
Весенней ночью все равны —
Штрейхбрехер и с-р…
И поддалась речам весны
Прекрасная с-р.
О, страсти власть! О, власть Эрота!
Что пред тобою власть бойкота!
18 мая. Читаю Менгера. Нарочито социалистическая точка зрения. Много произвольного. Его теория совести. По-моему, совесть есть отражение былых социальных соотношений, ставших уже иррациональными, но продолжающими мнить себя абсолютными. Отсюда оптический обман, по которому кажется, что совесть нечто трансцендентальное, могущее побороть всякого Разумихина*. В конце-то концов Разумихин прав, но он упрощает действительность. (Менгер, 17 стр.)
29 мая. Эту неделю мы благодушествовали: я продал стихи в «Ниву» и в «Народный Вестник», отовсюду получил деньгу*. Теперь у Струве моя заметка о Горьком. Если пойдет, я получаю рублей 30. В «Вестнике Европы» моя заметка о Чюминой. Хочу продать издателю свою статью о Уоте Уитмане*.
Вчера была у нас Рая Лемберк – весь вечер.
31 мая. Сегодня утром написал два сонета для «Нивы». Потом пошел отдать Рае зонтик, Косоротову книжку, встретился с Осиповым, застрял. Был в Думе, виделся с Румановым и Сашкой Поляковым. Послал письма Луговому и в Комиссию по амнистии, хочу лекцию о Уитмане читать. Вечером были у нас Лемберки – и мы до часу ели клубнику, пили чай и вспоминали детство. Сегодня в последний раз я работал в Публичной библиотеке: она закрылась на два месяца.
4 июня. Маша именинница. Я с Натальей Никитишной сложились и купили ей коробку шоколаду. Мой «Штрейхбрехер» не пошел в «Адской Почте». Зато в «Ниве» за этот месяц принято 5 моих стихотворений – и, благодаря им, мог работать над Уитманом. Спасибо им, дорогие!
Из благодарности к ним воспроизвожу их здесь*:
Из Теннисона
Опочившего воина к ней принесли,
Но она не сказала ни слова.
И подруги ее говорили вдали,
Что могила и ей роковая готова,
Если слез ее очи обресть не могли.
И негромко они поминали его:
Почивающий воин был нежным супругом,
Был он недругом смелым и сладостным другом,
И негромко они восхваляли его,
Но она не сказала о нем ничего.
И подруга ее к мертвецу подошла
И покрова откинула ткани.
И стальное забрало с немого чела
Пред очами ее молчаливо сняла,
Но она благодарных рыданий
В душе обрести не могла.
Ее сын улыбался видениям сна.
И малютку нежданно узрела она.
И, как вешние грозы, веселые грозы,
Набежали, нахлынули светлые слезы,
И, рыдая, пред телом упала она.
5 июня. Не могу ничего сочинить – даже таких скверных, кривых стихуль, как вышеприведенные. День совершенно пустой. Денег ни копейки, в голове ни одной мысли. Ни одной надежды. Никого не хочу знать. Остановка. Даже книжного дурмана не хочется. Нужно где-нибудь достать 10–15 р. и уехать к Луговому. Потом захочется возвратиться и… работать – без конца. Но где достать? Но как достать? Буду разве писать о Розанове.
Книжка Розанова очень талантливая. Чтобы написать такую талантливую книжку, Розанов должен был многого не знать, многого не понимать. Какая бы ценность была в стихах Лукреция, если бы он знал теорию Дарвина? «Солидные» революционеры, «революционных дел мастера» отвернутся от философских и психологических толкований Розанова – раньше всего потому, что солидные люди терпеть не могут философии, а во-вторых, потому что Розанов – посторонний. Человек подошел к кучке народа. Что здесь случилось? Убийство. Лежит убитая женщина, неподвижная, в кровяном ручье, а подле нее убийца с ножом. – Тут нужно доктора – не спасет ли он убитую, тут нужно здоровых, смелых людей – связать убийцу, обезоружить, не убил бы еще кого. И вдруг является Розанов, суется в толпу, мешает всем и нашептывает:
– Погодите, я объясню вам психологию убийцы; погодите, вы ничего не понимаете, он заносит нож – по таким-то и таким-то мотивам, он убегает от нас по таким-то и таким-то причинам.
Объяснения, может быть, и хороши, но только зачем же мешать ими доктору? – Каждая минута дорога. Доктора отвлечешь от работы и т. д. В участке разберут.
Розанов – посторонний. Разные посторонние бывают. Иной посторонний из окна глядел – сверху, все происшествие видел. Такому «со стороны видней» и понятней. А другой посторонний подошел к вам: а что здесь случилось, господа?
Г. Розанов, несомненно, именно такой посторонний. Он подошел к революции, когда она разыгралась уже вовсю (до тех пор он не замечал ее). Подошел к ней: что здесь случилось? Ему стали объяснять. Но он «мечтатель», «визионер», «самодум», человек из подполья. Недаром у него были статьи «В своем углу». Вся сила Розанова в том, что он никого и ничего не умеет слушать, никого и ничего не умеет понять. Ему объясняли, он не слушал и выдумал свое. Это свое совпало с Марксом (отчеркнутые страницы) – он и не знал этого, и отсюда та странная (вечная у Розанова) смесь хлестаковской поверхностности с глубинами Достоевского – не будь у Розанова Хлестакова, не было бы и Достоевского.
Отыскал 4 коп. Пойду за бумагой и сейчас же напишу*.
6 июня. Болит горло. Должен идти к Ляцкому – суп не готов. Денег нет. Написал статью о Розанове, снес в «Думу»*. Надежд на напечатание мало. Что делать, не знаю. Но и не забочусь, ибо болен, и слаб, и голоден. У меня жар. Завтра, может быть, будет в Сенате рассматриваться мое дело.
Читал «Весы» со всеми этими Кречетовыми, Садовскими и т. д. Дрянь и пошлость невозможная. Геккер, Зак, Балабан в «Одесских Новостях» и те лучше. Быть «декадентом» можно только при первоклассном таланте; для людей маленьких – это позор и унижение.
Читаю «King Richard III»[116], – вот оттуда хороший эпиграф:
Gloster
How hath your lordship brook’d imprisonment?
Hastings
With patience, noble lord, as prisoners must:
But I shall live, my lord, to give them thanks,
That were the cause of my imprisonment[117].
7 июня. Получил 10 р. авансу за «думскую» статью*. Сегодня нездоров. Пера в руке не держал.
Задумал статью о Самоцели. Люди симметричной души. Великая тавтология жизни: любовь для любви. Искусство для искусства. Жизнь для жизни. Бытие для бытия.
Нужно это только заново перечувствовать, а я только вспоминаю то, что когда-то чувствовал.
Перевожу Rossetti «Sudden Light»[118].
8 июня. Получил сегодня письмо от Ремизова. Странный человек. Он воспринимает очень много впечатлений, но душа у него, как закопченное стекло, пропускает их ужасно мало. И все это скупо, скудно, мучительно трудно. Вольного воздуха нет ни в чем, что он делает. Вот только что получил от него письмо. Все вымученно, все старательно. [Вклеено письмо. – Е. Ч.]:
Многоуважаемый Корней Иванович!
Вот Вам человек для «Плена».
Кланяюсь Марье Борисовне.
Ремизов
Вот что я решил: каждый день переводить (прозой) по сонету из Россетти.
Сонет – это памятник минуте, – памятник мертвому, бессмертному часу, созданный вечностью души. Блюди, чтобы он не кичился своим тяжелым совершенством, – создан ли он для очистительной молитвы или для грозных знамений. Отчекань его из слоновой кости или из черного дерева, – да будет он подобен дню или ночи. И пусть увидит время его украшенный цветами шлем – блестящим и в жемчугах. Сонет – монета. Ее лицо – душа. А на обороте сказано, кому она служит воздаянием: служит ли она царственной податью, которой требует жизнь, или данью при высоком дворе любви. Или среди подземных ветров, в темных верфях он служит, он кладется в руки Харона как пошлина смерти[119].
Прекрасно! Я начал хромыми стихами:
О памятник мгновения – сонет, —
Умершего бессмертного мгновенья.
Исправил вторую строфу Rossetti:
Внезапный просвет
Я был уже здесь когда-то.
Когда – отгадать не могу.
Помню эту сладость аромата,
Эту травку вдоль речного ската,
Эти звуки, эти вздохи, и огни на берегу.
__________________
Ты когда-то была моею,
Не помню, не знаю, когда.
Ласточка блеснула – и за нею,
Ей вослед ты изогнула шею,
И тебя узнал я тотчас, да, я знал тебя всегда!
A New Year’s burden[120]
Гуляет ветер над полями,
Над нашим радостным путем.
Из песен, прежде петых нами,
Какую ныне мы споем?
Только не эту, моя дорогая, о нет. (2 р.)
Были с нами они когда-то,
Но часам заката неведом рассвет.
Тумана бледного туманней
Вдали аллея. Новый год
Из солнца кровь, алея, пьет.
О, из былых твоих лобзаний
Какое ныне расцветет?
Сплелися ветви над очами
И небеса среди сетей.
О чем, о чем под небесами
Забыть мы рады меж теней?
Не наше рожденье, о нет,
Не нашу кончину, о нет!
Но нашу любовь, что уж боле не наша…
9 июня. Должен перевести свой очередной сонет. Но не перевел, а поехал к Луговым.
18 июня. Сегодня ездил к Юлии Безродной – в Финляндию. Был у Финского залива. В поезде обратно с Н. Н. Виноградовым. Там же член Думы Ледницкий. Там же девочка лет 16. Хорошенькая, блондинка – изящная. И финляндцы – кондуктора, которые высаживали пьяного. У Безродной – домик – точно декорация Художественного театра. А когда вышел ее хозяин, я подумал: как хорошо он загримирован. Они угощали усердно – но не радушно. Слонимски-венгеровский тон дешево насмешливого резонерства – свойствен и им: насмешливостью (как тоном) они прикрывают свое бессилье: это, как щит у дикаря. Но мне это все равно. Лишь бы иметь возможность вести этот дневник в Англии.
Заинтересовал меня Чаттертон. Вот что пишет о нем Rossetti: «С шекспировской зрелостью в диком сердце мальчишки; сомнением Гамлета близко соединенный с Шекспиром и родной Мильтону гордыней Сатаны, – он склонился только у дверей Смерти – и ждал стрелы. И к новому бесценному цветнику английского искусства – даже к этому алтарю, который Время уже сделало божественным, к невысказанному сердцу, которое противоборствовало с ним, – он направил ужасное острие и сорвал печати жизни. Five English Poets. Sonnet First»[121].
Кажется, у Китса есть о нем нечто подобное. Теперь ночь, но все же хочется справиться.
Начало сонета банально. Но конец хорош: «Ты погиб – полусвеянный цветочек, в который влюбились холодные ветры. Но это прошло. Ты между звезд теперь – на высочайших небесах. Твоим вращающимся мирам ты упоительно поешь теперь; ничто не портит твою песню – там, над бесчестным миром и над людскими страхами. На земле (этот) (добрый человек) заслоняет от низкой клеветы твое светлое имя – и орошает его слезами».
Нужно просмотреть переписку Байрона, да, кажется, у Шелли есть что-то. Какая-то вещь, посвященная Чаттертону.
19 июня. Решил взяться за рецензии для «Вестника Европы». Сегодня зубрил английские слова из прежде выученных. Стал было читать Менгера; нет, я раньше прочту Каутского. Итак, Каутский: «Этика и материалистическое понимание истории». [Конспект статьи и замечания по ее поводу опущены. – Е. Ч.]
Только что вышел скандал с хозяином. Требует денег: у нас нету. Бедная Маша наговорила ему грубостей, лишь бы оттянуть до завтра. Завтра у нас будут: Руманов выхлопотал в «Биржевых».
Я прочел ровно половину книжки Каутского. Теперь дочитаю до главы и брошу.
Как луч между тучей и тучей
По лику речному бежит,
Доколе не сгинет, – летучий, —
Завистливой Ночью обвит,
Завистливой к сердцу живому,
Что так непокорно поет
И неба ночного истому,
И радость чернеющих вод.
И небу и ветру ночному
Приветы темнеющих вод…
Переводил Суинборна. Но придется бросить. Трудность не по мне. Мне рецензировать марксистские брошюры. Сегодня никуда не выходил. И завтра не выйду. Покуда не напишу рецензий в «Вестник Европы».
Ночью уже позвонил Руманов. Отчего-то приходят в голову стихи:
О, каждого невежды ученик
И каждого ученого учитель,
К вратам познания ты ревностно приник,
Но Мудрости хранитель
Тебя не пропустил – и ты главой поник.
20-е июня. Только что встал.
Вспомнил старое свое стихотворение*:
… И промолвил Саади, лукавый пророк:
«Если солнце восходит, иди на восток;
Если солнце заходит, на запад иди —
Будет солнце всегда пред тобой впереди!»
О, ты лжешь нам Саади, лукавый пророк!
Если, солнце любя и о солнце скорбя,
Ты за солнцем пойдешь без путей, без дорог, —
И на западе солнце взойдет для тебя,
И от запада солнце пойдет на восток!
Еще 2–3 странички Каутского нарочно оставляю на завтра.
24 июня. Приходят бессвязные строки:
Отдадим в солдаты
Хватов депутатов.
Для такой палаты
Хватит казематов.
И потом обратился к Аладьину:
А тебя раздавлю я, как гадину*.
Очень нездоровится. Встал рано – с тяжелой головой. Нужно кончать мои писания. Третьего дня был у Ляцкого. Он рассказал мне смешную историю: Государю понравилась последняя хроника «Вестника Европы». Он запросил чрез канцелярию у Ляцкого – кто писал. Ляцкий ответил, что без разрешения автора не вправе ответить. А хронику писал Кузьмин-Караваев. Как получил он от Ляцкого запрос, можно ли открыть его фамилию Государю – прибежал бегом из Думы к Ляцкому, – рад чрезвычайно – тем или иным путем хочется человеку быть министром.
Третьего дня Маша снесла в «Ниву» стихи. Сегодня ответ. Если приняты – перебьемся как-нибудь. Главное – закончить эту дурацкую статью о Каутском. Отчего-то застряла в зубах – ни туда ни сюда. – Кончил после получасовой работы. Теперь переписать. Боюсь. Вчера нигде не был – целый день работал, сегодня тоже буду работать. Вообще эту неделю я просиживаю у письменного стола с утра до ночи. Маша спит в соседней комнате. А то бы я давно надел пиджак и послал Нину за газетой. Переделаю свою статью о Розанове – для «Страны»*. Она была принята для Думы, набрана – а Дума и лопнула.
В Лондон тянет страшно. Когда за окном кричат разносчики, мне все кажется, что это – строо-берри![122] Вот сейчас идет дождь – а напротив меня красный, облупленный дом, – ну даже запах вспоминается лондонский. А запах терпентину, когда войдешь в Британский музей!
4 июля. Сижу в Бологом у Ольги Николаевны. Уже четвертый день мы здесь. Очень, очень хорошо, а мне сильно нездоровится. Читаю Н. Бельтова «Критика наших критиков»* – и так рад, что не приходится думать о завтрашнем обеде, о завтрашнем взносе за квартиру. Книга Бельтова производит странное впечатление. Она очень неровная. Это статьи разного времени и для разных читателей. Их бы следовало переделать, а то странно, например, когда встречаешь в книге, изданной в 1906 г., такие строки: «Школа Маркса и у нас имела своих последователей. Книга Н. Зибера “Очерки первобытной экономической культуры” очень пригодилась бы Л. И. Мечникову в его исследованиях» (стр. 293). Дух книги ужасно неприятный: в полемике Бельтов груб и заносчив (например, стр. 137), во всех своих утверждениях самоуверен и поверхностен. Встречаются полемические выпады против г. Михайловского и против народников – которые в этом издании являются анахронизмом… Для разных аудиторий написана эта пестрая книга: стр. 282 – для детей.
5 июля. На случай, если я захочу заняться в Англии вопросом о прислуге, – вот источники: Бельтов, стр. 68–69.
10 июля. Ольга Николаевна – именинница. После двух дождливых дней – солнце. Мы совершенно потеряли здесь всякую власть над своими мыслями, сейчас сошлись на мостике и давай петь все, что в голову придет. Дошли до того, что если бы кто подслушал, подумал бы, что мы сумасшедшие. Ольга Николаевна надела свое пестрое платье, я – в высоком воротничке, Машка тоже вся в светлом, а Зверь увесил свой жилет массивной цепью – все мы ждем Фаворского, странного врача, который забросил практику, обратился в мужика, купил именьице и уже 15 лет живет в этом гнилом месте, получая «Новое Время» и сожительствуя с какой-то деревенской бабой. Я сейчас возился в трех лодках, подбрасывал палку, а теперь корплю наверху над своей рецензией на книгу Бельтова. Только что пришел Фаворский и принес страшное известие, что Дума распущена. У меня голова кружится, ноги меня не держат. Что будет? Что будет? Боже мой.
24 июля (или 23?). На новой квартире. «Нива» дала авансу. Маша купила мебель. Сняли 3 комнаты. А заплатить нечем. Взял подряд с «Нивы» написать об Омулевском и теперь читаю этого идиота. Тоска. Перевожу Джекобса, – а зачем, не знаю. Сегодня сдал в «Ниву» стишки. Маша дребезжит новой посудой, я заперся у себя в комнате – и вдруг почувствовал страшную жажду – любить себя, свою молодость, свое счастье, и любить не по мелочам, не ежедневно, – а обожать, боготворить. Это наделала новая квартира, которая двумя этажами выше той, в которой мы жили в начале прошлой зимы. До слез.
[Вклеено письмо. – Е. Ч.]:
Милый Чук!
Вы меня огорчили: во-первых, Вы меня взволновали Вашим письмом, во-вторых, я, вспоминая о Ваших словах, делаюсь серьезным, а я привык чудить и шалить при Вашем имени, в-третьих, я должен писать Вам, а письма я ненавижу так же, как своих кредиторов.
Вы – славный, Чук, Вы – трижды славный, и как обидно, что Вы при этом так дьявольски талантливы. Хочешь любить Вас, а должен гордиться Вами. Это осложняет отношения. Ну, баста со всем этим.
Марье Борисовне сердечный поклон.
В меня прошу верить. Я, все же, лучше своей славы.
«Прохожий и Революция» прилагаю*. Не дадите ли ее для «Биржевых»?
Засим обнимаю. А. Руманов
2–3/VI–906.
У меня точно нет молодости. Что такое свобода, я знаю только в применении к шатанию по мостовой. Впечатлений своих я не люблю и не живу ими. Вот был в Гос. Думе – и даже лень записать это в дневник. Что у Аладьина чемберленовская орхидея – вот и все, что я запомнил и полюбил как впечатление. Познакомился за зиму с Ясинским, Розановым, Вячеславом Ивановым, Брюсовым, сблизился с Куприным, Дымовым, Ляцким, Чюминой, – а все-таки ничего записать не хочется.
Лучше впишу свое стихотворение, написанное 3 года назад и сегодня мною исправленное.
Средь чуждых стен приморского селенья
Израильских гробниц я видел скорбный ряд.
Спокойные – средь вечного смятенья, —
У неумолчных вод – они молчат.
Давно срослись могильные их плиты с землею кладбища,
И мнится – предо мной скрижали древние, что некогда разбиты
Пророком яростным у гор земли святой.
О, что за вихрь вражды бесчеловечной,
какие казни диких христиан
Забросили Агарь за этот бесконечный,
за беспощадный этот океан?
Грехом безверия не искушен лукаво:
«Смерть – это мир», – пророк скорбящий рек, —
«Бог дал нам Смерть, ему за это слава,
По Смерти жизнь не рушится вовек».
Но Смерть настигла их, и темной синагоги
Вовек не огласит торжественный псалом.
Божественный завет, томительный и строгий,
Вовек не прозвучит на языке святом.
Что было раз, того не будет боле,
Былым векам не возвратиться вспять.
Для новых страждущих открыто жизни поле,
А мертвецам вовек уже не встать.
Неутолимые души своей алканья
Они насытили обманом вечных грез,
И злаками томленья и изгнанья,
И горечью невыплаканных слез.
Анафемы озлобленные крики
Толкали их из края в новый край.
От всех дверей, скорбящий и великий, —
Отвергнут был презренный Мордохай.
Но сила им дана, и нашей властью бренной
Твердыни горестной никто не победит.
Развеяны, как пыль во всех углах вселенной,
Они тверды и крепки, как гранит.
Призывы их отцов над ними властны снова,
Им озаряя путь из мрака дней былых,
И все великие предания былого
В веках грядущего отражены для них.
Что было раз – того не будет боле.
Реке времен не возвратиться вспять.
Иным бойцам открыто жизни поле,
А мертвецам вовек уже не встать.
И еще одно, особенно мне дорогое:
В печке огонь веселился, где-то дверьми зашумели,
Задумчиво глядя, молчали вокруг зеркала.
Снега пышного песни за окошком неслышно звенели,
Ты куда-то на миг уходила и снова пришла.
За окном проходили ненужные люди.
В улице беспомощно за огоньки
И плакал я весело – о счастьи, о Боге, о чуде
У белой, холодной руки.
Однако нужно приниматься за Омулевского. Про него я хочу сказать, что он художник, придавленный тенденцией. Любят в нем тенденцию, но теперь, когда для таких подпольных тенденций время прошло, – нужно проверить Омулевского со стороны искусства*. И он сам был неправ, когда писал в стихах, – а что, я еще не знаю…
3 августа. За Омулевского получил в «Ниве» 100 р. – истратил. Работал с ног до головы. На пальце от писания мозоль выскочил. Перевел Джекобса, написал стихи, теперь нужно за Траубеля браться.
Сейчас у нас Дина (беременная) и Кармен. У Ольги Николаевны операция сошла хорошо.
Спасаюсь от самого себя работой.
Снова примусь за работу, – вот только запишу сегодняшнее стихотворение.
В небе ли светлая полночь таится,
В сердце ль моем?
Небо в бреду разметалось и бледными снами томится,
Сердце весенним обвито венком.
Тише молчания, тише лесной тишины
Эти томные стоны весны.
Все словно светлую тайну, заветную тайну узнали,
Словно приветная весть прозвучала для всех.
Девушки в сумраке окон грезят о светлой печали,
И всех осеняет какой-то бесстрастный, какой-то безрадостный грех.
Девушки белых ночей! Как вы тревожно красивы,
Чуда вы ждете, весеннего чуда, и чудо придет.
Меркнущих улиц влекут, и пьянят, и томятся извивы,
В небе и в сердце весенняя полночь, как белая чайка, плывет.
Не знаю числа. Из «Нивы» возвратили мой перевод, над которым я работал 10 дней, не разгибаясь, и за который надеялся получить 200–250 р. У меня от нервов разболелись зубы, и я всю ночь почти не спал. Теперь перевел из Браунинга вот что:
Там, где тает, улыбаясь, вечер синий…*
13 августа. Воспоминания Пассек*. Пасьянсы, люстры, парики, Плениры и Темиры, письмовник Курганова, фальконет, муромские сальные свечи, альбомы, куда вписывались такие строки:
Ручей два древа разделяет,
Судьба два сердца разлучает.
Девицы плакали над стихами.
Сентябрь, 5. Маша говорит: слава Богу, ты не болый и не госый.
111
английскую библиотеку (англ.).
112
Встромляти – окунать(укр.).
113
«Станция Дaнгли» (англ.).
114
«Пиппа проходит»* (англ.).
115
«Загадка Вселенной» Геккеля (англ.).
116
«Король Ричард III».
117
Глостер
Как ваша милость вынесла темницу?
Хестингс
Как должно узнику, милорд, —
С терпеньем; но буду жить, чтоб отблагодарить
Тех, кто причиной были заключенья.
(Действие I, акт 1. Перевод Анны Радловой)
118
Россетти «Внезапный просвет» (англ.).
119
Весь абзац – подстрочный перевод сонета Россетти.
120
Новогоднее бремя (англ.).
121
Пять английских поэтов. Первый сонет (англ.).
122
Strawberry – клубника (англ.).