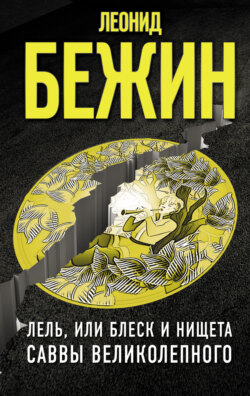Читать книгу Лель, или Блеск и нищета Саввы Великолепного - Леонид Бежин - Страница 11
Папка первая
Покупка Абрамцева
Этюд десятый
Сладилось
ОглавлениеДубовая роща чернела в лиловом весеннем воздухе мокрыми стволами и раскидистыми, тонко прорисованными ветками, белела последними островками снега, картинно красивая, как на полотне искусного пейзажиста. Кто у нас, однако, искусный пейзажист? Иван Иванович Шишкин. Его и поставим с этюдником дубовую рощу писать. Уж он до последней веточки все выпишет. Или Саврасов – тоже мастер… Или…
До головокружения остро, нашатырно пахло оттаявшей землей, прошлогодней грибной прелью, лежалыми, полусгнившими листьями и желудями, перебродившей сыростью неглубокого овражка.
Савва Иванович с Кукиным еще издали увидели в солнечных просветах между деревьями мелькавшую фигуру Головина, худого, поджарого, со смазанным, плохо различимым, бритым (не мужицким) лицом, на котором навязчиво выделялись только плоские губы и закрученные усики, как у приказчика или официанта. Он нагибался к старому, замшелому пню, что-то на нем поправлял, сдвигал, выравнивал – похоже, выставленные в ряд водочные штофы.
Ну да, штофные бутылки (что же еще?), причем не только пустые, но и полные, запечатанные, ослепительно сверкавшие под солнцем узкими горлышками.
Нагибался, затем отходил, отсчитывая шаги, целился и стрелял (бабахал). Стрелял с наслаждением и ненавистью, как в лютого врага.
При успешном попадании стеклянные мишени разлетались мелкими осколками. Головин издавал хриплый, похожий на мычание победный клич, удовлетворенно переламывал о колено и перезаряжал ружье, снова поправлял, отходил и целился по граненым штофам, а иногда умудрялся мимоходом пальнуть и в пролетавших мимо ворон. Бах-бабах!
Ошалелые от выстрела вороны, взметнувшись, словно при взрыве, кружились черной тучей в воздухе, грузно рассаживались по голым дубовым сукам и долго не могли успокоиться – каркали, нахохлившись, топорща перья и переминаясь с лапы на лапу.
Приближаясь к Головину, Савва Иванович что-то в нем высмотрел (зацепил) приметливым глазом и вновь решил потешить себя актерством, разыграть сцену.
– Бросай ружье. Полиция. – Он наставил на стрелка револьвер и с показной медлительностью взвел курок.
Головин опустил ружье, но не бросил, а приставил к стволу дуба.
– Какая еще полиция? Я всю полицию знаю.
– Ты бы еще добавил, что она у тебя на прикорме. Но тут ты, милок, промахнулся. Мы, братец ты мой, уголовный сыск. Прямиком из Москвы белокаменной. На тебя, милый, жалоба поступила. Больно ты всем тут надоел. Велено тебя арестовать.
– Документик сначала покажь… Неча зря пугать-то.
– Документ в участке увидишь, а сейчас собирайся…
– А не врешь? – Головин заподозрил, что его дурят, морочат, берут на пушку.
При этом пожалел, что выпустил из рук ружье. Оно бы сейчас не помешало выяснять отношения с самозваным сыском.
Савва Иванович, с трудом удерживаясь, чтобы не рассмеяться, напустил на себя еще более грозный вид (нахмурился и стал надувать щеки).
– Вот я сейчас пальну разок, и тогда увидишь, вру я или не вру.
– Да, да, револьвер заряжен. Пули казенные – бьют без промаха, в самое яблочко. – Вмешательство Кукина окончательно убедило Головина, что его разыгрывают как мальчишку.
Он сплюнул и без всякого опасения взял в руки ружье.
– Так-то, господа хорошие. Говорите толком, чего вы тут шляетесь. Откуда вы? Кто вам нужен?
Савва Иванович, видя, что занавес опущен, комедия окончена (finita la commedia) и пошел другой разговор, спрятал револьвер, принял предложенные условия и назвал себя своим истинным именем:
– Мамонтов, купец первой гильдии. Покупаю усадьбу Абрамцево, а тебе, голова садовая, готов дать денег, чтобы спасти от долговой ямы.
– Так-то уж и от ямы? – Головин усомнился, что яма не такой же спектакль, как комедия с уголовным сыском.
– А как ты думал! За рощу все не выплатил! Долг за тобой. Вот тебе и яма.
– Достану деньги – заплачу.
– Обещать все умеют, а ты покажи наличные.
– Ну нет у меня наличных, нет! Что ж теперь – удавиться?..
– А раз нет, то и нечего здесь по бутылкам палить и ворон пугать. Полезай в яму и сиди там, баландой из отрубей питайся.
– А вы сказали, что денег дадите. – Головин был хитрец и мастер ловить на слове.
– Дам. Я от своих слов не отказываюсь, ты же, голубь, уступи мне эту рощу. Не для тебя посажена, и не тебе ее под корень изводить.
– Ну, уступаю… – нехотя согласился Головин, ожидая, что за этим последует: останется ли над ним висеть проклятый долг или чудесным образом исчезнет, как волглый утренний туман.
– Бумагу подпишешь? – снова петушиным наскоком вмешался Кукин, особенно дотошный по части всяких бумаг.
– Ну, подпишу…
– Тогда будем считать, что сладилось. По рукам. Только уж чур без фокусов. Завтра я буду у Софьи Сергеевны и доложу, что ты ей больше ничего не должен. Долг твой возьму на себя. Уж очень люблю чужие долги на загривке таскать.
– Спасибо. Буду Бога за вас молить. А Абрамцевом, стало быть, вы теперь владеете. Я поначалу думал, что Трубецкие купят, но они слабаки – не потянули. Значит, теперь вы. – Головин по-новому оценил выгоду, связанную со сменой владельца абрамцевской усадьбы.
– Стало быть, я. Так всем и благовествуй.
– Как вы сказали – Мамонтов?
– Савва Иванович. Запоминать надо сразу, а не переспрашивать. Или ты последнюю память пропил, в кабаке заложил?
– Простите, ради бога. – Повинившись, Головин не мог не похвастаться: – А я когда-то Сергея Тимофеевича знавал. Рос у него на глазах. Он меня привечал. За руку здоровался, грамоте учил, книжки мне давал. Святой жизни человек.
– Ты мне об этом еще расскажешь. Скоро свидимся. Ну, бывай…
– Софье Сергевне мое нижайшее.
– Передам, передам. А сейчас мне пора. Жена заждалась.
Савва Иванович как истинный демократ, воспитанный на Некрасове (и даже посвященный в семейную тайну о некоем родстве Мамонтовых с декабристами), убежденно пожал Головину руку, как пожимал каждому – от простого рабочего, укладывающего рельсы отцовской железной дороги, до инженера и чиновника. Рабочего еще и обнял бы, и поцеловал по торжественному случаю, и водочки с ним выпил: на то он и купец, чтобы не гнушаться простым народом.
Вот и Головину руку тоже пожал, не побрезгал, хотя тот и себе на уме – и польстит, и слукавит – не дорого возьмет. Почувствовав выгоду, норовит еще и обмануть, прикинуться добрым, выдать себя за честного. Но Савва Иванович (ему скоро исполнится тридцать) всяких видал, чтобы разобраться, кто фрукт, кто овощ, а кто и вовсе гнилая ягода.
После церемонного прощания они вместе с Кукиным (тот, правда, в демократы не рядился и руку Головину жать не стал) зашагали назад. Зашагали, не оборачиваясь (Головин им вслед что-то кричал), стараясь не наступать на вороньи перья и осколки разбитых штофных бутылок, от коих шибало в нос водочным запахом.