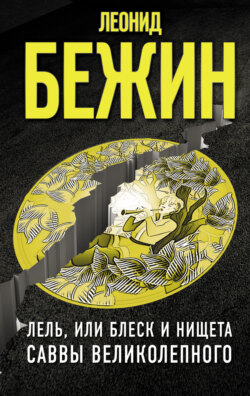Читать книгу Лель, или Блеск и нищета Саввы Великолепного - Леонид Бежин - Страница 3
Папка первая
Покупка Абрамцева
Этюд второй
Последний смотр парадным войскам
ОглавлениеРаньше семья Мамонтовых не раз проводила лето у отца Саввы Ивановича в Кирееве, подмосковной усадебке, купленной им на склоне лет, когда и сил поубавилось, и здоровье пошатнулось, и стала докучать своим шумом и суетой Москва. Вот и возмечталось Ивану Федоровичу о покое, о блаженной сельской отраде, о попыхивающем трубой, гудящем самоваре, растопленном еловыми шишками, о тихой дреме под сенью столетних лип. Тогда-то и подвернулось Киреево, а поскольку почтенный Иван Федорович уже столько лет был вдовец, одиночество его тяготило, волком в глаза смотрело, и ему хотелось… шума и суеты вокруг.
Так уж устроен человек: все, что он от себя гонит, его потом и манит, приваживает. Хотя шум шуму рознь, и одна суета раздражает, а другая ублажает, особенно если рядом хлопочут по хозяйству невестки, ведут умные застольные разговоры сыновья, галдят, носятся как угорелые внуки – топают по чистому полу босыми ножками, сверкают розовыми пятками.
Поэтому все Мамонтовы всегда были в Кирееве желанными гостями, и Савва Иванович с Елизаветой Григорьевной наезжали не так уж часто, но – наезжали. И жили не то чтобы очень подолгу, но – жили.
Старик Елизавету Григорьевну полюбил еще тогда, как впервые увидел и они с Саввой здесь, в Кирееве, сыграли свадьбу. Полюбил навсегда – за девичью красу, строгий нрав, глубокую (не показную) набожность, извечное желание помочь ближнему, рассудительность и сурьезность, как называл он душевное свойство, как раз и отсутствовавшее у ее мужа: тому бы вечно шутить, комиковать, актерствовать.
Во внуках же – Сереже и Дрюше (Андрюше) – старик и вовсе души не чаял. Стоило Сереже к нему забежать – и потом весь рот спелой клубникой вымазан. И Елизавета Григорьевна никогда не скажет, что нельзя перебивать аппетит, клубнику надо мыть кипятком или что-то в этом роде, а лишь улыбнется, поблагодарит и сама спелую ягодку (только что сорванную, прямо с грядки) выберет и со вкусом отведает.
В Кирееве не скучали, поскольку каждому находилось дело. А после выполненного дела и забава всласть. В лесу собирали еловые шишки для самовара, а то и гриб попадется знатный, на крепкой ножке, шляпка полуистлевшим листиком прикрыта – красавец! Рядом же – целая семейка таких же, с Мамонтовыми схожих хотя бы тем, что подобрались от мала до велика, одни во весь рост выперли, другие, малюсенькие, едва из земли выглядывают – всех их сразу в корзину. Вот и лапша к обеду, и такой грибной дух от нее, что язык проглотишь.
Вечерами по-семейному чаевничали: Иван Федорович в центре, на почетном месте, глава купеческого рода, патриарх, а рядом сыновья, невестки, внуки. Чай серебряными ложечками помешивали: зачерпнут, в ложечке подержат, чтобы остудить, и обратно в чашку перельют тоненькой струйкой. При этом сахарку подкладывали, вареньями-печеньями себя баловали и потчевали.
После чаю, пока не стемнело, – прогулки, променады всякие. Иван Федорович, сам не гуляка, называл эти прогулки охотой на комаров и всем предлагал средство, чтобы охотники не особо страдали от комариных укусов. Если зарядят дожди, раскладывали пасьянсы, играли в лото, пели под гитару, украшенную алым бантом, как невеста к венцу.
Савва Иванович, средний и самый неуемный сын, тот и вовсе превратил пустую ригу в театр и поставил спектакль по Островскому – «Грех да беда». Иван Федорович, услышав такое название, чуть не поперхнулся, поскольку привык считать увлечение сына именно бедой и грехом, от которого с юности старался его отваживать.
Но на этот раз отсидел зрителем в зале и отсмотрел всю пиесу. Ни разу не зевнул, не заскрипел стулом, не крякнул от досады. После же за утренним чаем похвалил, хотя не шибко, а то Савва, падкий до актерства, глядишь, так увлечется, что весь аж взопреет, глаза шальные, как в юные годы бывало, и о делах напрочь забудет.
Делами же он уже потихоньку ворочал, и Иван Федорович, испытав его на крутой подъем, как справного конька, все больше и больше сына нагружал, приохочивал, приучал его к купеческому ремеслу. Чтобы спасти от греха, от Москвы с ее театрами и богемным закулисьем, а заодно от фармазонства и вольномыслия, коего Савва наглотался в разных студенческих кружках (по этому поводу было получено анонимное письмо), послал его в Баку.
Городишко старый, с кривыми улочками, мечетями, минаретами, гортанными базарами, плоскими крышами, на которых ужинали, а в душные ночи спали. Там Мамонтов-старший владел нефтяными промыслами и торговыми факториями. И Савва исправно отсиживал в конторе, постигал великую науку под названием Бумажная Волокита. Словно бусинки на четках, перебирал он цифры, разбирался в счетах, ведомостях, всякой торговой бухгалтерии и мечтал лишь о том, чтобы отец наконец сжалился и забрал его домой.
Об этом он молил Ивана Федоровича в письмах, но тот не спешил с отцовским благословением на возвращение в Москву (для кого Москва, а для кого – Вавилон). Перебирание бусинок продолжалось, но к этому добавились частые прогулки по вечернему, остывающему от зноя Баку, изучение местных нравов и юношеская истома от созерцания гибкого стана и зазывных (из-под паранджи) очей здешних зулеек. Это скрашивало жизнь, наполняло ее если не разнообразием, то надеждой на то, что ему еще улыбнется счастье, сквозящее, как косточка в мякоти винограда.
По торговым делам довелось ему и в Персии побывать и даже вести груженный тюками караван из семидесяти верблюдов. С ним был верный телохранитель с кинжалом и в высокой косматой шапке – Савва для простоты звал его Ала-Верды. Путь пролегал из Шахруда в Мешхед: выжженная солнцем степь, сухие колючки, поросшие низким кустарником горы, словно горбы верблюдов, узкие, холодные теснины. Миновали небольшие города, похожие на различные фигуры, сложенные из городков: Мейамей – Аббасабад – Мезанан – Себзевар – Нишапур. Ночевали в караван-сараях, а однажды пришлось заночевать в горном духане с застоявшейся сладкой вонью, на земляном полу…
В Мешхеде не обошлось без приключений: Савва чуть не лишился всего товара, поверив на слово лукавым персам. По молодости попался на удочку мошенникам. Но не оробел, не раскис, лица не потерял и показал этим персиякам, что русские так просто не сдаются и за себя постоять умеют…
Словом, заручился нужной поддержкой и сполна получил деньги за товар…
Наконец кончилась эта пытка, и отец забрал его домой – с самыми лестными отзывами и отличными рекомендациями. Выдержал! И выдержал с достоинством!..
В Москве на Ильинке торговал ламбардским шелком. И замоскворецкие купчихи, а то и благородные матроны, советуясь с ним, словно с искушенным знатоком дамских капризов, выбирали отрезы на платья, чепчики, прозрачные как воздух шарфики, накидки и платки.
Отец прямо ни во что не вмешивался, но исподволь советовал, направлял, сводил Савву с нужными людьми, подсказывал и… как не порадеть родному человечку… устраивал его в те места, где он набирался опыта и сноровки.
В гимназии-то Савва успехами не блистал, первым учеником не был, науки и языки ему не особо давались. Латынь и вовсе брал измором, засыпал над учебником, но так и не освоил: оказалась не по зубам. И вот теперь под началом Ивана Федоровича нагонял упущенное, наверстывал, набирался опыта и сноровки.
Но в воздухе уже витало, маячило, зловеще посверкивало предвестие беды. Иван Федорович стал чаще задумываться, но не так, как думал он о делах, прикидывал, подсчитывал, а иначе – отрешенно и безучастно смотрел в одну точку. И не слышал, когда к нему обращались. Его старались растормошить, отвлечь, развеселить, и он сам охотно поддавался на такие попытки. Приказывал себе, как солдату, быть этаким бравым молодцом: ать-два-три-четыре. Так он бодрился; не вставая с кресла, маршировал под взглядами родных и близких, чтобы раззадорить – если не себя, то хотя бы их.
Восьмого августа тысяча восемьсот шестьдесят девятого года, вернувшись из Москвы, Иван Федорович взял на руки Дрюшу и повез кататься, совершать смотр парадным войскам – стройным рядам молодых, недавно посаженных сосенок и елок. Смотром остался доволен, раскраснелся, повеселел. Вечером, после самовара, когда стемнело и выплыла из-за облаков матовая луна, устроил для внуков фейерверк и сам больше всех радовался взлетающим в небо гроздьям разноцветных огней. А на следующий день слег – с воспалением брюшины, как определили врачи. Десять дней промаялся и умер.
Похоронить решили в Алексеевском монастыре, как и сам он того хотел. Место выбрали загодя, и могилу вырыли быстро, поскольку земля была теплая, рыхлая, смоченная дождями. Опустили гроб, бросили по горсти земли, постояли молча, утирая слезы, и пошли поминать – просить для умершего Царства Небесного: честным и упорным трудом заслужил. И для семьи, и для отечества постарался. И купечества русского не посрамил.
Позаботился Иван Федорович и о завещании, скрупулезно отписал, что кому следует. Киреево отошло не Савве, который хоть и лечился в Италии (а больше не лечился, а учился – оперному пению), но все же здоровьем был крепок, да и мог себя обеспечить, поскольку прочно стоял на ногах. Что ему Киреево – он себе с десяток таких имений купит. А вот Федор, старший сын Ивана Федоровича, в честь своего деда названный, не из таких – болящий, и не телесно, а душевно: затмения на него находят, не владеет собой, с нервами не в порядке.
Да и не работник – в отличие от Саввы. Птица пфуфырь (есть такая) ему на темечко села и дырку проклевала. Потому и ветер в голове: сам себя не прокормит. Вот Киреево и отписано ему (другой же сын, Анатолий, женился на певичке, отцу на глаза и вовсе не показывался). Савве же завещан особо ценный пакет – контрольный пакет акций Троицкой железной дороги. Завещан, чтобы деньгу наживал, капитал отцовский множил и теперь сам своего конька гнал в гору – рельсы по Руси прокладывал и поезда пускал.
Так-то, православные.