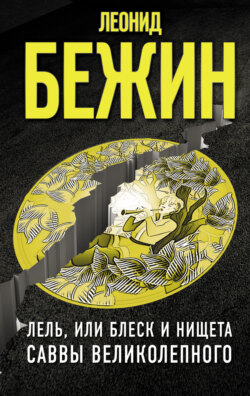Читать книгу Лель, или Блеск и нищета Саввы Великолепного - Леонид Бежин - Страница 17
Папка вторая
Автопортрет на фоне сада
Этюд четвертый
Савва Великолепный, Ильеханция, Дрюша и Яшкин дом
ОглавлениеОднако почему я об этом так подробно рассказываю? Неспроста, знаете ли, неспроста. На то есть причины, заставляющие поразмышлять о прозвищах и их значении для той эпохи, когда складывался Абрамцевский кружок, когда все дружили, шутили, смеялись и переиначивали имена друг друга, наделяя их новым, подчас неожиданным смыслом. Одно слово – художники, для которых так важен штрих, завершающий мазок, придающий портрету законченность. И прозвища были таким своеобразным мазком…
В семье Саввы Ивановича прозвищами охотно баловались, и это баловство и дурашливость перекинулись на его окружение, а там и пошло, и пошло. Изобретение шутливых прозвищ стало не просто забавой: оно придавало особую свободу и непринужденность общению. В конце концов прозвище – признание в любви, недаром начало всему положили романы Толстого, где все так восторженно любят друг друга, где наряду с непроницаемой светской парадностью, умением себя держать на балах и официальных приемах царит особая домашняя интимность.
Степан Аркадьевич Облонский не был бы Облонским, не будь он к тому же Стивой, а его жена Дарья Александровна не воспринималась бы как законченный образ без ее семейного прозвища – Долли.
Выражаясь по-ученому (а я иногда к этому склонен, поскольку садоводство – истинная наука), такова была эпоха перехода от века, названного золотым, к тому, который вскоре назовут серебряным. Имена раздваивались на собственно имя и – прозвище, и меж ними, как между заряженными пластинами, возникала особая тончайшая вибрация, проскакивали некие электрические разряды, проносились флюиды, придававшие особую терпкость семейным отношениям, дружбе и любви. Впрочем, не буду мудрствовать, а лучше назову примеры, из коих все станет ясно (хотя иногда ясность и затемняет суть дела).
Савву Ивановича в Абрамцевском кружке прозвали Саввой Великолепным – на манер Лоренцо Великолепного из рода Медичи. Первым это прозвище употребил мой неполный тезка Михаил Васильевич Нестеров – и употребил даже не столько всерьез, сколько с известной шутливостью, иронически, поскольку Савву Ивановича недолюбливал и занимал сторону его жены Елизаветы Григорьевны (почему стороны разделились – об этом сказ впереди). И смысл этого словоупотребления примерно был таков: вот, мол, Мамонтов пыжится, из последних сил стремится уподобиться Лоренцо Медичи, но при всем своем кажущемся блеске и великолепии, при миллионных капиталах все равно останется самым обычным и заурядным Саввой.
Однако прозвище подхватили, и ирония вскоре благополучно выветрилась и забылась. Забылась, поскольку эта ирония недолговечна, как любая ирония, – в отличие от любви. Савву Ивановича же все по-настоящему любили, да и просто обожали, несмотря на присущие ему недостатки – черточки деспотизма, бесцеремонности и барского самодурства.
Художника Илью Семеновича Остроухова в Абрамцеве звали Ильеханцией, что отвечало его высокому росту и нескладной фигуре. При его приближении казалось, что действительно грядет некая Ильеханция, похожая на пожарную каланчу или раскачиваемую из стороны в сторону стенобитную башню, которую подтягивают за канаты к крепостным стенам. Тут уж стенам не устоять, поскольку всем было известно, какой пробивной силой, умением добиваться своего и устраивать дела, сметая все препятствия, обладал Ильеханция – Илья Семенович Остроухов.
Пожалуй, в этом у него был лишь один соперник – Сергей Павлович Дягилев, но он не из нашего кружка, и поэтому тут я умолкаю. Впрочем, перед тем, как умолкнуть, замечу, что для некоторых членов кружка (таких как Серов) Дягилев – обаятельная личность, предмет обожания и несомненный кумир. Да и сам Мамонтов к нему благоволил, недаром подпирал своими капиталами журнал «Мир искусства».
Дягилев же на примере Мамонтова понял одну хитрую штуку: русских русским искусством не удивишь. Только потратишься себе в убыток. Значит, надо им удивлять Париж. И повез русское искусство во Францию, а там был полный восторг, цветы и овации. Только о Мамонтове уж никто и не вспомнил, поскольку Сергей Павлович затмил его своим блеском и своим успехом. Но все равно… вся хитрость моей штуки в том, что сначала все-таки был Мамонтов, а затем уже Дягилев…
Константина Коровина с подачи Саввы Ивановича звали не иначе как Костинька, и невозможно было по-другому при его легком и веселом нраве, общительности, безалаберности, доброте и искрящемся юморе. Маленький Всеволод, родившийся третьим, получил прозвище Вока. Андрюша, второй сын Мамонтовых, стал для всех Дрюшей: первые две буквы не понадобились, его имя укоротилось, ужалось, усохло, как… шагреневая кожа.
Если его отец куролесил, давал волю страстям, богатырствовал, то Дрюша не был богатырем. Силушка в нем не играла. Он отличался слабым здоровьем, много болел, хотя и позировал для картины Васнецова «Богатыри» как Алеша Попович. Подавал надежды как художник, участвовал в росписи киевского Владимирского собора, мечтал стать архитектором, но прожил недолго, скончался в тысяча восемьсот девяносто первом году от простуды. Его смерть стала страшным ударом и для семьи Мамонтовых, и для всех художников Абрамцевского кружка. Я тоже тяжко переживал эту утрату.
Похоронили Дрюшу в часовне абрамцевской церкви Спаса Нерукотворного, сообща построенной художниками и семьей Мамонтовых.
Я часто прихожу на его могилу – постоять, склонив голову, перекреститься, затеплить свечу, накрывая ее ладонью. И горло перехватывает, судорога пробегает по лицу, подергивается щека, и я по-стариковски всхлипываю, хватая ртом, втягивая воздух и торопливо вытирая слезы. Вспоминается не только Дрюша, но и все те, кого я потерял в этой жизни и кому не успел дать шутливого прозвища…
Однако прозвища давали не только близким людям, но и домам. Тому примером – Яшкин дом, возведенный Саввой Великолепным для многочисленных гостей. По свойственным детям собственническим устремлениям и желанию завладеть всем, что их окружает, маленькая Веруша считала этот дом своим. Ее же поддразнивали шутливым прозвищем Яшка, поскольку уж очень она любила якать и при малейшей возможности себя выпячивать. Бывало, только и слышалось по всему дому: я… я… я… я… Хоть уши затыкай. Поэтому дом и прозвали Яшкиным, соединив в этом прозвище две черты Веруши: ее отчаянное ячество и собственнические инстинкты.
Веруша тоже умерла молодой и тоже от роковой для Мамонтовых болезни – простуды, как и ее бабка, мать Саввы Ивановича, как брат Дрюша и как сам Савва Великолепный, подхвативший простуду уже стариком – зимой тысяча девятьсот восемнадцатого года.