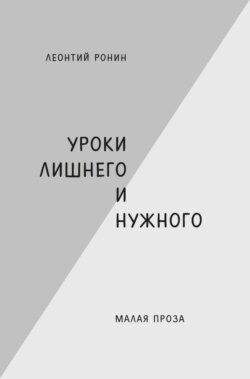Читать книгу Уроки лишнего и нужного - Леонтий Ронин - Страница 5
Миниатюры[2] или Всячина всякая
«…Ну что Париж?»
ОглавлениеПроходом кресел неспешна раздача заоблачного питания.
Красное вино – 187 грамм, точно в аптеке.
Но пары хватило почувствовать себя гражданином мира.
В узком и легком смысле – меж небом и землей; а в проходе кресел у в и д е т ь строчку: рука с псориазом развернула «Фигаро».
Через полчаса испарится мировое гражданство, стали спускаться. Ниже мини-самолет, светлый, как нательный крестик.
И движется, кажется, боком. Что-то из разных плоскостей, плюс скоростей?
Если теперь нельзя путешествовать в карете или возке…
А ежели по воздуху, ковром-бы-самолетом.
Только не авиалайнером.
В этой консервной банке, где анестезируют бешеной скоростью, искусственным давлением, дозированным кислородом. Открываешь глаза с ударом колес о бетон при посадке – как оказался за тысячи верст от дома?
E-два, е-четыре, только и всего.
Текут люди, ручьи от боковых улиц, реки по главным.
Разлились озерами, зрелище у центра Помпиду или митинг на площади Республики.
Людские водовороты в подземелья метро.
Запруды у плотин красного света – и отпущено катят встречные волны на зеленый.
Мгновенья плывущих мимо лиц…
Усы солидного господина заточены пиками острых стрелок: восемь часов, двадцать минут. Глубокая морщина на переносице, отчего глаза другого сеньора сидят, кажется, на дужке пенсне.
Просторный комбинезон, словно белый хитон.
Черные кудри схвачены лентой через лоб.
Рабочий вцепился в крестовину ограждения, свободная рука тянется что-то достать: распят на строительных лесах.
Угол узкой улицы облюбовали путаны.
Помоложе мило улыбается, кивнуть ей приветливо…
Другая, совершенно Кабирия, независимо и недовольно отворачивается, словно ее чем-то обидел.
Она родом с Кавказа, ее кличут Ляля Кебаб.
В полдень шабашут коллеги «распятого» мастерового.
Собирая капли вина в последний глоток, рабочий высоко задрал пустую тару – будто подзорную трубу.
Перед центром Помпиду зрители на траве, амфитеатром по склону газона.
И выше, по балкону бульварной ограды.
Мелкими волнами плещет недружный аплодисмент простеньким фокусам и жонглированию уличных циркачей. Смеются шуточкам ниже пояса.
Площадь Республики шумит митинговыми банальностями.
Кроме хлеба зрелищ, пипл ищет и крови красных, хотя бы, флагов?
Или ностальжи по баррикадам у парижан в генах?
Не отбирайте игрушку у ребенка, красный флаг у ветерана – детство и старость так быстротечны…
Синие полицейские автобусы картинно катят с мигалками и сиренами, неспешно и бережно тормозят.
Будто важные чины прибыли, не ажаны.
За тонированными стеклами эти vip-персоны должны бы сидеть развалясь, нога на ногу – так расслабленно и нехотя покидают машины.
Высокие ботфорты, шеломы на головах – хоккеисты…
Только игроки, кажется, не настроены бороться и победить.
Так, поприсутствовать решили, чем победа уже обеспечена. Митингующие не глянули на блюстителей, тем оставалось лишь покурить на свежем воздухе.
Городской патруль плывет на роликах – он и она, разве за руки не взялись, влюбленные…
Парочка при исполнении: дубинки, наручники, пистолеты, но улыбчивы и спокойны.
А вот и три товарища в легкомысленных, непонятно как держатся, пилотках. Полицейские словно гуляют по городу, мило беседуют.
Останавливаются – что-то важное в общем разговоре.
Спорят и жестикулируют.
Может, после смены идут пропустить стаканчик?
Но профессиональный укол бокового зрения – тип слишком пристально их разглядывает…
А тот любуется черными мундирами.
Ладно пригнаны, точно на моделях сидят.
В самом деле, свалился с иной планеты, людей не видел?
Да, на его малообитаемой лица иные.
Нередко похожи стражи порядка и братки из черных джипов.
Тех и других лучше огибать за версту. И не дай бог пялиться бесцеремонно на физиономии…
Таинственные фигуры в черном – разрезы вместо рукавов, крылья за плечами…
Театральные кулисы, прячут легкое, бесплотное.
Невольно ищешь взгляд под невообразимой шляпкой, или накидкой-капюшоном, или подобием вуали – но они лишь рампа сцены, где живет пара блестящих глаз, стреляющих навылет, не говорящих о возрасте; вечность, из которой они пришли сюда на миг.
Черная фетровая шляпа прошлого века поверх теплого коричневого платка. Длинное пальто тех времен – за витриной, в глубине магазинчика, в старинном кресле, царственно беседует с хозяйкой… профиль Анны Ахматовой!
Хозяйка нервно суетится.
Гостья величественно немногословна, больше говорят руки, с пальцами красивыми и тонкими не по летам: парижанка…
Из сумки, в ее коленях, собачонка на фигуру за стеклом тявкнула – не понравилась…
Сеньора тоже глянула.
Кивнуть – глупая двусмысленность. Пожалел, что ношу бейсболку.
Почтительно бы приподнять шляпу…
У перекрестка, перед красным, изысканно тонкий профиль молодой дамы. Трость-зонт с вязью черно-белой ткани и золотого цвета ручкой.
Индийский плат на плечах.
Но взгляд туманный, будто не в фокусе.
Строг и вовсе не добр, профиль обманул.
На зеленый она шагнула, опираясь тростью и сильно хромая.
Плечи закачались чашами весов, а под платком обнаружился невеликий холмик.
Быстро и деловито ее обогнала девица с кошкой на плече. Серебряная сбруя по блеску черной шерсти и белые джинсы смотрелись, хочется сказать, островагантно – совершенство юной фигуры в идеальной оболочке из современной ткани.
А эти стоят в кружок.
О высоком градусе спора можно судить по жестам возмущенных рук.
Презрительным гримасам.
Осуждающим взглядам и нетерпеливым движением головы, откидывающей волосы. Но голоса журчат еле слышно – ручей в лесу.
Велосипедистов целая семья – папа, мама и дочери.
Совсем маленькая на багажнике мамы спит, крепко схвачена ремнями.
Даже на свидании мадмуазель вяло крутит педали, он бодро шагает рядом. Говорят, смеются, переглядываются нежно – мадонна в седле…
Бездомные улиц Парижа не походят на наших бомжей, немытых и мало берегущих свою полупьяную жизнь.
Здесь они клошары, вроде бы романтики-бродяги, почти туристы.
Под стеной бульвара по берегам Сены ожидают парохода в счастливую страну.
Дым костров коптит камни берегового откоса.
От дождя, снега и тумана навес из прозрачной пленки. Ждут, похоже, давно…
Угол улиц Святого Антония и Риволи, девочка под теплым одеялом.
Мама устроила «окоп» из пустых коробок, чтоб не дуло.
Сидит в ногах ребенка, спокойно и негромко говорит, может сказку, про ту счастливую страну?
Спиной к автомобилям у бетонного столба, алый подбой «аляски». Небрит и обветрен.
Что называется, огонь, вода и все остальное за плечами, чисто разбойник…
Ноги вытянул, мешают прохожим.
Вязаная шапка рядом: «положи варнаку краюху, чтоб дом не разорил», – сказали бы в Сибири.
И быстро пишет в толстую тетрадь – «записки у обочины»?
В пустом вечернем переходе эстет и любитель комфорта.
Легким барьером, такие ставят на гаревой дорожке бегунам, демаркировал занятое пространство.
Свое, хотя бы на ночь.
Надувной матрац, белоснежный пододеяльник.
Рядом скамейка, где стакан и бутылка воды.
Этот на шумной улице в нише здания, тонкий тюфячок…
Собака спиной греет хозяина, тоже спит.
Жалкий скарб чуть в стороне. Да кто покусится?
Молодые негры пританцовывают под барабан пластмассового кейса. Раскачиваются, что-то африканское репетируют, шляпа на асфальте с монетами.
Лица грубо рублены от целого ствола.
Или выбиты из глыбы черного гранита, без отделки и шлифовки.
Волос свалялся в толстый войлок.
…Вот он, желанный пароход!
К бордюру причалил белоснежный лимузин. Не сразу дверь отворилась.
Дама с красным крестом на куртке несет человеку, он сидит на камнях, свежий «французский» батон.
Другая, следом, пакет, достает: носки, полотенце, брюки спортивные, постельное белье.
Первая, с батоном, опустилась рядом.
Человек тычет щеку: здесь болит…
То же место она трогает у себя, долго не убирают пальцев.
Он коротко продолжает спрашивать.
Она терпеливо объясняет.
Шофер, тоже с пакетами, расположились вокруг.
Тема, очевидно, зуб, что беспокоит.
Беседуют дружески, словно давно знакомы, неспешно и обстоятельно.
Когда, наконец, подымаются, жмут его руку…
В Париже солнце и холодный ветер из России: в Москве снег и минус два. Здесь каштаны в огромных кадках.
Их белые цветы – маленькие весенние елки, или новогодние свечи.
Люди в майках и… дубленках; легкий пиджак распахнут; шарф этаким немыслимым кренделем, точкой над «и» парижского шарма.
В сквере острова Ситэ утка неловко прыгает на одной лапе.
Мокрая и жалкая, квохчет, разинув клюв.
Селезень преследует, сухой и красивый.
И никакого сочувствия даме…
Забилась под скамью, отряхивается, чистит перья.
Он неподалеку, наблюдает и ждет.
На траве любовным бутербродом другая парочка.
Целуются, им не холодно.
Художник дремлет в гамаке, узком, как раскрытый стручок.
От тяжести тела створки почти сомкнулись. Ветер покачивает цветастую люльку.
Рисунки внизу прижаты камнями.
С дерева бог послал…
Может, птичка метила в раскрытый блокнот, не нравятся эти записки?
Но ее критическое «фи» попало на рукав.
Или хотела оставить свой след в словесности – и тоже промахнулась…
Живет друг в обычном муниципальном доме, где цветы и ковры в холле. Десяток велосипедов, мужских и дамских, молча льнут друг к другу, пока хозяева не спустятся с этажей…
В окнах через дорогу раздвинуты шторы.
Полумрак вокруг зеленого абажура не разгоняют язычки мерцающих свечей.
Скачет по комнате обезумевший заяц – свет телеэкрана от частой смены кадров.
Дама в пижаме склоняется к абажуру, он на низком столике – теперь солнечное затмение ее круглым задом зыбкого ореола горящей лампы.
Сцены домашней жизни, похоже, не принято особенно прятать от сторонних глаз.
Значит, и смотреть не грех, все свои, все парижане…
Утром другого дня в дверях балкона та же, решил он, дама, в голубом халате.
Пятернями забрала назад длинные волосы, открыв лицо… мужчины.
Он ушел в черный квадрат комнаты, за пластиковой, оказалось, бутылью.
Через ажурный чугунный бортик поливает цветы, лишняя вода прерывисто трассирует каплями вниз.
Снова скрылся в квадрате.
Там лег, или сел на его границе, теперь рука с сигаретой появляется и исчезает на черном фоне – «разговаривает» с кем-то в глубине помещения.
Сюжет окончательно запутал фокус, когда из того же пространства возник негр в белой майке – крупно кусает от длинного батона, жадно прихлебывает из желтой кружки, по-хозяйски оглядывает улицу.
Может, владелец двухместного кабриолета?
С откинутым верхом простоял внизу ночь – ну, не чудо ли, еще одно, Парижа?
Впрочем, все же свои…
…Можно спрятать шарф в сумку, если мадмуазель лишена воображения.
Но скользящая на роликах устроила его бантом рюкзака; красный хвост празднично вьется следом.
Девице мало победного полета, еще перекатывает матового стекла шар, с ладони к плечу и обратно – Жанна Д’Арк, играет пушечным ядром на пути к баррикадам.
У площади Сен-Жермен тротуарный блюз женщин: кларнет, саксофон, «ударница», джазового, разумеется, труда.
Танго «Маленький цветок» не сразу узнал.
И догадался: джаз – когда импровизируют вразнобой, но все об одном…
Армстронг прав: если спрашивать, что такое джаз, никогда этого не узнаешь.
В лавке крепкий цветочный настой.
Видел здесь всех, ее не было – выпорхнула из цветов, как бабочка.
В руках горшок с крошечными розами. «Правда, хороши?» – спросили ее глаза, естественно, по-французски. Ответил, беззвучно улыбаясь, тоже глазами, по-русски: «Да, правда, но вы хороши необыкновенно».
В тесном проходе не разминуться.
С трудом разошлись.
А зря.
Всегда бы помнить, половинки божьего замысла обречены на поиск друг друга, да редко счастливо встречаются, что тоже в замысле, и коварно.
…Но однажды ищем и вспоминаем во сне единственную женщину – маму. Ради ничтожных, случайных дам, не замечая достойных, из коварства того же замысла, заставляли ее плакать.
Имен не помним, думать забыли.
А слезы те все жгут.
…Гигантский квадрат ее опор, как подножье космического корабля, всегда готового к пуску.
Лениво, кажется, ворочают сами себя огромные колеса подъемников.
Стальные переплеты корпуса подсвечены желтыми лучами, и навстречу течет вязь золотых конструкций, слегка кружа голову.
На первой смотровой площадке палуба долго не может прибиться к причалу. Дергает – выше, ниже.
От этих конвульсий взвизгивают и ахают дамы.
Так в шторм корабль с трудом швартуется высадить пассажиров на качающийся берег; или встряхивают мешок, чтоб больше вошло.
Теперь пересадка – лифт ко второй ступени корабля.
Очередь здесь короче. Выше стремится, в основном, молодежь, шумно предвкушая полет к небу. Где море огней отхлынуло к горизонту, подальше от центра.
Он освещен скромно.
Световая реклама не агрессивна.
Лишь по каналам главных улиц текут реки автомобильного света и огромный огненный хула-хуп неспешно вокруг Триумфальной арки…
Как и положено главному маяку порта, его морские прожектора ведут круговой луч: каждый в своем сегменте подхватывает эстафету и скользит по охре ближних крыш, будто режет в ночи крупные куски пирога с шоколадной корочкой.
В ярко освещенной каюте Александр Гюстав Эйфель.
Одет просто, скромно умостился на краешке стула.
Застенчиво и почтительно тянет руку к фонографу, подарку Эдисона.
Денди лондонский, тот в светлом костюме последней моды.
Высокие ботинки желтой кожи.
Сигара в пальцах, нога на ногу, развалился в кресле.
Подобно современникам тоже находит эту городскую каланчу, железную даму, пошлой безделицей, глупым и бессмысленным нагромождением металла.
А глупышка шагает себе символом Парижа, славя своего создателя…
Которому автор присвоил звание «капитан порта Париж».
Над каютой Эйфеля в небе странная конструкция.
Может, ее ради и вся затея?
Металлические нити тянутся к звездам и по сторонам света; закручены в спирали, спутаны в мистический колтун – загадочная антенна шлет сигналы родственным душам?
Бесплатный Лувр не бесплатный сыр.
Попасть под купол стеклянной пирамиды – помайся-ка в длинной очереди, пока, наконец, ряды блестящих турникетов гигантской мышеловки бросят на конвейер эскалатора и опустят в чрево музея.
Подземное чистилище, пардон, кошельков магазинами, салонами, ресторанами. Увидеть Мону Лизу жаждет не рыхлая одиночная очередь, как у входа в Лувр, но плотная масса тел в отведенном ей коридоре из коричневых ленточек, где людей закручивают в ряды спиралей.
И в этих змеевиках, как на керамике старых электроплиток, они медленно и тупо движутся встреч друг другу, что походит на странный групповой танец.
А мимо Моны, забранной под стекло, уже не останавливаются, тянут шеи, разглядеть.
У Венеры Милосской тоже густо, но тут лишь плотное полукольцо тонких ценителей.
Вспышками фотокамер слепят друг друга, «стреляют» снизу, справа, слева, терпеливо кладут на видео.
Этакие папарацци вокруг принцессы Дианы.
Разглядывать будут, очевидно, потом, по возвращении домой – «эпоха ксерокса, сэр»…
Не столько циник, сколько патологоанатом с комплексом садиста, этот странный художник…
Будто ему мало рабочей занятости профессией.
Желает длить мгновения восхитительного общения с изуродованными клиентами, у которых расплющены лица, расколоты черепа, оторваны носы и уши, тела скрючены в пламени, раздавлены упавшими стенами, истерзаны взрывами.
Но, может, он пророчествует?
И в дорогих рамах препарированные пресервы будущей действительности подносит на блюде больших полотен в благостной тиши музейных залов?
А публике уже мало такой пищи на телеэкране – смакует, солидно от одной расчлененки к другой…
Вернисажный бомонд музея Майоля – тонкие парфюмы, галстуки и драгоценности.
Причесан и побрит, сдержанны жесты и манеры. Перемещается по зале как бы не случайно, с достоинством, виртуозно и ловко – так ножом и вилкой находят кусочкам говядины кратчайший путь к горчице на краю тарелки.
Из амбразур в стенах собора таращатся химеры – бесконечная шея с каменной мордой, без рук, ног, туловища.
В три человечьих роста дверь подалась легко – а там гудит воздух, сотрясая, кажется, стены и своды.
Само время словно дышит трубами органа.
Века клубятся в этих пределах.
Их бездну чувствует потревоженная душа, которую держим в черном теле, суетном и грешном.
И редко балуем мгновениями божественного света.
Спинами прихожан зашаркан серый камень колонн и стен, а запах веков походит на запах пыли.
Но даже в солнечный день свет от окон под куполом не опускается к подножию.
Чтобы каждому было понятно: светло там, наверху…
Страж ворот медицинской академии за стеклом искоса глянул, не подняв головы.
Встретили и закружили тихие дворики – овальные, квадратные, неправильной формы.
Крытые галереи с анфиладами колонн из белого камня.
Мраморные мантии патриархов медицины в глубоких нишах. Магнолии и сакура, а может просто вишня. Нет скамей, присесть.
Только птицам дозволяется в этом раю.
Счастливо щебечут на ветках, во множестве, со всего Парижа, словно, здесь укрылись от апрельского ветра.
Белый камень, белый мрамор… и ни души на белом свете?
Неширокий коридор к низкому своду в пещеру.
Там, в глубине, в таких же мраморных одеждах, капюшон на голом черепе… прячется смерть.
Черная бездна пустых глазниц – озноб по спине.
Бросив на асфальт куртку рядом со шляпой – посреди тротуара вдруг на колени юноша.
Волосы повисли, закрыли лицо.
Люди обтекали его безучастно, словно вода – ненужную сваю бывшего моста.
Подсвеченные набережные Сены с башнями и шпилями.
Настил моста чуть пружинит, слышат ноги.
В зазорах досок качаются звезды огней в реке.
Ближе к перилам, как на травке, «столы» – полотенце, салфетка, лист ватмана.
Фужеры на тонких ножках.
Под «столами» теплоходы. «Хорошо сидят», – позавидовал…
Да, каждый месяц первого числа Лувр открыт желающим.
Прибыла и королева Англии.
Не ради, конечно, бесплатного посещения музея…
Дождик моросит.
Париж накинул плащи.
Поднял капюшоны и раскрыл зонты.
Полицейские походят на мушкетеров, треугольники белых накидок расклешены понизу.
«Мушкетеры» закрыли движение с поперечных улиц, пока следует королевский кортеж.
Толпа наблюдает виртуозное соло полицейского для свистка и жеста белой перчатки.
Дневной свет уходил. Стены замкнутого двора Лувра таинственно розовели. Так разгорается театральный занавес перед спектаклем.
Камень превращался в потемневшее от времени золото, пока сдержанно растекалась тонкая подсветка стен.
Площадь внутреннего пространства обратилась в черный квадрат, нежно шелестят в полутьме струи неосвещенного фонтана.
Скрипач у дальней стены.
Мелодия из «Орфея и Эвридики» – жизнь и смерть, и вечная любовь – звучит, казалось, рядом, у золотых стен с причудливыми тенями каменных фигур, выступов, карнизов и кариатид. – Мерси боку, – чуть склонил голову, когда монеты звякнули в пустом полиэтилене на асфальте.
Пара влюбленных у фонтана, десяток одиноко бредущих фигур – вся публика концертного зала.
Возвращался случайными переулками, темными тротуарами, и ни души.
Таблички улиц ничего не говорят.
Еще перекресток – куда грести?
Двухместный «Смарт» от небольшой тени у колес рулит как бы несколько боком, а катит прямо, может это нос майора, бегущий хозяина?
Гордая горбинка, глубокие ноздри страстно дышат огнем…
«Нос» развеселил.
Повернул за ним – и стрелы: «Лувр» – «Площадь Республики».
По шумной Риволи, домой вернулся.
– Где шлялся?! – сердито встретил друг.
Лучший ужин – сыр и вино.
От батона с пропеченной корочкой ломают руками.
Щенки разных пород в клетках с белой стружкой весело задирают друг друга.
Нюхают палец, прижатый к стеклу, и крутят дружески хвостиками. Спят на боку, калачиком.
На спине, раскинув «руки» и «ноги», как дети. Голова в миске, а там стружка вместо еды – мягкая подушка.
Птичьи вольеры походят на трибуны стадиона.
Ряды ярусов полны птичьего народа.
Тесно, локоть к локтю, то бишь, крыло к крылу.
Особо нервные «тифози» скачут по рядам, машут крыльями, толкаются и галдят.
Но большинство чинно и покойно, ожидает начала матча…
Как нечаянный привет «коряги» из стволов, корней, толстых веток.
Тоже едва тронуты рукой – убрать грязь, землю, труху, чтобы в обычной гнилушке обнаружить почти реальную, но лучше фантазийную, фигуру зверя или птицы.
А то и скульптурный портрет деревенского соседа; девицу, лежащую на боку…
Из подобных шедевров, без кавычек и ложной скромности, у него экспозиция от «Адама», «Евы» и «змея-искусителя» в райском яблоневом саду, сразу за домом и грядкой лука; разбросана по усадьбе и завершается там, где огромный олень, сколок разбитого небесным огнем векового дуба, в последнем, но вечном прыжке распластался по бревенчатой стене дома.
Яркая голубая заплата на строгом сюртуке Парижа – Центр Помпиду. Небоскребы уродами торчат, слава богу, далеко по окраинам.
Четыре революции здесь не разрушили храмов, России одной достало все, почти, разорить.
Может, потому трудно живем до сих пор?
А Маяковский еще мечтал – всемирная пролетарская превратит и Собор Парижской Богоматери в кинотеатр…
С нарочитой доброжелательностью в глазах подкатил художник. Нетрудно понять из его французского или итальянского: «портрето, портрето».
Ткнул в грудь себя, потом его – сам, мол, арт, тебя нарисую, зачем-то соврал.
– А-а… – поверил и закивал, протянул холодную ладонь. – Коллего, коллего.
Так принят был в союз художников Монмартра.
И никто больше не пожелал писать его портрет.
…Как там оказался? Кто вооружил волшебной оптикой первого взгляда – видеть витающий вокруг предмета нимб его художественной сути?
«Не захочешь, а воспаришь» – этот самый Париж?
«Ах» – Париж! «Эх…» – Мало… «Ох…» – Пожить бы.
«…н у ч т о П а р и ж? Дома там пониже, толпа пожиже, авто пореже. А вот зелени в Москве больше!»
(из разговора)