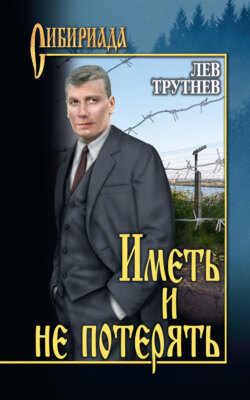Читать книгу Иметь и не потерять - Лев Трутнев - Страница 1
Братья
Глава 1
Оглавление1
Старую деревню на отшибе, с редкими ночными огнями, укутала шальная пурга. Люди давно спали, и даже звери, предчувствуя непогоду заранее, попрятались в непролазных тальниках или прорыли себе длинные ходы в мягких сугробах…
Дарья лежала на печи и дремала. В последние дни стала заметно причинать корова, и она боялась прокараулить отел.
Хлесткий и порывистый ветер бросал снегом в окна, обшаривал избу снаружи, шевелил на чердаке березовые веники, бился в трубе, и неплотно закрытая вьюшка дробно постукивала. Помимо беспокойств о корове еще одна думка тревожила Дарью. Дней десять назад она получила письмо от младшего сына Володьки, в котором тот сообщал, что демобилизовался, и ей почему-то казалось, что Володька явится именно ночью и именно вот в такую шальную погоду, и все дремотные думы у Дарьи были опять-таки о сыновьях. Они, ее радость и боль, жили не так, как ей хотелось бы. Старший из них, Иван, меньше других волновал Дарью, хотя и в его жизни было не все гладко. Живет он рядом, через забор, в большом добротном доме, оторвавшись от родного гнезда еще в ту пору, когда средний – Дмитрий, или, как все его зовут в деревне, Митька, хозяйствовал не в городе, а дома. И была надежда, что или он, или поскребыш Володька осядет на отцовском поместье, обновит его и пустит новые ростки в родной деревне, и долго еще будет стоять и жить род Тулуповых, извечных потомственных крестьян. Но Митька огорчил мать и обидел, наверное, на всю жизнь. Немногим больше двух лет после армии пожил он в деревне, поплотничал, погулял и, женившись, сразу же укатил в город – служил Митька в Москве, вот и потянуло его в шумную жизнь. Вначале вроде бы хотел он подзаработать на стройке, людей поглядеть и себя показать, да вернуться, но Дарья-то чувствовала, что это навсегда. Первое время она еще рассчитывала на Машу, невестку: видела Дарья, что та едет в город без особого желания, с неохотой, и думала, что рано или поздно, по русской пословице – ночная кукушка денную перекукует – уломает Митьку, повернет его опять на крестьянство. Но Митька и тут больно ударил мать: не пожилось ему, непутевому, с Машей – бросил ее с дитем малым, нашел городскую. А уж какая городская поедет в деревню! Новая сноха и в гости-то всего раза три приезжала. Да и то, надо сказать, не понравилась она Дарье. Уж больно привередливая: то ей не по вкусу, другое не по нраву. Потому, может, и Дарью не больно тянет к ним, хотя поесть, попить у Митьки чего только нет. Крепко осел он в городе, зажил. И это бы хорошо, что зажил, если бы все честно, по-людски было, а то ведь тайно все заработано, хоть и своим трудом. А началось с того, что Митька, устроившись работать на мебельную фабрику, стал дома дефицитную мебель делать и каким-то образом, сбывать. Не зря, видно, с малых лет бегал к деду Храмцову, первоклассному столяру, поднаторел у него. И, хотя разговоры идут о какой-то перестройке, душа у Дарьи болит за непутевого – вдруг милиция прихватит за нарушение законов, что тогда – тюрьма? Вот и рассудительный Иван, узнав про Митькины выкрутасы, сказал ему: «С таким разворотом, брат, окно с решеткой будет обеспечено. Тебе беда, и нам позор на всю деревню до конца дней». Но Митька только ухмыльнулся в ответ, и разошлись их души, как лодочка с берегом. А материнскому сердцу все боль, переживание. Одно утешает – сам Иван не погнался за длинным рублем, остался в деревне, и пусть нет у него того достатка, что у Митьки, но на ногах он стоит крепко, хотя жизнь и его пожевала. Вначале, пока он служил, невесту увели. Дарья тогда шибко переживала: запил Иван по возвращению, забуянил. Но, видать, характер у него крепкий, отцовский – остепенился, с год походил хмурее хмурого, потом нашел себе зазнобу, зажил как все люди. Дети пошли, радоваться бы да радоваться, но жизнь по-своему повернула. Сделали его жене операцию, а она, по крепкому своему здоровью, подняла ведерный чугун с кормом для свиней, шов и разошелся, пока то-се, и не спасли ее врачи. Опять Иван горевал, пил. Но на руках дети малые, обихаживать их надо, растить да и дальше жить. Снова он женился, взял молодайку – Нюру Брагину из Еремеевки – центральной усадьбы совхоза. Хороша собой, и хозяйка добрая, детей Ивановых не обижает, а только вот есть у нее одна нехорошая струнка: завистливая больно, любит, чтобы в доме было лучше, чем у других, в богатство тянется. Митька для нее прямо свет в окне, жизненный пример, Дарья не раз думала думку, что судьба неправильно распорядилась: надо бы Ивана с Машей свести, а Митьку с Нюрой. Но что случилось – то случилось. Да и знала Дарья, что на душе у Ивана другая: та – первая, Дуся Храмцова. Материнское сердце не обманешь. В свое время не устояла Дуся перед соблазном, погналась за достатком, за сладкой жизнью, да так и сломалась, очерствела, другим человеком стала. А жаль, муж у нее на машине разбился, как раз вскорости после того, как Иван схоронил жену. Могли бы и сойтись, да не захотел Иван почему-то, но любить – любит. Непонятно только, за что. А может, и не любит, может, только боль та и осталась, обида…
Теперь вот новая тревога закралась Дарье в душу. Опасается она, что Володька, ее надежда и опора, не усидит в деревне, потянется в город. Он тоже по службе нюхнул городской жизни, устоит ли? И материнским чутьем Дарья почти утвердилась, что не удержать его рядом, оставит он ее одну-одинешеньку, и тешиться ей радостью только в редкие его наезды. Да и то сказать, удерживать молодежь в деревне нечем, и без того небольшая, она едва ли не наполовину обезлюдела – разъехался народ кто куда. Кто на центральную усадьбу перебрался, где и работу найти легче и веселее. А кто и на городскую жизнь прельстился, хотя, по твердому убеждению Дарьи, человеку, рожденному и выросшему в деревне, прижиться в городе трудно, а иногда и невозможно, даже погибельно – слишком много соблазнов наваливается на него в короткое время, и не каждый может устоять против них и не сломаться.
Только природа и радует еще людей. Лес и степь вокруг, озеро, тайга не очень далеко. Охотникам да рыбакам раздолье. Дарья не раз ловила себя на мысли, что Иван только потому и не тронулся с места, что любит охоту и рыбалку. Митька тоже не прочь полазить по лесам, но его больше добыча интересует, чем душевное удовольствие. А вот Володька совсем не охотился и не рыбачил – жалеет он живность. Так что и с этой стороны нет у Дарьи никакой надежды. Значит, опять быть ей одной, опять коротать долгие зимние ночи, думать и переживать. Жалко-жалко стало Дарье самое себя, даже сердце защемило, хозяин вспомнился.
Всего-то семнадцать лет пожила Дарья с мужем. Отсчет она вела с того времени, когда Степан Васильевич вернулся со службы тяжело раненный. А служил он в армии пограничником, где-то в Таджикистане, и в одном из боев с нарушителями границы получил в грудь две пули. Врачи его едва спасли.
Билась Дарья после прихода мужа, как запаленная лошадь, делая всю работу по дому и в совхозе вкалывая наравне со всеми. Лишь потом, когда более-менее окреп хозяин и дети появились, легче ей стало и светлее. Степан все ее заботы перевалил на свои плечи, и покалеченный его организм не выдержал…
То ли сквозь шум ветра Дарье послышалось мычание коровы в пристройке, то ли просто почувствовалось неладное, но она быстро села, зашарила ногой, ища приступок. Широкие самокатные ее валенки стояли у порога. Дарья сунула в них босые ноги, надела телогрейку и, повязав голову шалью, вышла в сени. В узкую щель между косяком и дверью набросало немного снегу, и Дарья едва не упала, скользнув по нему подошвами. Она нашарила петлю запора и дернула на себя дверь. Лицо ей обдало колючим снегом. Дарья зажмурилась и сбежала с крыльца. По двору крутились снежные всплески, заслоняя пристройку. Она нашла вилы, прислоненные к стенке коровника, и быстро отпихнула в сторону сено, положенное у дверей для утепления. Знакомый запах навоза защекотал в носу. Дарья открыла коровник, и на нее пахнуло застоялым теплом. Она щелкнула выключателем и, щурясь, оглядела закуток. Корова лежала смирно, а рядом с ней мокрый, округлый притулился теленок. «Слава богу, опросталась, – обрадовалась Дарья. – Теперь Ивана надо позвать, чтобы занес теленка в теплую избушку, а то, чего доброго, еще и придавит его корова или под вымя подпустит…» Дарья набрала мягкого сена из яслей и принялась обтирать им бычка.
Ветер завивал с крыши, бросая в коровник искрящиеся снежинки, стелил у порога белый нанос, опахивал холодком лицо Дарьи…
Прикрыв плотно коровник, Дарья вышла за ограду. Высокий и большой дом Ивана стоял несколько в стороне, заслонившись от улицы широким кольцом палисадника. Окна были закрыты ставнями. Дарья открыла калитку. Широкое крыльцо в четыре ступеньки, запертые двери. Она постучала в них несильно, подождала, послушала, но шагов в прихожей не уловила и, коря себя в душе за то, что беспокоит сына в такую глубокую ночь, забарабанила в двери ногой. Где-то зажегся свет, послышался кашель Ивана. Широко распахнулась веранда, и мелкие снежинки искрящейся пылью сыпанулись на крашеные доски пола.
– Ты чего, мам?! – спросил Иван с тревогой.
– Да не пугайся ты. – Дарья обмахнула лицо концом шали. – Корова отелилась, надо теленка в избушку внести.
– А-а-а. – Иван как-то сник, расслабился. – А я уж подумал, случилось чего. Заходи, я сейчас оденусь.
– Да нет, я побегу, а то все открыто…
Теленок лежал все в той же позе и даже не шевельнулся и не колыхнул ушами, когда Дарья потянулась к нему рукой. «Не видит, что ли? – подумала она и повернула мокрую еще морду теленка к себе. Глаза у него были обычные, темные, глубокие, без каких-либо изъянов, но, приблизив пальцы почти к самым влажным их яблокам, Дарья поняла, что теленок слепой. – Вот напасть-то! – закручинилась она, быстро прикидывая сколько хлопот упадет на нее из-за этого. – Догляд и догляд будет нужен…»
– Ворожишь что ли? – спросил Иван, войдя неслышно.
Она обернулась.
– Слепой он, Ваня.
– Слепой? – Иван быстро подошел к теленку, пальцами раздвинул ему веки. – Бельма нет, пленки никакой не заметно, а точно, не видит.
– Бог с ним. – Дарья махнула рукой. – Какой теперь есть, неси в избушку.
– Ты мне на грудь сенца кинь, чтобы телогрейку не испачкать. – Он взял теленка под шею и задние ноги и легко понес. Тот было дернулся раз-другой, но, инстинктивно поняв, что ему не вырваться, тут же затих.
Дарья с легкой охапкой сена спешила впереди, раскрывала двери, зажигала свет. В избушке, на шестке, сидели куры, щурились подслеповато на яркий свет лампочки под крышей. От небольшой печки в углу, слегка протопленной с вечера, шло мягкое тепло.
Дарья бросила сено на дощатый пол подальше от куриного насеста, и Иван опустил на него теленка.
– Копыта ему надо подрезать, а то скользить начнет, как подниматься станет, ушибется. – Он вынул из кармана складной нож, быстро и ловко срезал желтовато-белые бугорки на нижней стороне копыт. – Теперь и стоять будет, прыгать. Недельки две поживет здесь – и в коровник переведем.
– Видно будет. – Дарья еще раз внимательно оглядела избушку и повернулась к дверям. – Пошли теперь в дом, посидим, поговорим.
– Так я, мать, у тебя почти каждый день бываю – все уж обговорено.
– Все одно подушевничать охота. А то скука скукой.
Ивану стало жаль мать, коротающую дни и ночи в одиночестве, и он двинулся за ней к дому.
Снег все сыпался и сыпался с завихрениями, хлестко бросал в лицо холодные россыпи снежинок, кружился по ограде в диких разворотах. Даже крыльцо обметало легким сугробом за то короткое время, пока они возились с теленком.
Теплом и чуткой тишиной встретила их просторная кухня, освещенная лампочкой под абажуром. Дарья стала раздеваться, а Иван присел на скамейку, у двери.
Мало что изменилось в доме за долгие годы. В нем Иван вырос, учился, жил некоторое время после армии. И первый год, женившись, и, когда бы ни приходил в родной дом, его постоянно охватывала какая-то тонкая грусть, высвечивая в памяти прошлое и обдавая легким теплом душу. И, чтобы погасить этот провальный наплыв воспоминаний, Иван не то спросил, не то еще раз утвердился в давно обговоренном:
– Володька будет со дня на день?
Дарья кинула валенки на припечек, обернулась с легкой улыбкой.
– Сама вот жду не дождусь и тревожно что-то, Ваня, на сердце. Кабы печали какой не накликать.
– Ну что ты, мать, зря душу рвешь. Какая беда? Какая тревога?
– Может, и зря. Все думки о том, что придет и уйдет, я и нарадоваться как следует не успею. – Дарья не смогла сдержать дрожи в голосе.
– Это почему же? – Иван насторожился.
– А что ему в деревне делать? В навозе ковыряться да водку пить. – Как-то ожесточилась Дарья. – Он, может, еще и учиться пойдет. Все же полную школу окончил, не то что вы с Митькой – недоучки.
Иван не обиделся.
– Ну, если учиться захочет, то пусть, а что касается работы, так тут проблем нет – он же шоферил в армии, а шоферы везде нужны.
Дарья налила воды в умывальник и стала мыть руки.
– Ладно, Ваня, – успокоилась она. – Чего нам за него дела решать, придет время – сам определится.
Иван поглядел в окошко – на улице было еще так темно, что стекла казались заклеенными снаружи плотной черной тканью.
– Ну, уж если Володька побежит из деревни, ко мне переберешься, – в душе у него как бы прозвучал отголосок на жалобу матери о скучном одиночестве.
Дарье его заявление что бальзам на душу.
– Спасибо, сынок, спасибо, но не будем гадать раньше времени. Поживем – увидим. Давай вот чайку согрею, почаевничаем.
– Не надо, не ко времени. Тебе вот, может, еще чего сделать? Воды натаскать или кормов скотине?
– Скажешь ты, Ваня, что ж я, по-твоему, не в состоянии воды принести или сена корове подкинуть? Силы у меня еще хватит на это.
Иван поднялся, одной рукой обнял мать за плечи.
– Да ты у нас еще крепенькая.
Дарья почувствовала, как напряглись мышцы тяжелой сыновьей руки, и затихла. Ей была приятна его грубоватая мужская ласка.
– Ну тогда я пойду, мам, подремлю еще пару часиков да на работу.
– Иди, иди, сынок. Прости, что я тебя разбудила, не дала понежиться…
* * *
Когда Иван ушел, Дарья, решив больше не спать, стала прибираться в избе. Все равно до утра оставалось немного. Она навела порядок в кутке, протерла пол и решила затопить большую печку. Лучины, приготовленные с вечера, вспыхнули, как порох, и на нижних поленьях, уложенных на поду, сразу закрутилась в трубочки береста, слегка потрескивая, и пламя охватило дрова, реденький дымок потянулся к дымоходу.
Дарья поглядела, как разгорается печка, и сунулась под лавку за ведром, чтобы набрать в подполе картошки. В этот момент и раздался стук в наружные двери. Дарья прислушалась – не показалось ли, но стук повторился. «Иван, что ли, вернулся? Так он знает, как открываются снаружи сенцы». Сердце у нее екнуло и замерло. Дарья, не одеваясь, приоткрыла дверь в избу, помедлила, слушая. И вновь с улицы постучали, громче, настойчивее. Так не стучал никто из ее знакомых.
– Кто там? – спросила она, волнуясь.
– Открой, мама, – раздался негромкий голос, и у Дарьи чуть не подкосились ноги. Хотя и несколько иным был этот голос, но она бы узнала его из тысячи.
Дарья кинулась в сени, отбросила задвижку, и дверь распахнулась. Перед ней, весь белый, как снеговик, стоял Володька, совсем взрослый.
– Сынок! – Дарья едва не упала, хватаясь за обшлага его бушлата, и Володька подхватил ее под руки, робко вталкивая в тепло.
Дарья потянулась к его влажной щеке.
– Откуда ты в такую пору? – справляясь с волнением, спросила она, когда и Володька ткнулся холодными губами куда-то ей под ухо.
– Со станции, мам, со станции.
– И все пешком?
– На автобус опоздал, а попутных машин не было.
Дарья широко распахнула двери.
– Ну проходи, сынок, проходи. Радость-то какая! Даже сердце от нее зашлось!
Володька чуть-чуть задержался, оглядывая избу, и снял рюкзак.
– Ну, как вы тут?
– Да живем помаленьку. Все живы – здоровы. – Дарья начала помогать сыну раздеваться. – Как же ты шел в такую погибель? – сокрушалась она. – Мокрый весь насквозь. До утра бы подождал.
– Стал бы я ждать чего-то вблизи от дома. В армии и похуже бывало.
– Вот надоумился, – корила его Дарья, стягивая забитые снегом сапоги. – Ноги промочил, штаны сырые.
– Обсушусь. – Володька улыбался.
– Есть, поди, хочешь, а у меня ничего не сварено.
– Переживу. Мне бы сейчас на печку, отогреться.
– Надо же – продрог весь, – все сокрушалась Дарья, засовывая в печурки[1]сыновьи носки. – Скидывай с себя все и лезь наверх. Печка горячая, топится. – Между хлопотами она оглядывала сына, и радость заполняла и без того неспокойное ее сердце. Дарья еще там, на крыльце, отметила, что Володька здорово вырос. Уходил он в армию малого росточка, чуть-чуть повыше ее был, а сейчас она едва до плеча ему достает. Да и дробненький он был, худой – теперь плечи не охватить, грудь развернута и лицом пригож, вылитый мама родная, а на гимнастерке значков всяких – не счесть.
Володька тоже поглядывал на мать, и в его глазах, больших и серых, с голубизной, светилась спокойная, нежная радость.
– А ты, мам, постарела. – Он одним махом взлетел на приступок, ухватился сильными руками за ребро печной доски и перекинулся на лежанку.
Дарья вешала на шесток, у дымохода, его штаны, заглядывала в печь, и пламя бросало трепещущие блики на ее счастливое лицо.
– Постареешь, сынок, все одна да одна. А хлопот – полон рот.
– Как одна? А Иван, внуки?
– Так это все налетом, временно. Иван вот недавно был – помогал мне теленка занести в избушку. Корова час назад отелилась.
– А Митя что – не приезжает?
– Редко. Был как-то по осени один раз, и все.
– Чего так? – Володька откинул подстилку и лег голой спиной на прогретую печь.
– Богатеет все. Какой-то кооператив со своим начальником организовали и шпарят мебель на продажу. Где ж ему время найти для матери. – Дарья поглядывала, куда бы пристроить сырой бушлат сына, и решила набросить его прямо на припечик. – Засупонила его Галька, не вырвется. Там в доме, что у доброго купца, чего только нет: и мебель – не мебель, и ковры – не ковры, и хрусталь… – Дарья спохватилась, осудила себя в душе за то, что повернула разговор на прочное Митькино житье. Прельстить оно может Володьку, уманить в город, и чуточку схитрила: – Да не в богатстве счастье, сынок. Раньше Митя шутником был, веселым, а теперь все больше молчит да в окно смотрит, на замок затворился, и цвету нет – лицо какое-то серое.
– А у Ивана как дела?
– Пока все хорошо.
Володька помолчал.
– Про Машу что-нибудь слышно?
Дарья глубоко вздохнула.
– Она выходила замуж, вскорости как с Митей разошлась. Мужик, сказывали, добрый попался, да не повезло ей снова: зарезали его в пьяной драке. Заступаться он вроде бы полез за кого-то, его и пырнули ножом – умер в больнице. Маша теперь опять одна. – Дарья закончила наконец хлопотать над одеждой сына и присела на скамейку. – А я думала, что ты к Мите вначале заедешь, а уж потом сюда.
– Что бы это я к ним поехал, когда у меня мать родная есть, – совсем тихо ответил Володька.
– Ну спасибо, сынок. – У Дарьи пробилась слеза, и она утерла глаза сухой рукой. – Да ты вроде дремлешь? Ну спи, спи, отдыхай. – Изба освещалась тускло, и выглядела убого и сиротливо: старый, видавший виды стол в переднем углу, накрытый потертой клеенкой, вокруг него обшарпанные лавки. Над столом – икона – благословение матери в день давней свадьбы, слева – сундук, тоже материнский подарок, а над ним – вешалка для одежды. Но Дарья по-новому, без щемящей тоски, окинула взглядом эту привычную обстановку и прислушалась. Ей в какой-то миг показалось: а не привиделось ли все это? Она хотела встать, стряхнуть тревожное наваждение, но увидела на припечке сапоги, бушлат и успокоилась.
– К Ивану уж сейчас не пойду, утром сбегаю. Мите отобьем телеграмму, – проговорила она как бы для себя.
А метель все еще продолжала хлестать снегом в темные окна.
2
Митька приехал на другой день, к вечеру, как только в Камышинку протащили клин от центральной усадьбы. Он шумно влетел в избу, сграбастал мать, игриво поздоровался с Нюрой и Аксиньей, давней подругой матери, помогавшей готовиться к вечеринке, и кинулся в комнату. А Володька уже заслонил дверь.
– Так это же не он! – крикнул Митька, хватая брата за бока. – Это же не Вовка, мать! – Они сцепились в объятиях. – Ну здорово, браток! – Митька хотел приподнять брата, но тот не дался. – Я же говорю – не Вовка. Тот был ягненком. А этот – бугай! А Иван где? – спросил он у Нюры.
– На базе, коней убирает. Скоро придет.
Вошла Галина, в дорогой шубе, собольей шапке, важно подала руку – чуть ли не от порога, но Володька потянул ее к себе, обнял и чмокнул в щеку.
– Э, э, свою заимей, – скидывая дубленку, прогудел Митька, а Галина полыхнула румянцем. Лицо ее ожило и подобрело. – Давай гостинцы. – Митька поднял оставленную у порога большую сумку, с хрустом распахнул замок-молнию и стал выкладывать свертки прямо на лавку.
– Да куда ты! – попыталась остановить его Дарья. – Стол ведь есть.
– Разве это стол – мастодонт. Посмотрели бы, какие я столы делаю, – похвастался Митька, – любо-дорого.
– Вот и сработал бы такой для матери, – заметил Володька.
– Такой здесь не к месту, их только в шикарных местах ставят. – Митька протянул кружок колбасы Аксинье. – Это тебе, тетка Аксинья, персонально. За то, что матери постоянно помогаешь, душевно поддерживаешь. Здесь такой колбасы никогда не было и не будет. Ее и в городе без блата не достанешь.
Аксинья робко взяла колбасу.
– Спасибо, Митя. – Маленькое морщинистое лицо ее озарилось улыбкой. – У меня сегодня ладошка чесалась, к чему бы это, думаю, а оно вот что – гостинец объявился. Ну спасибо еще раз.
– Ладно, ладно. – Митька похлопал ее по плечу. – Как живете-то? Как дед Кузьма?
– Потихоньку, Митя. Наша жизнь теперь известная – к могилке готовимся. Это вам, молодым, веселье: живи – не тужи.
– Рано, тетка Аксинья, говорить про могилки, рано. – Митька все выкладывал свертки, и сумка оседала.
– Чего уж там. – Она махнула рукой. Жизнь обделила ее детьми – надорвалась она на работе по молодости лет – и, радуясь за других, в душе всегда жалела себя. – Сколь можно свет коптить пустоцветом.
Митька промолчал, отодвигая в сторону несколько кульков и свертков.
– Тут вот гостинцы племяшам, – показал он на них кивком головы. Но Нюра, стоявшая у печи, не тронулась с места. Она с жадным любопытством оглядывала подарки, которые Митька доставал и доставал из глубины объемистой сумки. Большие черные глаза ее влажно блестели. – А это нам с братком, за встречу. – Митька держал в руке бутылку коньяка. – Сгоношите-ка закусь. – Он повел взглядом в сторону женщин. – Да побыстрее.
Дарья делала свои дела у печи, успевая между тем все видеть и слышать.
– Так скоро людей собирать, ни к чему бы это. Ивана подождать надо.
– Людям хватит и Ивану тоже, в машине вон целый ящик стоит, а это нам, персонально, подарок знакомого армянина. – Митька двинул бутылку на стол. – И лимончики – вот они. – Желтые, как пуховые цыплята, лимоны покатились по столу. – Выпьем, как белые люди.
– Подождали бы, – слабо запротестовала Дарья, – а то опьянеете прежде времени.
– Скажешь, мать, ждать я кого-то буду. Мне, кроме тебя и Володьки, никого и не надо.
Нюра едва заметно шевельнула губами, но ничего не сказала.
– Тебе, может, и не надо, – немного осерчала Дарья, – а положено приглашать родных и знакомых по такому случаю.
Митька небрежно кинул опустевшую сумку под лавку.
– Родня почти вся здесь, а знакомых полная деревня, их всех не пригреешь. – Он с шумом отодвинул скамейку. – Садись, брат, поглядим друг на друга – три года не виделись. – Ты будешь? – Митька обернулся к Нюре.
Та пожала плечами, ничего не ответив.
– Ну как хочешь. – Митька стал распечатывать бутылку. – Давайте тару.
Дарья покачала головой, промолчав, а тетка Аксинья подала маленькие граненые стаканчики, предварительно оглядев их на свет.
Яркое, до рези в глазах, солнце полыхало за окнами, наполняя избу светом и теплом, и стаканчики на столе светились в этом свете, как хрустальные.
– Эх, разве ж из таких, граненых, пьют коньяк! – посетовал Митька. – Хрустальных бы рюмочек сюда, чтобы играл он на свету, как плавленое золото, да посмаковать!
– Взял бы да и привез этих самых рюмочек, – отозвалась Дарья.
– А по мне, – не сдержалась Аксинья, – так было бы чего пить, а то и из кружки можно.
– Не скажи, теть Аксинья. – Митька наполнил стаканчики. – Красота аппетит разжигает, а рюмок я привезу в другой раз. Давай, брат, за счастливое возвращение. – Он потянулся стаканчиком к Володьке.
– Уж куда счастливее, – снова не сдержалась Дарья, – всю ночь по снегу лез.
Митька задержал руку.
– Правда, что ль?
Володька кивнул.
– До меня бы вначале доехал, прокатились бы с шиком на моей «Волге».
Володька не ответил и одним глотком осушил свой стаканчик.
– Вы-то маленько дерните? – спохватился Митька, обращаясь к матери с Аксиньей.
– Да уж ладно, пейте, – отмахнулась Дарья. – У нас еще дел полным-полно. Какие потом из нас хозяйки будут.
– Ну, а вы чего? – Митька взглянул на Нюру с Галей, сидевших на лавке, у окна. Те и не притронулись к своим стаканчикам.
– Обождем, – ответила Нюра, – матери помогать надо.
– Ну помогайте, помогайте. – Митька жевал лимонный ломтик прямо с кожурой. – Кого хоть пригласили? – спросил он у матери.
Дарья стала загибать пальцы:
– Аксютка с Кузьмой, Паша Демин с Лизаветой, Андрей Кузин с Тасей и Юрик Рогов.
– Твой друг, что ли? – Митька вскинул вихрастую голову, обращаясь к Володьке, волнистый чуб его упал на лоб. – Я его давно не видел.
– Где ж ты увидишь, приезжаешь раз в год по обещанию и то на пару часов, – упрекнула Дарья сына.
– Точно, мать. – Митька кивнул. – Работаю все, коньячок да колбаса даром не даются.
– Нужен он тебе, этот коньячок. Водки бы попили и гусятины поели.
– Тоже правильно. – Митька веселел. – А молодые девчонки будут? – дурачился он.
Сердиться на Митьку было трудно, и Дарья решила не обострять разговор.
– Какие девчонки! – Она с улыбкой отмахнулась, сощурилась с хитринкой. – Володька их до армии за версту обходил, не то что ты – охальник, и в армии, думаю, не до девок было.
– Мы тут ему невесту приглядели, – вступила в разговор Нюра, – бобылем не останется.
– Вы приглядите. – Митька разлил остатки коньяка в стаканы. – Небось какую-нибудь доярку.
– Не хуже ваших городских, – отрезала Нюра, многозначительно взглянув на Галину.
Но та и бровью не повела – скандалить с женщинами она не любила, считая это ниже своего достоинства.
* * *
Солнце било прямо в двери веранды, опустившись над крышами деревни, и Митька даже зажмурился, замер на секунду. Знакомый до каждого столбика двор, много раз виденный во сне, всегда стоящий перед глазами в воспоминаниях, утопал в снегу. Обветшала вокруг него изгородь, обветшали и поникли дворовые постройки. Пустынно и неуютно. «Права мать, – оглядев двор, подумал Митька, – почаще бы надо приезжать сюда – поддерживать двор в мужском догляде. Ивану-то не до материных построек – своих хлопот не разгрести». – Он спустился с крыльца и едва не набрал свежего снега в сапоги.
– Эко погуляла пурга, – произнес Митька вслух, – наделала дел, люди придут на вечеринку – утонут. Придется расчищать ограду и подход к воротам.
За дровником, у конуры, топтался пес, подозрительно поглядывал на Митьку, вероятно, не узнавая его, хотя и помалкивал, не лаял. «Почти полгода не был, отвык лохматый», – дрогнуло что-то в душе у Митьки, и он позвал:
– Иди, иди ко мне, бродяга. – Пес, взвизгнув от собачьей радости, кинул ему на грудь широкие и сильные лапы. – Не узнал, дурачок, не узнал. – Митька гладил его по тяжелой голове, а у самого дух зашелся и горло сдавило. «Вот ведь, родное и есть родное. Даже пес сердцу в радость», – подумал он и осторожно опустил собаку на снег.
– Ну будет, ну хватит лизаться, – успокаивал он пса. – Гостинец потом получишь. Мне вон снег откидывать надо. – Митька распрямился, почувствовал вдруг некую легкость и спокойствие, будто незримый груз сбросил, и еще раз огляделся.
Свет и предвесеннее тепло заливали двор. Отчего снежный нанос у крыльца стал матовым и волглым. «Еще пяток дней – и поплывет все, – мелькнуло у Митьки, – ни пройти ни проехать, как всегда». Он нашел широкую лопату под навесом и с небывалым азартом накинулся на сугроб перед воротами.
Знакомая работа потянула на воспоминания. В такую же вот пору стоял Митька на городской окраине, укоряя и одновременно оправдывая себя за ночлег в чужом доме: появившаяся нежданно-негаданно зазноба оказалась не чета жене Маше – ласковая да заботливая – и приголубит горячо, и накормит спозаранку закусками да горячими блюдами… Тогда Маша, узнав про его связь с другой женщиной, ушла из дома, и если бы не было рядом Галины, Митька бы покаялся, помирился с женой, но вышло по-другому. В какой-то момент он перестарался, передержал характер, и упустил время. Нередко потом вспоминал Митька свою короткую жизнь с Машей и сына, еще крохотного, в пеленках…
Он не заметил, как сзади подошел Иван, остановился в трех шагах от него и некоторое время глядел, как Митька с воодушевлением лопатит снег.
– А мы тут страдаем без бульдозера, – произнес шутливо Иван.
Митька выпрямился и, увидев брата, воткнул лопату в снег.
– Здорово, старшой! Заработался и не слышал, как ты подкрался.
– Да уж вижу – выше головы кидаешь.
– Затравился. Свежий воздух, талой водой от снега потягивает, думки всякие лезут.
– Ну, раз думки лезут, значит, еще не все потеряно – еще, может, и одумаешься. – Иван крепко пожал протянутую руку брата.
Митька понял намек, насупился.
– Мне и так неплохо.
– Еще бы. Со всех сторон барахлом заслонился.
– Ну и что из этого? – «Не с того бы конца начал разговаривать с братом, – с горечью подумалось Митьке. – Дался ему этот мой левый прибыток».
– Переживаю, что придется тебе передачи носить, как загремишь под фанфары, – гнул свое Иван. – Некая неприязнь к среднему брату появилась у него сразу, как только Митька разошелся с Машей, кинул и ее, и тем более сосунка-сына на произвол судьбы. Да так и не сгладилась со временем. А тут еще Нюра нет-нет да и нагнетает ту отчужденность – не раз укоряя его в нерасторопности и ставя в пример Митькину ловкость по жизни.
– Не бойся, не загремлю. Я вот этими руками все делаю. – Митька показал широкие и шершавые ладони. – И в кооперативе теперь – все чин чинарем.
– А материалы где берешь? – Иван, щурясь, глядел на брата.
– Выписывают мне из брака и отходов, и за деньги, между прочим.
– Знаем мы эти отходы, и что под ними кроется.
– А я не лезу куда не надо. Не моя там головная боль – начальство правит дело.
– Ну давай, давай гони стружку под чужой карман.
– Я и свой не забываю. – Митька хмурился. Навал брата на его доходное хобби был ему не по нутру. Тем более, что подобное повторялось едва ли ни каждый раз при их очередных встречах.
– Ты из-за этой мебели людей перестал видеть, и меня с матерью в том числе, – не отступал от своих мнений Иван.
– Говори, да не заговаривайся. – Митька почти физически ощутил, как в душу стала натекать некая горечь, и добавил: – Нет бы помочь в деле, посоветовать да поддержать – только соли всякий раз на болячку сыплешь.
– Я тебе советовал – ты много слушал?
– Тогда нет, а теперь, может быть, и послушал бы, да ты сразу вздыбился, как тот скакун в намете.
В голосе брата Иван уловил истинную жалобу и, чтобы не обострять разговор – день у них был особенный – сказал примирительно:
– Ладно, проехали. Давай лучше покурим да помыслим о вечере.
– Чего о нем мыслить – там все готово. – Поняв, что неприятный для него спор кончился, Митька притулился к палисаднику, прикрыл глаза, пряча их от солнца, и, как бы между прочим, спросил:
– А ты чего не заходишь ко мне, когда бываешь в городе?
Иван покосился на Митькину «Волгу», стоявшую у ограды, и полез в карман за пачкой сигарет.
– Я в нем бываю раз в год, и то день-два от силы. Пока туда-сюда крутнешься – и назад надо. Да, честно сказать, и не тянет меня в твои хоромы. К тому же мы всем кагалом туда приезжаем, не хочется от своих отрываться.
– Ну и на том спасибо. – Митька потянулся к лопате. – А я-то думал, что тебе хоть иногда хочется повидать брата.
– Иногда хочется. – Иван поглядел, как Митька снова начал ворочать снег, и сердце у него и вовсе отошло. – Пошли-ка в дом, чего нам тут травить друг другу души.
Митька уловил перемену в настроении брата и кивнул:
– Иди, я до конца откопаю ворота – машину надо загнать в ограду…
3
Мужики гуртились на крыльце, дымили сигаретами, вглядываясь в серые сумерки, наплывающие со стороны леса. Говорили мало и рассеянно. Женщины, наоборот, вели бойкую беседу в избе, рассматривая Галинины наряды. Их голоса хорошо были слышны из-за дверей.
– Не останови, так до утра просудачат о тряпках, – сказал Митька и щелчком забросил окурок далеко в снег. – Вот натура, только бы им наряды.
– Затоковали, – отозвался и Паша Демин. – Еще мужикам косточки не перебирают, стесняются, знают, что слышим их, а то бы вовсе про все забыли.
– Чего вы хотите: бабы. Хлебом не корми, а дай им лясы поточить, – вставил свое дед Кузьма.
Иван промолчал, а Андрей Кузин не осудил женщин:
– Пусть потешат душу. Они работают больше нашего. Им и поговорить как следует некогда.
– Это у кого как, – не согласился Митька.
– Я про деревенских говорю…
Дверь приоткрылась, и Дарья крикнула:
– Давайте, мужики, к столу.
Сразу все оживились, заговорили вперебой, задвигались.
– Ты, Володя, садись в угол святой, под икону, – распоряжалась Дарья. – И Юрика с собой бери. Митя да Иван со своими женами тоже к ним…
Пили неторопливо, степенно…
– Ну и нажарила ты, теть Даша, – напарила, пальчики оближешь, – похвалил закуску Паша Демин, – где только такое мясо сохранила.
– Не домашнее это – Митя из города привез. – Дарья моталась от кути к столу, стараясь угодить гостям, присаживалась на краешек скамейки, выпивала чуток.
– С рынка? – спросил Паша у Митьки.
– Ешь, Паша, ешь, не отравишься. – Митька смеялся и чаще других прикладывался к стакану. – На рынке теперь шаром покати, а про магазины и говорить не стоит – пусто. Достукались в долбаной перестройке до ручки, загнали народ в продуктовый тупик…
Все внимательно слушали Митьку, не перебивая. Это потом, после третьей или четвертой чарки, разговоры покатятся, зашумят за столом, выплеснут накипевшее, а пока слушали.
Водка стояла на столе вольно, но, по обычаю, ее разливал по стаканам Иван как старший в доме, хотя не было ничего зазорного, если кто-нибудь и сам тянулся к бутылке.
– Ну и красивый у тебя Володька, – шептала Дарье Тася Кузина, жена Андрея, – вылитый артист. Повезет же кому-то. – Она вздохнула, перевела взгляд на Андрея. Маленький крепыш Андрей внешностью не мог похвастаться, и белотелая, стройная Таисья не один раз выговаривала ему, что они не пара. Вышла за него Тася не по любви и не по расчету. Просто в деревне не густо было с женихами, а возраст подпирал. Но Андрей был человеком смирным, работал за троих, жил по-крестьянски крепко и расчетливо. Троих детей настрогал, а сам, как сел за рычаги трактора после службы в армии, так и не уходил. И каждый год, в посевную или в осеннюю страду, Андрей был среди лучших в совхозе. Его хвалило начальство, уважали сельчане, а с Иваном он дружил едва ли ни с детства…
– Повезет, если не попадется какая-нибудь привередливая, – отозвалась Дарья, – а то будет из него веревочки вить – характер-то у него мягкий.
– Да за него любая пойдет…
– Не в красоте счастье, – ввернула свое Аксинья.
– Скоро, Мить, и я себе машину куплю, – ершился Демин. – Пусть не такую, как у тебя, – поменьше, но новую. Директор совхоза обещал решить этот вопрос.
– Зачем она тебе? – Митька смотрел с насмешкой. – Коров будешь на ней пасти.
– А для куражу, я что – хуже других?
– Ну-ну, купишь, если будешь так с деньгами жаться, – вмешался в разговор Иван. Он только краснел от водки да потирал лоб по привычке.
Паша погрозил ему пальцем.
Как-то осенью Иван возвращался с охоты поздно. Стояла глухая ночь, и даже огоньков не было видно на улице, лишь одинокий фонарь высвечивал исковерканный тракторами отрезок дороги да угол магазина. Проходя мимо Пашиной избы, Иван заметил узкую полоску света, пробивавщуюся через щелку в ставне. «Рассохлись, видно, доски, – подумал он мельком, – а то Паша плотно все подгоняет…» Что заставило Ивана перелезть через изгородь палисадника, не ведомо. Только, когда он прильнул глазом к щели, – обомлел: Паша и его жена Лизавета сидели в ночном белье за кухонным столом. Перед ними лежали бумажные деньги, собранные в пачки по цвету. Пачки были высокие, ровные, а вокруг них стояли столбиками монеты. И у Паши, и у его жены лица были какие-то отрешенные, бледные. Ивана охватил безудержный смех. Он шарахнулся из палисадника, но заметил, что свет в избе Деминых потух.
Потом он спросил Пашу один на один:
– В чулки кладете?
Тот сразу все понял, отвел глаза.
– А, это ты, значит, под окошком шарился. Зайди, как-нибудь, успокой Лизку, а то она места себе не находит – думает, что кто-то чужой подсмотрел, как мы деньги считали…
Паша работал скотником и вместе с Иваном увлекался охотой. Отношения у них были приятельские, добрые.
– Сыграй что-нибудь, Ваня, – попросила Таисья, – хватит вам разговоры вести.
Иван не стал отнекиваться, взял поданную Нюрой гармонь и растянул меха.
Здесь на этой скамье
Не встречаю я больше рассветов.
Только сердцем своим
Я тебя постоянно зову…
Все притихли, а Нюра опустила голову: Иван пел эту песню редко, под особый настрой, и она знала, кого зовет его сердце.
Я тебя не виню,
Нелегко ждать солдата три года…
Аксинья утирала глаза концом фартука. И Дарья потупилась.
– Давай лучше плясовую! – снова крикнула Таисья, когда Иван, склонив голову, свел меха, и первой заторопилась из-за стола.
* * *
Разошлись далеко за полночь. Проводив гостей, Дарья с невестками стала прибирать в доме, а братья вышли на крыльцо покурить.
Сырая и тихая ночь окутала деревню и, если бы не белизна снега, в двух шагах ничего бы не разглядеть. Тускло и слабо мерцали звезды, и разогретые хмельным братья не чувствовали холода.
– Простынете – не одетые! – крикнула им Дарья.
– Мы ненадолго, – отозвался Иван, закуривая, и, помедлив, спросил у Володьки: – Какие у тебя планы на жизнь?
Володька не курил и вышел с братьями на крыльцо за компанию. Он привалился плечом к прохладному косяку и спокойно произнес:
– Пока никаких. Скорее всего, учиться пойду в институт, на вечернее отделение.
– Понятно, только почему на вечернее?
– А на одну стипендию не протянешь – придется работать.
– Да уж ясно, – ввяз в разговор Митька.
Иван повернулся к нему:
– Вот и давай – будем помогать брату чем можем.
Тот хмыкнул:
– Ты же меня коришь за мебель, а с одной зарплаты какая помощь.
Иван выпустил струйку дыма, помедлил, обдумывая ответ, но Володька опередил его:
– Благодарствую за проявленную заботу, только я сам о себе позабочусь – пойду баранку крутить, нравится мне это, а у вас свои семьи, свои заботы.
– Я уже беседовал насчет тебя с Алексеем Гавриловичем, как только узнал о твоем близком приезде, – заявил вдруг Митька. – У него сейчас шофер временный, не ахти какой. Понравишься – будешь как сыр в масле. И квартиру он тебе может сделать сразу, как только засобираешься жениться.
Володька рассмеялся.
– Я ведь не женщина, чтобы нравиться.
– Не в этом смысле сказано, – слегка обиделся Митька, – о поведении и работе.
– А кто такой Алексей Гаврилович? – погасил Иван зарождавшийся спор братьев.
– Директор мебельной фабрики. Мужик стоящий. Я ему квартиру деревом отделал по специальному заказу – он мне вот эту машину выбил. – Митька кивнул на «Волгу», стоявшую в ограде. Кооператив небольшой организовал, где я сейчас и работаю.
– Жук, видно, порядочный этот твой Алексей Гаврилович, – Иван отогнал рукой дым от лица. – Наверняка он тебе и материалы на мебель гонит.
Митька кинул свою сигарету в снег, и она, описав красную дугу, затухла с легким шипением.
– Гребет, конечно, под себя, – не стал он спорить, – но и нас не обижает. А Вовке чего надо? Его дело – баранка: отвез – привез, чисто и не пыльно, и спроса никакого.
– Заманчиво, – ответил за Володьку Иван, – но надо с матерью посоветоваться. У нее свои планы насчет Володьки.
– Раз учиться решил, то какие могут быть планы в деревне, – возразил Митька. – Самое правильное дело.
– Никто за меня не будет решать, где и что мне делать! – твердо произнес Володька. – Даже матушка…
1
Печурка – углубление, ниша в печи.