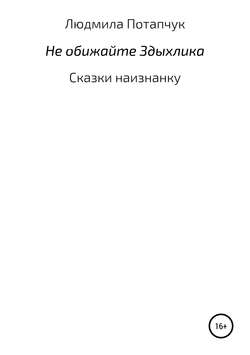Читать книгу Не обижайте Здыхлика - Людмила Станиславовна Потапчук - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Эрик и Эмма. Дом
ОглавлениеКогда Сестренка еще лежала в кроватке и умела только мяукать, мама была почти как на фотографиях. Сейчас я вам расскажу. В доме, где мы жили, на антресолях лежали старые альбомы, да и сейчас, наверное, лежат, и страницы у них картонные, и на этих страницах наклеены фотографии. Это такие красивые картинки для запоминания. Потому что вот наши старшие братья и сестры, которые уже давно-давно живут отдельно и не сидят на шее у мамы и папы, и не сосут из них кровушку, как зловонючие пиявки, а наоборот, иногда подкидывают им на хлеб, на водку, – старшие сами умеют помнить, какая раньше была мама, потому что когда она была такая, они уже были умные и умели запоминать. А я откуда могу это помнить, если я был еще глупый и умел только плакать, а то и вовсе меня еще не было. Ну, это я не знаю, как так меня не было, это старшие все врут, наверное. Они вообще много врут, а потом все равно признаются. Наверное, я все-таки был, сидел где-нибудь под шкафом или еще где, но был такой маленький и глупый, что про это и говорить стыдно, поэтому-то все они и твердят в один голос: не было, не было. Где-то был, но как бы и не было. Ну, пусть будет, что не было, ладно уж. Я вообще спорить не люблю.
Да, я про чего? Я про фотографии. Это такие специальные запоминальные картинки, чтобы те, кто раньше был маленьким и глупым, сами увидели глазами, какими были в то время старшие и умные. Потому что люди ведь все время меняются. Бывает, что сначала они красивые и улыбаются, и одежда у них красивая, и лицо, и вообще, а потом они сморщиваются, глаза у них становятся маленькими и злыми, щеки начинают свисать и зубы теряются постепенно, и под ногтями черное. Я думаю, что на самом деле бывает и наоборот – что сначала люди такие противные, со смятой кожей, и шеи у них как сапоги, а потом они раз – и разглаживаются, и глаза у них блестят и добреют, и зубы вырастают во рту, и пахнут они лучше, чем раньше. Я такого никогда не видел, но это же не значит, что так не бывает.
Вот на старых-старых фотографиях мама знаете какая? Как принцесса из сказки, прямо чтоб я сдох. У нее волосы сделаны из золотых нитей. Это не очень видно, если фотографии черно-белые, но угадать все равно можно. Мне иногда кажется, она на самом деле принцесса из сказки, поэтому ей так плохо в нашей квартире, и в нашем дворе, и вообще в нашем мире ей плохо, вот она и пьет и пьет из бутылки, пока ей не станет хорошо. Только когда ей хорошо, она никого уже не видит. А когда видит, значит, ей плохо, и подходить лучше не надо, а то будет драться. Люди, когда им плохо, часто дерутся. Не потому, что они злые, а потому, что им же плохо.
Вот когда Сестренка была еще как слепой котенок, мяукала в своей кроватке, писала когда хотела и не туда, куда нужно, и вообще была такой глупой, что я уж думал, она такой и останется навсегда, мама была как на фотографиях, хотя и не совсем. У нее были волосы как из золота. А что такое золото, я-то уж знаю, у мамы тогда еще было такое кольцо, специально из золота, оно было цветом как пиво в бокале. Мама с папой тогда часто покупали пиво, и бокалы у нас еще были. Они были как тюльпаны. Правда, тюльпаны – они, если их швырнуть о стену, не заплачут и не разобьются. Они просто тихо обидятся и завянут навсегда.
Вот и мама стала вянуть, как тюльпаны. И волосы у нее посерели и стали выпадать и теряться, а если и находились, обратно уже не прирастали. И под глазами появились синяки, которые никак не проходили, не то что раньше. Раньше, когда папе было плохо и он добирался до мамы, у нее тоже становились синяки – такие пятна, которые появляются, если тебя обижают, но они потом желтели, и это значило, что скоро все пройдет, как будто папа и не злился на весь мир и не обижал маму. А тут у нее так посинело под глазами, что и не проходило. Наверное, это ее обидел Тот, что всю свою жизнь злится на мир. Он злится и злится, а маме хуже и хуже. У нее лоб сморщился, и щеки сморщились, и глаза стали злые и маленькие. И чтобы ей стало хорошо, она уже должна была пить водку, потому что пиво ей было как вода. От него она не забывала плохое и не вспоминала хорошее, и не переставала видеть нас вокруг себя.
Вот такой мамы у нас нет на фотографиях. Потому что фотографии ведь просто так не сделаешь. Тут нужна специальная штука, у которой есть волшебная кнопочка – нажимаешь на нее, и из штуки вылезает такое как будто как в кино у стрелялок, только широкое; нажимаешь на другую потом кнопочку, и штука чирикает и иногда еще вспыхивает понарошку, и потом кто-нибудь из наших старших идет к людям, которые знают, как доставать из штуки фотографии. Она ведь не просто так чирикает, она запоминает. Широкая стрелялка смотрит, а чирикалка запоминает и рисует картинку, которая совсем как в жизни. Если ее направить на маму, которая сидит и смеется, то штука точь-в-точь зарисует, как мама сидит и смеется, и сразу любому дураку будет понятно, что это мама, а не кто-нибудь другой, не папа, например. Я ни в жизнь так рисовать не умел, чтобы было похоже, но один наш с Сестренкой старший брат, которого еще пускали в школу каждый день и который поэтому здорово рулит во всяких науках, мне по секрету сказал, что штука рисует светом. Наверное, поэтому у нее так клево получается. Поди тут плохо нарисуй, когда тебе сам свет помогает.
Он очень крутой, этот наш старший брат, он живет в другом доме и обалдеть как красиво называется – электрик. Он давно уже уехал в какой-то совсем другой город, потому что тут у нас ловить нечего. А ему уж так хотелось чего-то ловить.
Ну вот, когда мама была как принцесса, у нас, мне брат рассказывал, такая штука была. А потом не стало.
Я о чем. Когда мама была почти как с фотографий, а я это еще помню, я уже был умный, вот тогда она еще умела на нас не кричать. И Сестренку даже брала на руки, и говорила ей так ласково-ласково: «Эх ты, скотинка ты моя». И если Сестренка начинала мяукать – поначалу она еще не знала, как надо плакать по-правильному, – мама ее успокаивала, мама говорила ей тихонечко: «Чтоб ты сдохла, тварь». И Сестренка тогда сразу решала отдохнуть и не мяукала больше. Но потом мама устала жить, ей стало все равно, плачет кто-то около нее или, наоборот, молчит, или вообще нет никого. Сестренка уже была не такой глупой, ходила ногами, как человек, и говорила смешные слова, а мама все равно не радовалась почему-то, ей было только все хуже. И я тогда стал сам Сестренку успокаивать. Потому что она уже тогда мне понравилась. Особенно как она обнимала меня и засыпала, а когда я вставал, цеплялась за меня ручками, хотя и спала. Это она боялась, что я уйду. И я отлеплял ее ручки от себя по одному пальчику. Не потому что не хотел с ней быть рядом, нет, а только если надо было в туалет. Терпел до последнего, а потом отлеплял Сестренку и бежал. А когда прибегал, она уже плакала и искала меня, шлепала ручками по подушке. Потому что я для нее был будто самый хороший. Она тоже для меня скоро стала как самая хорошая.
Еще я научился ее кормить. Кормить маленьких очень просто, только надо знать как. Я вас могу научить, мне это запросто, а вам вдруг пригодится. Надо дождаться, пока все заснут, все-все дома должны заснуть. Потом пойти в прихожую, где висят всякие одежды больших, и залезть в папин карман. Там почти всегда что-нибудь бывает. Ведь папа – он хотя всегда злился и ругался и никогда не был, как мама на фотографиях, с золотыми волосами, а всегда смотрел так, как будто сейчас стукнет, – папа всю жизнь всех нас вез на своем хребте, и мы были для него дармоеды и проглоты, то есть те, кого ты хочешь накормить, и поэтому пашешь на дядю как вол. Я никогда не видел папиного дядю, но он иногда давал папе деньги за то, что папа пахал, чтобы можно было купить еды и водки. И водки папа покупал, а еду иногда забывал купить, потому что невозможно же все помнить, если ты еще и работаешь. Ну вот, надо залезть в папин карман и взять оттуда сколько-нибудь денег, и спрятать их как-нибудь поинтереснее, например в носок, который у тебя на ноге. И можно смело идти спать. А когда будет утро, надо потихоньку выбежать из дома, очень быстро прибежать в магазин и там купить какую-нибудь такую еду, чтобы была длинной, а не короткой. Ну, знаете, чтобы не сразу все сжевать, а чтобы и на потом осталось. Например, хлеба одну буханку и молока один литр. Во еда! Очень надолго хватает, на целый день, и Сестренка не плачет, и мама не очень злится.
А когда она выросла и стала все понимать, что я ей говорю, – вот тогда-то стало здорово! Сестренка стала совсем обалденная. Можно было ей сказать: не реви, еды сегодня нет, завтра еда будет, завтра, и она раз – и переставала реветь. Можно было с ней вместе идти во двор и сколько угодно кататься на качелях. Она очень прикольная стала, вообще отпад. Можно было ей сказать: ты не смотри, что чужие дети смеются и тычут пальцами как припадочные, это они не над тобой смеются. А просто – смотри, у тебя же вон пальто разодрано сзади. Смешное такое пальто, да? И она понимала и тоже начинала смеяться. Ей тоже было смешно, что у нее дыра в пальто от подмышки до самой попы.
Мы с ней гуляли почти всегда вместе. Когда она научилась не есть песок из песочницы, я иногда оставлял ее во дворе и уходил с мальчишками на пустырь. Но потом они постепенно все не захотели ходить со мной на пустырь. То есть они ходили туда все равно, только убегали от меня, как будто я их съем, что ли. Я сначала думал, это такая игра и надо догонять, ведь бывают же такие игры, когда от тебя все бегут, а ты как будто злой и догоняешь, и всем весело. Но они как-то не весело убегали. Камнями кидались иногда. А один ко мне подошел, когда не видел никто, и сказал, что их мамы запретили им водиться со мной и чтобы я больше не лез. Я стукнул его прямо по глазу, как взрослый, и ушел к Сестренке. Сел с ней на качели и качаться даже не стал, а обнял ее двумя руками и так сидел. Я тогда по-серьезному понял, что она для меня самая хорошая. Потому что если ей все на свете запретят со мной водиться, она все равно будет, даже если ее за это побьют.
Но это было потом, а сначала мальчишки мне все завидовали и водились со мной, потому что я был самый крутой на площадке. Они говорили, что я лазаю, как цирковой. Цирковые – это такие бездельники, которые вместо того чтобы делом заниматься, все время лазают и кувыркаются. Так папа сказал. Я думаю, раз они больше ничего не делают, а только лазают, то лазать у них здорово получается. Я тоже здорово лазал. Мальчишки всегда на меня с разинутыми ртами смотрели. Даже когда уже не водились со мной.
Сестренка лазать не умела. Если честно, то это из-за меня. Она когда в первый раз за мной полезла, у меня внутри как все заколотится! Я сам падал сто раз и ударялся всякими местами, и ничего, иногда даже кровь не текла, а синяки только. А она полезла, и мне сразу показалось: падает. И прямо как картинки перед глазами замелькали: вот упала, вот лицо ее – она плачет, вот ее тоненькие ручки – разбиты, пальчики поломались. И я как заору тогда: слезай, ты что, вообще что ли! Так и не дал ей учиться. Я плохой учитель.
И вот когда наша мама уже была совсем не как с фотографий, и уже сто лет как умела пить противную водку не кашляя, пришли Эти.