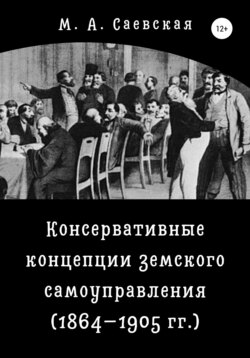Читать книгу Консервативные концепции земского самоуправления (1864–1905 гг.) - М. А. Саевская - Страница 5
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА II. «ЗЕМСКАЯ ИДЕЯ» В ВОСПРИЯТИИ РУССКИХ КОНСЕРВАТОРОВ
§ 2. Славянофильская концепция земского самоуправления
ОглавлениеК консерваторам пореформенной России относят обычно известных своей «охранительной» политикой правых государственных деятелей, например, авторов, так называемых контрреформ Александра III, а так же редакторов консервативных журналов и газет, поддерживавших государственную политику, укрепление монархического принципа и борьбу с либеральными и особенно революционными течениями. Помимо приверженности самодержавию, православию и народным традициям их объединяло непринятие парламентаризма, конституционализма и в целом западной модели демократии133. Как справедливо замечает А.А. Ширинянц, консерватизм включает в себя «сплав очень разных тем, мотивов, настроений, хотя и имеющий общий стержень»134.
В основе консервных концепций лежит защита традиционных ценностей, соблюдение их иерархии, уважение основных общественных институтов – семьи, религии, общины, идеи социальной стабильности135. В смысле всего вышеперечисленного, славянофилы, безусловно, являлись консерваторами. Но следует отметить, что теоретики особого пути развития России имели в некотором смысле самостоятельную концепцию и русской истории, и русской монархии, находящуюся, однако, в рамках консервативного течения русской мысли. Как справедливо замечают Н.Ю. Андреев и В.П. Канищев, «каждый славянофил (начиная от А.С. Хомякова и заканчивая его современными последователями) обращал внимание на православие, самодержавие и народность как базовые ценности русского народа»136.
Современные исследователи русского консерватизма А.А. Ширинянц, А.В. Мырикова, Е.В. Фурсова так же подчеркивают, что один из самых ярких представителей славянофильства И.С. Аксаков «руководствовался рядом идеологических принципов, отличавших русский консерватизм от современного ему западноевропейского и, в упрощенном виде, сводимых к формуле «православие, самодержавие, народность»137.
Современный исследователь А.К. Голиков пишет: «Начиная с 30–40-х годов XIX в. носителями консерватизма были славянофилы …Духовным истоком их консерватизма была русская православная традиция с ее идеями великодержавности, национально-культурного своеобразия, социокультурной самобытности развития России, охранения духовно-нравственных ценностей»138.
По мнению А.А. Васильева, посвятившего славянофильству отдельную монографию, «можно признать славянофильство особой ветвью в консервативном, охранительном русле политико-правовой мысли, но подчеркивая его поиск православных и государственных начал не в современной ему государственной бюрократизированной жизни, а в ткани народного духа, который обнаруживал себя в Московской Руси и жизни русского православного народа»139. Славянофилов считают консерваторами такие современные специалисты как Л.В. Лукьянчикова, О.В. Парилов140, А.В. Репников141, Э.А. Попов142, И.А. Немцев143, С.М. Сергеев144, О.С. Шакирова145.
И действительно, славянофильство было течением консервативной мысли, но при этом имеющим свои особенные черты. Если большинство консерваторов пореформенной России были защитниками, прежде всего, современной им имперской традиции, то славянофилы искали идеалы общественно-государственного устройства в более ранних временах – в России еще до воцарения Петра I. Славянофилы придали допетровскому периоду российской истории свое неповторимое своеобразие, вдохнув в старые понятия новые смыслы и идеалы. Одним из таких понятий было земство. Наделив земское самоуправление особым, по сути, ключевым значением в русской истории, именно славянофилы, по существу, ввели это понятие в идейно-политическое пространство Российской империи и тем самым оказали огромное влияние на консервативную дискуссию в вопросе о местном самоуправлении146.
И здесь следует обратить внимание на то, что в представлении многих современников славянофилы были не только консерваторами, но, в некотором смысле, лучшими представителями этого идейного течения. Так, Ф.И. Тютчев считал, что в России именно консервативное начало «сохраняет только жизнь, а смерть – отсутствие жизни – непременно разлагает». В центре консервативно-национального большинства русского общества он видел именно славянофилов. Славянофильское направление, по убеждению Ф.И. Тютчева, носило «наиболее ярко выраженный национальный характер» и именно потому представлялось «наиболее откровенно консервативным, наиболее искренне преданным самому принципу власти в России»147. Того же мнения придерживался и представитель русского почвенничества Н.Н. Страхов: «Со славянофилов начинается поворот в нашей умственной жизни. Как известно, они – националы в смысле отрицания космополитических идей; они – самобытники, как противники подражательности; они – консерваторы, как защитники тех живых начал, на которых выросла, окрепла и держится Россия… Все наши русские партии, всякие консерваторы и патриоты не только не имеют права отрекаться от славянофильства, а обязаны признавать его существенные принципы, и могут расходиться только в частностях»148.
Именно между этими двумя крайностями абсолютизма и конституционной монархии, по мнению русских консерваторов, должно было существовать русское самодержавие, опирающееся на народ, то есть на правильное земское самоуправление.
Согласно славянофильской концепции, не только самодержавие видело опору своей власти в местном (земском) самоуправлении, но и «земщина» видела в самодержавии защиту своей самобытной народной жизни149. Анализируя концепцию славянофилов, Ю.А. Швецова и А.В. Биряева пишут: «Земщина являлась выражением думы, свободы мысли людей, и к ее мнению должна прислушиваться власть. Никакие преграды не должны разделять государя и народ, власть и земщину. Словом «земля» («земщина») славянофилы именовали народ, добровольно отдавший свою политическую власть Государю, но оставивший за собой право воздействовать на него с помощью свободы слова, мысли, печати, совести и общественного мнения, доводимого до царя Земским собором»150.
Наиболее ярко и бескомпромиссно идею земского самодержавия, высказал С.Ф. Шарапов, который писал: «Иной, кроме Царской и Самодержавной, верховной власти в России быть не может. Но под нее нужно подвести совсем иной фундамент. Этот фундамент – широкое самоуправление… Все будущее России – в земстве, поставленном как первооснова государственного здания. Выделите из области государственной работы все, что имеет местный характер, – только тогда со своим делом будет в состоянии справляться центральное правительство»151. Таким образом, он особенно подчеркивал, что земское самоуправление не только не ограничивает самодержавие, но, напротив, освобождает центральную власть от чрезмерной загруженности. В своем государственно-правовом идеале С.Ф. Шарапов видел три силы – свободного собственника земли, независимое земство и, наконец, самого царя, «в верховной полноте прав которого заключаются права, как частных лиц, так и земств»152.
По убеждению славянофилов, именно земство было залогом сильной самодержавной власти. Монарх же в свою очередь был гарантом уникально русской земской независимости153. А.С. Хомяков писал: «Ни в какой стране не существует, в основе государственного устройства, таких широких зачатков местного самоуправления, как в России: нет надежнейшей опоры и оплота для русской царской власти, как наш сельский мир; на мирском или общинном строе Русской земли, способном и к более полному, в народном же духе развитию, зиждется русское самодержавие. Чем тверже и независимее верховная власть, тем совместимее с нею и всякое благо мирной свободы»154. Регулятором же отношений власти и земства опять же в первую очередь оставалась нравственная связь между царем и народом, внутренние ограничения, поставленные «верой и обычаями». Д. А. Хомяков утверждал «Народ верил (и верит доселе), что Царь, когда это ему кажется нужным, думает о великом государевом, земском деле вместе с Землею; в этом он так уверен, что ему никогда на мысль не приходило допытываться, достаточно или недостаточно Царь обращается к Земле с вопросами? …Во всяком случае, верно для народа то, что из тех рамок, которые поставлены верой и обычаями, Царь так же мало может выступить, как и он сам (народ-Земля)»155.
По мнению И.С. Аксакова, русский народ искал союза сильной самодержавной власти с землей, при этом союза свободного и естественного. «Кто произнес: «самодержавие», – писал И.С. Аксаков, – «тот вместе с тем произнес уже и «земщина», так как оба эти начала не только не находятся между собой в антагонизме, но одно подразумевает другое»156.
Надо сказать, что славянофилы были не только философами и не просто авторами уникальной социально-политической концепции, но и историками, глубоко изучавшими отечественное прошлое. Свободная, самоуправляющаяся община, искони существовавшая в русских землях, стала для них прообразом возрождения земского самоуправления в России. Власть должна была дать право свободно развиваться местной жизни, которая в свою очередь призвана была обратиться к своим истокам – соборности, общинности, способности к самоорганизации и при этом верности самодержавию157.
К.С. Аксаков утверждал, что у истоков русской государственности лежали свободные общины, которые призвали княжескую власть, но не смешались с ней158. Он писал: «Славяне не образуют из себя Государство, они призывают его; они не из себя избирают Князя, а ищут его за морем; таким образом, они не смешивают Земли с Государством, прибегая к последнему как к необходимости для сохранения первой. Государство, политическое устройство – не сделалось целью их стремления, – ибо они отделяли себя или земскую жизнь от Государства, и для сохранения первой призывали последнее»159.
Наиболее подробное и научное обоснование славянофильской теории находится в работе И.Д. Беляева, написанной по поручению другого известного славянофильского мыслителя Ю.Ф. Самарина. И.Д. Беляев писал: «Новгородский мир, приглашая Варяжских князей, естественно желал сохранить неприкосновенными все свои старые порядки, и имел в виду при помощи приглашенной княжеской власти только прекратить междоусобия и сохранить свой союз или мир от распадения». Он особо подчеркивает тот факт, что приглашенным князьям даже не разрешали жить в самом городе, в Новгороде, так как там было «гнездо славянства и главного народного веча, выражавшего верховную власть народа». Князья с их дружинниками жили в пригороде160.
По мнению И.Д. Беляева, скандинавские князья не поменяли свой облик, не «ославянились», в то время как славянские племена не приняли «образ жизни и общественный строй Скандинавов» и не отказались «от всей своей прежней жизни». И, несмотря на то, что «в княжую дружину стала уже поступать вольница и из Славян и разных финских племен», княжеская варяжская дружина и земская община представляли собой два разных мира161. В славянофильских текстах «туземная» славянская общинная земская жизнь противопоставляется жизни русских князей и дружинников, то есть началу государственному162.
Так, в представлении А.С. Хомякова, земская община, «покоясь на старине и предании», жила традицией, гармонией и внутренним единством, в то время как государственное начало, не имея в себе органического единства и жизни, искало внешние формы во всяких иноземных веяниях163.
Долгое время земские и государственные структуры существовали почти параллельно. По утверждению И.Д. Беляева, в земские выборы не вмешивались «ни князь, ни его служители и не имели права вмешиваться; это было дело чисто одной земщины, и притом дело искони ей принадлежавшее, вытекшее из самой жизни Русского общества, а не дарованное князем»164.
Выборному от земств князь не мог отказать в должности, а «обида» земских выборных властей в сильной земщине «никогда не сходила даром ни князю, ни его слугам»165. В подтверждение этого утверждения, он приводит в пример ряд убийств должностных лиц, совершенных «земцами». Так в XII-XIII вв. были убиты тысяцкие Иван Андреевич и Матвей Андреевич в Рязани, тысяцкий Андрей Глебович в Белгороде, а галичане «избили любимых дружинников своего князя Ярослава, Чагрову чадь». В заключение славянофильский историк приходит к выводу о том, что «земщина во всех городах Руси твердо стояла за свои права»166.
И все-таки, по общему мнению славянофилов, конфликты не сделались основой русской государственности. В представлении К.С.Аксакова в России не было ни западной демократии, ни западной аристократии167. Мыслитель подчеркивал именно русский союз «земли» и «власти», а не противостояние, «как это было у других народов»168. По мнению другого славянофила И.В. Киреевского, начала Древней Руси так же были отличны от оснований государственности европейской, так как «там государственность из насилий завоевания», а в России «из естественного развития народного быта»169.
Противопоставление и единство «земли» (земщины, земского самоуправления) и «власти» (дружины, князя, государства) легли в основу славянофильской концепции происхождения русской государственности. По утверждению И.Д. Беляева, разделение самоуправляющейся «земщины» и княжеской власти остается и после татарского нашествия, так как татарская перепись населения, смешавшая формально дружину с земщиной не смогла изменить того обстоятельства, что в действительности земский мир жил своей жизнью в отличие от княжеской дружины. В подтверждение данного тезиса И.Д. Беляев пишет о том, что «дружинники, бояре и слуги и во время владычества Татар не утеряли еще своего старинного права свободного перехода от одного князя к другому»170.
Возвышение Москвы так же не привело к резкой перемене отношений земли и власти, так как изменения совершались не насилием, а «естественным требованием жизни». Особое значение приобретает земщина со времен правления Ивана IV. А. С. Хомяков, рассматривая порядок введения выборных должностей в Московского государстве, подчеркивает, что именно при первом русском царе вводится «земская исправа». Таким образом, мыслитель прослеживает связь вечевых традиций Новгорода и Пскова с новой московской системой выборных должностей. По мнению И.Д. Беляева, Иван Грозный не только установил местное самоуправление, но и заявил о прямой связи царя и народа через Земский собор171.
Серьезным ударом по земскому самоуправлению стало издание Соборного Уложения 1649 года, в котором ни одна статья не обеспечивала юридически значение земщины в государственных делах. И даже при решении судебных вопросов выборные от общества старосты и целовальники со своим земским дьяком больше не присутствовали, в то время как суд был «предоставлен решительно одним воеводам и приказным людям»172.
По мнению И.Д. Беляева, «с изданием Соборного Уложения отменено не только юридическое значение всей земщины России, но и значение местных земщин»173. Главной причиной ослабления земского начала при царе Алексее Михайловиче И.Д. Беляев считал разделение интересов дворянства и проблем и нужд других сословий. Если еще в годы смуты бояре объединялись с остальной земщиной, то в XVII веке они нашли «более выгодным и удобным окончательно обратиться в служилых людей нового государя и повелевать земщиною от царского имени»174.
При Петре I «выборное право осталось только за дворянами и купцами, а не за всеми классами земщины, следовательно, в земщину внесено гибельное начало разделения на классы с правами и классы без прав»175. Кроме того, выборные ландраты, ландрихтеры и бурмистры были только формально представителями земщины. На самом же деле они были чиновниками правительства и отвечали перед ним, а не перед своими обществами.176 После правления Петра I «тянулась та же история реформ, все более и более уничтожавшая значение земщины»177.
Попытки возродить земщину при Екатерине II привели только к началам возрождения выборности. Новая земщина не была едина и состояла из сословий с противоречащими друг другу интересами и потому и была лишена законных органов, при посредстве которых сословия могли бы соединяться и взаимодействовать друг с другом. Реформы Екатерины II «только на время поуспокоили общество, предоставив ему некоторую свободу и небольшую долю местного самоуправления»178.
Некоторые попытки объединить сословия в земщину предпринимались и после правления Екатерины II. Однако, принципиальным стало только Положение 19 февраля 1861 года, освобождавшее крестьян из-под власти помещиков. Кроме того, по мнению И.Д. Беляева, уже «в самом Положении 19 февраля 1861 года выступили на первый план общинное и выборное начало», так как крестьяне «составляли по делам хозяйственным сельские общества, а для ближайшего управления и суда соединялись в волости». Наконец, Положением о земских учреждениях от 1 января 1864 года земству было дано «довольно простора к сближению сословий друг с другом в общей деятельности» и восстанавливалось «значение забытой у прежних правительств земщины»179.
История земского самоуправления, обрисованная славянофилами, приводила к выводу о том, что новые земские органы должны быть так же отдельны от государственных учреждений. С.Ф. Шарапов писал: «Дело идет не о тех или иных частностях в регламентации местного управления, не об изменении или усовершенствовании существующего распорядка, но о глубочайших основах нашего гражданского строя. Вопрос ставится так: есть ли земство орган государства, точнее, входит ли оно в систему собственно государственной жизни или представляет нечто, от государства отличное, свою собственную систему, с государством не совпадающую, нечто живущее самостоятельною жизнью? Иными словами: быть или не быть самоуправлению, ибо всякое смешение функций самоуправления, дела земского, с «делом Государевым», по нашему глубокому убеждению, являет лишь лжесамоуправление, точно так, как всякое оформленное и узаконенное (вне мнения и ходатайства) вмешательство земщины в «дело Государево» явило бы лишь лжесамодержавие»180.
Славянофилы были своеобразными представителями, так называемой, общественной теории самоуправления. По мнению ряда исследователей, именно под влиянием теоретических, да и практических разработок славянофилов, было разработано основное «Положение о губернских уездных и земских учреждениях" 1864 года. Согласно этому документу «земские учреждения признавались установлениями не государственными, а общественными, преследующими свои особые, местные общественно-хозяйственные цели»181.
Значение разработок славянофилов для земской реформы подчеркивает Е.С. Баразгова. Она замечает, что «земская идеология по большей мере базировалась на принципах славянофильской интерпретации ценности и назначения местного самоуправления»182. Исследователь справедливо подчеркивает тот факт, что славянофилы, с одной стороны, «являлись верными сторонниками сохранения монархического управления в России», а с другой, «уверенно отстаивали позиции земств»183.
В основе славянофильской концепции земского самоуправления лежала идея о том, что русское самодержавие было исторически тесно связано с самоуправлением. В представлении славянофилов, свободные славянские общины изначально призвали княжескую власть на тех основаниях, что она не будет вмешиваться в их внутреннюю жизнь. С другой стороны, земство имело возможность доносить до царя мнение народа, в первую очередь, через Земские соборы. Со временем, однако, с усилением царской власти связь эта была нарушена, и правительство стало все жестче ставить местную жизнь под свой контроль. Новые органы местного самоуправления, по мнению славянофилов, должны были возвратить исторически закономерную систему управления, в которой воля самодержавного монарха считалась с интересами свободной земской общины.
133
См. подробнее: Саевская М.А. Концепция земского самодержавия в трудах русских консервативных мыслителей второй половины XIX начала XX века // Социально-гуманитарные знания. – 2020. – № 1. – С. 311-317.
134
Ширинянц А.А. Нигилизм или консерватизм? (Русская интеллигенция в истории политики и мысли). М.: Изд-во Московского университета, 2011. – С. 210.
135
Там же. С. 210-211.
136
Андреев Н.Ю. Канищев В.П. Базовые ценности славянофильского правопонимания // Российский журнал правовых исследований. – 2015. – № 4(5). – С. 20.
137
Ширинянц А.А. Мырикова А.В. Фурсова Е.Б. Константин Сергеевич и Иван Сергеевич Аксаковы // Аксаков К. С., Аксаков И. С. Избранные труды / Сост., авторы вступ. ст. и коммент. А. А. Ширинянц, А. В. Мырикова, Е. Б. Фурсова. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С. 74.
138
Голиков А.К. Русский консерватизм XIX – начала XX века в контексте западноевропейского консерватизма // Политэкс. – 2006. – Т. 2. № 1. – С. 312.
139
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов. – М.: Институт русской цивилизации, 2010. – С. 44.
140
См.: Парилов О.В. Консервативная форма русского национального самосознания: становление и основные этапы развития: автореф. дисс. докт. филос. наук. – Н.Новгород, 2006.
141
См.: Репников А.В. Консервативная концепция российской государственности. – М.: МПУ «СигналЪ», 1999.
142
См.: Попов Э. А. Русский консерватизм: идеология и социально-политическая практика. – Ростов н/Д.: Изд-во Рост. ун-та, 2005.
143
См.: Немцев И. А. Трансформация славянофильства и самодержавное государство в 60-70-е годы 19 века // Вестник Пермского университета. Серия: история. – 2013. – № 1(21). – С. 142-150.
144
Сергеев С.М. Консерватизм и традиционализм // Научные труды МПГУ: Сер.: Социально-исторические науки. – М.: Прометей, 1998. – С. 58-63.
145
См.: Шакирова О.С. Теория и практика реформирования России в учении славянофилов и общественная мысль второй половины Х1Х-начала XX вв. Автореф. дисс.. канд. ист. наук. – Ижевск, 1996.
146
См. подробнее: Саевская М.А. Концепция земского самодержавия в трудах русских консервативных мыслителей второй половины XIX начала XX века // Социально-гуманитарные знания. – 2020. – № 1. – С. 311-317.
147
Цит. по: Ширинянц А.А. «Консерватор»: слово и смыслы в русской социально-политической мысли // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. – 2015. – №6. – С. 120.
148
Цит. по: Ширинянц А.А. «Консерватор»: слово и смыслы в русской социально-политической мысли // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. – 2015. – №6. – С. 120.
149
См. подробнее: Саевская М.А. Концепция земского самодержавия в трудах русских консервативных мыслителей второй половины XIX начала XX века // Социально-гуманитарные знания. – 2020. – № 1. – С. 311-317.
150
Швецова Ю.А., Биряева А.В. Государственно-правовые взгляды западников и славянофилов: исторические аспекты // Инновационная наука. – 2018. – № 3. – С. 71. [Электронный ресурс] // https://cyberleninka.ru:[сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/v/gosudarstvenno-pravovye-vzglyady-zapadnikov-i-slavnofilov-istoricheskie-aspekty
151
Шарапов С.Ф. Диктатор (политическая фантазия) // Шарапов С.Ф. Россия будущего. – М.: Институт русской цивилизации, 2011. – С. 390.
152
Шарапов С.Ф. Самодержавие и самоуправление // Шарапов С.Ф. – М.: Институт русской цивилизации, 2011. – С. 46.
153
См. подробнее: Саевская М.А. Концепция земского самодержавия в трудах русских консервативных мыслителей второй половины XIX начала XX века // Социально-гуманитарные знания. – 2020. – № 1. – С. 311-317.
154
Хомяков А.С. По поводу статьи И. В. Киреевского «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России» // Хомяков А.С. Всемирная задача России. – М.: Институт русской цивилизации, 2008. – С. 384.
155
Хомяков Д.А. Самодержавие (опыт схематического построения этого понятия) // Хомяков Д.А. Православие. Самодержавие. Народность. – М.: Институт русской цивилизации, 2011. – С. 160.
156
Аксаков И.С. Что значит выйти нашему правительству на исторический народный путь? // Аксаков И.С. Наше знамя – русская народность.– М.: Институт русской цивилизации, 2008. – С. 226.
157
См. подробнее: Саевская М.А. Концепция земского самодержавия в трудах русских консервативных мыслителей второй половины XIX начала XX века // Социально-гуманитарные знания. – 2020. – № 1. – С. 311-317.
158
Аксаков К.С. Государство и народ.. – М.: Институт русской цивилизации, 2009. – С. 300.
159
Аксаков К.С. Государство и народ. – М.: Институт русской цивилизации, 2009. – С. 300-301.
160
Беляев И.Д. Судьбы земщины и выборного начала на Руси. – М., тип. О-ва распр. полезн. книг, 1905. – С. 16.
161
Там же. С. 39.
162
Хомяков А.С. Всемирная задача России. – М.: Институт русской цивилизации, 2008. – С. 388.
163
Хомяков А.С. Всемирная задача России. – М.: Институт русской цивилизации, 2008. – С. 388.
164
Беляев И.Д. Судьбы земщины и выборного начала на Руси. – М., тип. О-ва распр. полезн. книг, 1905. – С. 55.
165
Там же. С. 56.
166
Беляев И.Д. Судьбы земщины и выборного начала на Руси. – М., тип. О-ва распр. полезн. книг, 1905. – С. 56.
167
Аксаков К.С. Государство и народ. – М.: Институт русской цивилизации, 2009. – С. 310.
168
Там же. С.301.
169
Киреевский И. В. Духовные основы русской жизни. – М.: Институт русской цивилизации, 2007. – С. 220.
170
Беляев И.Д. Судьбы земщины и выборного начала на Руси. – М., тип. О-ва распр. полезн. книг, 1905. – С. 58.
171
Беляев И.Д. Судьбы земщины и выборного начала на Руси. – М.: Тип. О-ва распр. полезн. книг, 1905. – С. 74.
172
Беляев И.Д. Судьбы земщины и выборного начала на Руси. – М.: Тип. О-ва распр. полезн. книг, 1905. – С. 99.
173
Там же. С. 98.
174
Там же. С. 106.
175
Там же. С. 113.
176
Там же. С. 116.
177
Там же. С. 109.
178
Там же. С. 127.
179
Там же. С. 135.
180
Шарапов С.Ф. Россия будущего. – М.: Институт русской цивилизации, 2011. – С. 38-39.
181
Абрамов В.Ф.Теория местного самоуправления на отечественной почве // Полис. – 1998. – № 4. – С. 152.
182
Баразгова Е.С. К истории местного самоуправления в России: эволюция отечественных теорий // Вопросы управления. – 2017. – Вып. 48. – С. 88.
183
Там же. С. 89.