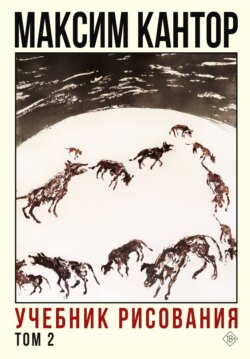Читать книгу Учебник рисования. Том 2 - Максим Кантор - Страница 3
Часть третья
Глава 23
Заложники красоты
ОглавлениеI
Вы убеждены, что все должны поступать так, как нравится вам. Ваши вкусы воплощают общий порядок. Ваше довольство стало мерой хорошего и плохого. Причинять боль другому – плохо; но для вас я тоже другой; отчего же вы решили за меня, в чем мое благо? Для меня хорошо обнимать эту женщину, лежать с ней в постели. И мне безразлично, что это причиняет вам боль. Пусть у вас тоже поболит – ведь когда болит у меня, вам безразлично, не так ли?
Вы говорите, эта женщина грешна, оттого что много раз выходила замуж, то есть нарушала ваши правила. Но мне плевать на ваш суд. Ваша уютная мораль выдумана не для того, чтобы защитить слабых, а чтобы унизить гордых. Если я приму вашу сторону, сторону въедливых праведников, то откажусь от своей сущности. Я не сделаю этого. Я хочу, чтобы эта женщина была моей.
Она стояла перед ним, худая и голая, с отвисшей круглой грудью с большими сосками, грудью, которая показалось ему очень большой на худом теле. Он осмотрел ее длинные худые бедра, густые черные волосы на лобке, плоский живот, и она не сделала попытки прикрыться. Она стояла прямо, как солдат в строю, стояла не шевелясь, откинув голову с короткими мальчишескими волосами, и ждала, что он с ней сделает. Он протянул руку и провел ладонью по лобку, по густым волосам. Она не пошевелилась, только сдвинула ногу в сторону, чтобы его ладони было удобнее ее гладить. Это движение показалось ему циничным, и он перестал ее стесняться.
Он повел ее к дивану, и она шла не прячась, не закрываясь рукой, но прямо, откинув назад голову. Она легла, согнула ноги в коленях, развела их в стороны и сделалась похожа на раскрытую книгу. И он приник к ней так же, как приникал к самым любимым своим книгам: к «Гамлету» и «Трем мушкетерам», к письмам Ван Гога, к дневникам Делакруа, к «Смерти Артура» Томаса Мэлори. И так же, как случалось с ним, когда он открывал эти книги, он растворился в ней, и жизнь вокруг перестала быть важной.
II
Все, что происходило в его семье, происходило на тех же основаниях и так же, как в иных семьях. Одинаковый ритуал с одинаковым тщанием совершают люди хорошие и заведомо дурные: можно дружить и с банкиром, и с бандитом, и, если обсуждать с ними детей, врачей и летний отдых, разницу во взглядах нипочем не заметишь. Однако, если не признавать интересов семьи, тут же сыщутся противоречия в иных сферах. И Павел сидел за столом со скучными родственниками Лизы, ходил с женой к ее неинтересным подругам, и каждый прожитый день сближал его жизнь с тысячами таких же жизней. Это нарочно так сделали, думал Павел, чтобы семейная мораль скрепила устройство неправого мира. Не скажешь за праздничным столом собранию толстых родственников: извините, тороплюсь к любовнице. То-то ахнули бы тетки и кузины, уронили бы пирожки с капустой. Они, говорил про себя Павел, непреклонно решили, что именно для меня хорошо. Для меня полезно делить их тихие радости, слушать про отдых в Крыму. Если выяснится, что у меня есть любовница, то Крым окажется под угрозой.
Сегодня эта чужая жизнь отодвинулась далеко, перестала существовать.
Он так же читал книги: книга была будто бы специально написана для него, никогда не было у книги другого читателя. Ни с кем иным, только с ним говорили Ван Гог и король Артур, и Шекспир писал ему лишь одному. Темная дорога над обрывом у моря, там, где шел Гамлет вдоль могил, – ему одному видимая дорога; только он знает, как не поскользнуться и куда наступить, он помнит, как в темноте отогнуть ветку и перейти вброд ручей. Это написано только для единственного читателя – для него, других не было никогда; и кто бы отважился пройти этим узким темным путем. Он всегда знал, что избран; это для него на далекой эльсинорской стене трубила труба, это ему предстоит вправить сустав у века. Вот зачем дана ему эта книга, вот почему она дожидалась его, одного его – чтобы он не сбился с дороги. И если раньше он иногда сомневался, что сможет пройти до конца, то теперь сомнений не было.
«В ту ночь всю тебя от гребенок до ног, как трагик в провинции драму Шекспирову…» – вот что он вспомнил под утро. Сквозь занавеску светило низкое зимнее солнце, девушка спала, и Павел смотрел на ее грудь и косточку ключицы. И Павел подумал: она была как книга Шекспира – раскрытая для того актера из стихотворения. Трагик в провинции, как точно сказано, нарочно про меня сказано. Именно трагик в провинции, который дает представления с ненужной страстью перед глупой публикой, – вот кто я такой. И приходится произносить со сцены беспросветную чушь – иного не поймут, что еще пойдет в такой дыре? И вдруг актер находит в гостиничном номере том Шекспира – и читает ночь напролет. Как точно описано. И потом Павел подумал: нет, это неточно сказано. Разве страсть возникает оттого лишь, что женщина – такая удивительная женщина – могла не встретиться, могла пройти мимо, а вот вдруг встретилась? Разве только поэтому так колотится сердце? Могло не случиться, могло не произойти – неужели именно этот страх движет страстью? Разве читают ночь напролет оттого лишь, что в провинции книги Шекспира – редкость? Нет, ему не случайно досталась эта книга, это не подарок, не везение – но только исполнение обещанного. Ему досталось то, что принадлежало ему всегда, только одному ему. Эта женщина назначена ему, это он понял еще тогда, в том давнем выставочном зале. Она сразу выделила его в толпе, улыбнулась так, как улыбаются избранному. Трагик в провинции – это надо толковать шире. Вся жизнь – провинция, глухая безрадостная дыра, и лишь эта раскрытая книга делает провинцию единственно осмысленной землей. Нет больше ни столиц, ни провинций, есть единственный путь, который знает тот, кто открыл книгу. Нет ни цивилизованных земель, ни пустырей – есть судьба, теперь я знаю ее. Вот, рядом со мной, вот она, моя желанная, я ее никому не отдам.
Подобно всем мужчинам, изменяющим женам и говорящим себе, что иначе поступить они не могли и сделали хорошо, Павел запрещал себе думать о жене. Он видел и помнил только то, что было у него перед глазами и что казалось ему самым важным: только эту ночную женщину с тяжелой грудью и тонкой косточкой ключицы он видел и помнил. Он провел пальцем по ключице и спустился ниже, и гладил грудь, и трогал плоский сосок. Но точно так же, как и все иные мужчины, убежденные, что имеют право изменить женам, Павел, несмотря на убеждение, что поступает хорошо, и несмотря на запрет думать о жене, совсем некстати стал думать о Лизе. Трогая тело Юлии Мерцаловой, он представлял себе, как Лиза в их квартире лежит и смотрит в темноту и прислушивается к шагам на лестнице, к стуку парадной двери. Лиза всегда ждала его и не спала, и, если он приходил поздно, издалека умела слышать его шаги по пустой ночной улице.
Лиза не плохая, думал Павел, она хорошая, просто слишком обыкновенная. А мне нужна необыкновенная женщина, я всегда ждал необыкновенную. И вот дождался.
Как сказал однажды Борис Кириллович Кузин: ничто не невозможно. Кузин говорил о преодолении культурного детерминизма, об изменении приговора судьбы. Разве непреодолимо то обстоятельство, что Россия – холодная и дикая страна? Что с того, что Россия провела двести лет под монголами, а столетие под большевиками? Можно это преодолеть – и скакнуть в просвещение, сделаться западной цивилизованной страной. Ничто не невозможно, надо приложить усилие. И судьбу женатого на скучной, обыкновенной женщине человека можно изменить. Не навсегда же это со мной. Вот, я нашел свою женщину. Так думал Павел, трогая гладкое тело Юлии Мерцаловой, а она, проснувшись уже, открыла глаза и глядела на Павла широко раскрытыми прекрасными глазами.
– Я люблю тебя, – сказал Павел. Он смотрел на нее, на ее длинное голое тело, мальчишескую голову на подушке, и стриженая девушка не изменила позы, не старалась прикрыться, не стеснялась наготы, она давала разглядывать себя, словно тело ее принадлежало теперь не ей, но Павлу.
И он немедленно принял это как должное и разглядывал ее, не стесняясь. Да, так правильно: книга Шекспира дожидалась трагика в гостиничном номере, и это так же верно, как и то, что женщина эта всегда ждала его – и лежала, раскинувшись на постели, отдавая себя его взгляду. Он провел взглядом, как кистью, вдоль ее ног, по животу, он обвел взглядом ее грудь, проследил линию шеи. Он подумал об откровенных венецианских Венерах и о махах Гойи, о возлюбленных и натурщицах, что так же бесстыдно лежат на картинах в музеях. Он подумал о том, как бесстыдно выкладывали эти женщины свои тела на смятых простынях – и не только для единственного мужчины, но для бесчисленного количества мужчин, которые ежедневно смотрят на них в музеях. И, подумав так, он вспомнил о мужьях стриженой девушки, лежащей перед ним, о тех мужчинах, что уже разглядывали ее, о глазах и взглядах тех, кто прежде стоял перед этой картиной – кто уже изучил ее.
III
– Хочу, чтобы ты была моей, – шептал Павел, уткнувшись ей в плечо. – Совсем моей, понимаешь?
– Совсем и навсегда, – сказала девушка убежденно.
– Не могу примириться с тем, что было до меня, – сказал ей Павел.
– До тебя ничего и не было.
– Невыносимо думать о других мужчинах, которые трогали тебя, которым ты улыбалась.
– До тебя ничего не было, – повторила она со всей силой страсти.
– Но ведь было же, было, – твердил Павел, – разве нет? Объясни мне, ради бога, как ты могла? Ты, такая прекрасная, неужели не знала, что это меня ты ждешь, а больше никого, – и он подумал о книге Шекспира, оставленной в гостиничном номере.
– Разве ты не видишь, что ничего другого не было? – спросила она. И взгляд Павла еще раз обшарил ее тело, прошел везде, где хотел, и Павел подумал, что нет, не мог никто другой так же на нее смотреть и никому другому она бы так не раскрылась для взгляда. Разве сумели бы Тушинский или Голенищев так разглядеть ее? Разве сумел бы Тушинский разглядеть, как устроена ее нога, как круглится колено, как беззащитно открыт живот? Но стоило ему сказать про себя эти имена – Тушинский и Голенищев, как горло сдавила обида.
– Я поверить не могу, что ты их любила. И этого, и того? Объясни мне, пожалуйста, чтобы я понял.
– Спроси все, что хочешь. О ком именно? Кто они: этот и тот? Что тебе хочется знать?
– Мне трудно выговорить имена.
– Ты хочешь, чтобы я сказала сама? Я не боюсь говорить. Я была женой Леонида Голенищева. Я была подругой Владислава Тушинского, недолго, впрочем. Сегодня я – жена Виктора Маркина. И ни один из этих людей мужем мне не был. Помнишь Писание? Шестеро мужей – ни один не муж.
Павел не помнил этого места. Он смотрел на голую девушку и слушал ее, и его слух и зрение существовали отдельно друг от друга и не создавали вместе единый образ. Не могла эта молодая прекрасная и худая женщина лежать в постели с другими. Отчего-то именно худоба ее показалась Павлу несовместимой с обилием мужчин. Не могла она быть столь любвеобильной – нет, только не длинная худая женщина, сделанная по образу эль-грековских праведниц, только не она, так не может быть. Иначе все искусство, все образы существуют зря. Иначе зачем существует различие между Тицианом и Эль Греко, между Рубенсом и Гойей? Неужели понапрасну поднимает художник кисть и стоит перед холстом? Не могла эта стриженая голова лежать на подушке Леонида Голенищева. То, что она произносит, то, о чем она рассказывает теперь, – неправда, так быть не могло. И даже если так было, то, вероятно, это происходило при каких-то особых условиях, поневоле, не по-настоящему, но так, чтобы тот эль-грековский образ не был разрушен.
– Как ты могла? – спросил он.
И стриженая девушка смотрела ему прямо в глаза своими осенними глазами и говорила:
– Я не могла.
– Но могла. Могла же. И с этим Леонидом, боже мой, с этим Леней! Мне это мучительнее всего. И с Тушинским тоже, да? И с ним тоже? С этим толстым, циничным человеком? Скажи мне.
– Мне нечего сказать. Этого не было.
– Как – не было? Объясни, я сойду с ума.
– Я не могу объяснить, – отвечала она. – Просто не было ничего, никого, кроме тебя, не знала. Ничего не помню. Это было не со мной.
– Но с кем же тогда, с кем?
– Обними меня, мне холодно.
Павел умолк и обнял ее, и она прижалась к его плечу, и в эту минуту ему казалось, что действительно ничего, кроме этого объятия, и не было и быть не могло. Разве бывает с кем-нибудь так, как у них сейчас? Так ведь не может быть ни с кем больше.
Ведь не может человек с одинаковой страстью и доверчивостью обнимать двух разных людей, или тем более трех разных людей, или пятерых. А если случалось так, что человек с одинаковой страстью и доверчивостью обнимал много людей, то ведь это – неправильно, что-то не так, значит, в понятиях «страсть» и «образ».
Но было же, было! Она смотрела им в глаза – в чужие глаза, она держала их за плечи – чужие плечи. Она так же тянула к ним губы, так же выгибала шею, так же двигалась и так же говорила – ведь не придумано природой много различий в движениях и речи, и не может быть различий много. Ведь она – тот же самый человек, и, в конце концов, одна и та же картина может сменить много владельцев – а праведница на картине не изменит улыбки. Неужели все они встречали эту улыбку – и улыбались в ответ? Павел представлял рыхлого Тушинского с его вечной кривой ухмылочкой, с которой он предлагал парламенту либеральные законы, отлично зная, что законы эти никогда не пройдут, но предлагать их надо – это будет оценено и на Западе, и в России. Он представлял крепкого, уверенного в себе Голенищева и представлял манеру Леонида крепко и ухватисто брать предметы – как цепко он держал стакан, так же, верно, он и обнимал девушку. Павел представлял и других неизвестных ему мужчин, их руки, обнимающие стриженую девушку, их губы – слюнявые и сухие, вытянутые для поцелуя и растянутые в улыбке. Он запрещал себе думать дальше, но сознание не слушалось его, и он воображал себе подробности и детали, он воображал слова и вздохи – и эти мысли не давали ему покоя. Разве любовь и доверие не уникальные вещи, данные человеку однажды и неповторимые, думал он. Это ведь не фотоснимки, которые можно отпечатать в десятках копий. Это вещи единственные, уникальные, как картина, как рисунок. Но единожды нарисованный, образ уже не принадлежит художнику, думал Павел.
Потом, на другом свидании, он спросил ее опять о ее бывших мужчинах.
– Пусть Маркин, хорошо, – говорил Павел, – я не ревную тебя к Маркину.
– Это он должен к тебе ревновать, – говорила она.
– Я не ревную к нему, – повторял Павел, – он диссидент, он порядочный человек. Я понимаю, его можно любить. Не могу примириться с другими. Ведь с ними надо было говорить о чем-то? Вы беседовали, правда? Они рассказывали истории? Как ты могла? Чтобы сначала один, а потом другой? И все говорят – каждый о пустяках. Все тебя трогают, да? Как можно?
– Так нельзя, – говорила она, – и я не смогла так. Я ждала, когда произойдет главное, но ничего не происходило. Они были все одинаковые. Тогда я вышла замуж за старика – чтобы сделать жизнь осмысленной, чтобы служить ему. Мне было очень трудно: вокруг много пустых мужчин, и все хотели меня обнимать. Красивой быть трудно. Почти так же трудно, как быть художником.
И Павел подумал, что она права. Добродетелен тот, у кого нет соблазнов, подумал он. Добродетельна Лиза, которая не знала других ухажеров, кроме меня. Что за цена у добродетели, если ею награждают за невзрачность.
– Понимаешь, – говорил ей Павел, – я не знаю, как сущность выглядит, я не знаю, как выглядит душа. Но это цельный предмет, от которого нельзя отщипнуть часть – и дать одному, а потом отщипнуть другую часть – и дать другому.
– А как же Христос, – говорила девушка, – разве он себя не раздавал?
– Ах, так ты распущенность христианством объясняешь. – И Павел горько смеялся.
– Не было распущенности, – и девушка смотрела на него твердыми глазами, – я никогда не была распущенной.
И Павел встречал ее взгляд и понимал, что она права. Не могла она быть распущенной. Слово «распущенность» не подходило к этой женщине, сделанной твердо и поставленной прямо. Суть и сущность мира воплощены в ней, думал Павел, они не зависят ни от чего, в том числе от моего суда. Вот она стоит, сильная, и не боится.
IV
И однако ему казалось, что он недоговорил, не сумел объяснить то, что хотел. В другой раз он нарисовал на бумаге круг и показал ей.
– Вот смотри, – сказал он, – этот круг – ты. Там, внутри, все твое – и мысли, и понимания, и любовь, и жажда. Этот круг (то есть все сразу) можно отдать целиком тому, кого любишь. И слиться с ним. А можно раздавать по частям – немного одному, немного другому. Так круг становится меньше – ты отрезаешь от него по кусочку. И когда ты любишь кого-то или просто обнимаешь кого-то, целуешь кого-то, ты расходуешь этот круг. Ты отрезаешь один сектор, потом еще один – для следующего. Вот видишь? – И он нарисовал, как постепенно вырезаются из большого круга сегмент за сегментом, – видишь? Площадь круга все меньше и меньше. И так ты тратишь себя, отдаешь постепенно по частям, и от тебя самой ничего не остается.
– Но я никому ничего не отдала, – сказала она, – все отдала тебе.
И эти слова звучали в Павле, и когда он видел других людей, когда говорил с другими, в нем постоянно повторялись эти слова; и порой он не разбирал, что ему говорят, вслушиваясь в них. Он смотрел на свою жену Лизу, глядел в ее несчастные глаза и спрашивал себя: интересно, способна Лиза почувствовать так же сильно? Способна Лиза отдать все без остатка? А что ей отдавать? Привычный уклад привычной жизни? Котлеты да суп? Он уходил из дома, и шел в мастерскую, и ждал свою девушку, свою возлюбленную Юлию Мерцалову. Он встречал ее на пороге, снимал с нее пальто, вел к кровати мимо своих холстов, и она, проходя мимо картин, трогала их и ласкала длинными пальцами.
– Твои картины, – и она провела пальцами по тыльной стороне холста, повернутого к стене. – Ты не показываешь, потому что я недостойна? Где портрет отца? Господи, я помню этот портрет. Ты его не продал?
– Продал. Послал в галерею, его купил адвокат или дантист. Мне чек прислали.
– Я бы этот чек наклеила твоей Лизе на лоб, – и девушка засмеялась. – Прямо на лоб. Она понимает, что ты обмениваешь картины на ее тряпки и кастрюльки?
– Не знаю, – сказал Павел.
– Думаю, не понимает.
– Как ты узнала, что на картине мой отец?
– Твоего отца мне показывал Леонид. Очень давно. Он не любил твоего отца.
– Как же так могло получиться, что ты была с этим Леонидом, как?
– По глупости, – сказала стриженая девушка.
– По глупости? – и, представляя себе вальяжного чернобородого Леонида, рассуждающего про квадратики и полоски, Павел закрывал глаза.
– Хорошо тебе говорить. Ты не представляешь, что люди могут быть обыкновенными. Тебе Бог велел быть художником, – и она целовала его в ладонь. – Как я люблю твою руку. А вот мозоль, это от кисти?
– Да, – сказал Павел, – от кисти. В это место кисть упирается при работе.
– Покажи мне, как надо держать кисть.
– Вот так, – и он привычным движением принял в ладонь кисть, – видишь: так фехтовальщики держат шпагу.
– Вот так ты держишь кисть каждый день?
– Да.
– Господи, спасибо тебе, – и она снова целовала его в ладонь, а Павел не отнимал руки. – Ты видишь. Он позвал тебя, дал тебе дело. А меня никто не звал, я сама выдумала, чем заниматься.
– Чем? – спросил Павел.
– Тебе будет смешно.
– Скажи.
– Я всю жизнь хотела быть редактором.
– Редактором, – удивился Павел. – Редактором в газете?
– Не всем же быть гениями.
– Исправлять чужие ошибки? Зачем?
– Да, исправлять чужие ошибки, делать так, чтобы все было правильно.
– Не понимаю.
– Я умею исправлять ошибки. Я была редактором самиздата – тогда, давно. Я люблю делать правильно.
– Что делать?
– Все. Лизу свою спроси, – сказала девушка с усмешкой, – как я учила ее варить суп. Спроси свою Лизу.
– Ты знаешь Лизу?
– Мы встречались в одном доме. Давно. И потом Лиза два раза приходила ко мне – но я жила очень бедно, со мной неинтересно было дружить, – девушка засмеялась; она лежала на диване голая, не прикрывая себя ни одеждой, ни рукой, и смеялась, откинув голову, – совсем неинтересно было со мной дружить. Она научилась у меня варить суп – и больше никогда не приходила. Скажи, Лиза хорошо варит тебе суп? Мне нравилась Лиза, но она никогда ничего не умела и не хотела уметь.
– Ты жила бедно? Что это значит? Мы все жили бедно. – Павел не стал отвечать про суп.
– Я мыла полы в школе напротив дома и на Казанском вокзале мыла полы. Знаешь, это неплохое занятие. Если сосредоточиться, думать о чем-нибудь другом, то не заметишь, как вымоешь все лестницы. Это совсем нетрудно. А по ночам перепечатывала статьи диссидентов. Самолюбивые статьи пустых людей. Я напечатала тысячи страниц. На тонкой кальке, чтобы можно было скатать в трубку и незаметно провезти через границу. Их отправляли с иностранными корреспондентами в Мюнхен и в Париж, и там выходили бессмысленные самолюбивые альманахи, журналы, книги. Я их знаю еще в рукописях.
– А зачем ты печатала, если тебе не нравилось, что они пишут?
– Потому что каждый должен исполнять свои обязанности. Это была моя обязанность. Меня просили напечатать за ночь двадцать страниц. Иногда сорок. Однажды шестьдесят. Это было невозможно, но к одиннадцати утра я закончила. А утром пошла мыть пол в школу напротив.
– Что было противнее? – спросил Павел.
– Я бы хотела редактировать эти тексты. Все можно сделать лучше. Даже лестницы в школе, даже зал ожидания на Казанском вокзале можно отмыть. Все плюют на пол и проливают пиво – но ты можешь отмыть и отскрести добела.
– А потом опять наплюют и прольют пиво.
– Значит, опять нужно взять ведро и тряпку. Надо выполнять свои обязанности. Просто девушки не любят это делать.
– Да, – сказал Павел и вспомнил Лизу, которая спала до позднего утра, – девушки не любят, и никто не любит.
– Я люблю редактировать, – сказала стриженая девушка.
– Но современные газеты сделать лучше нельзя. В них ни слова прочесть невозможно. Ты в них заглядывала?
– Какая разница, о чем пишут. Говорю тебе: я не гений, не такая, как ты. Это ты знаешь, что сказать, я – нет. Я просто буду следить за тем, чтобы грамотно говорили. Чтобы существительное стояло в нужном падеже, глагол – в нужном спряжении.
– И тебе безразлично, какую мерзость они пишут?
– Я не могу содержание изменить. Но я могу сделать речь более грамотной, тогда содержание изменится тоже.
– Никогда, – сказал Павел, – никогда содержание не переменится.
– Я не могу отменить расписание поездов на Казанском вокзале, – сказала девушка, – и не могу запретить плевать на пол. Но я могу каждый день мыть пол на вокзале и вылизывать плевки.
Она говорила про плевки и блевотину, а он смотрел на ее длинное тело; девушка лежала перед ним не закрываясь, без стыда, подставляя себя под взгляд, точно это тоже входило в ее обязанности – дать себя рассмотреть.
– Ты, это была ты, я тебя видел в церкви.
– Когда?
– Очень давно, у Николы Обыденного, на всенощной. Да-да, это была ты, я теперь точно знаю. Я вспомнил все, я теперь даже платок твой вспомнил. Ты в платке была совсем другая, чем тогда на выставке, где мы познакомились. Мне то твое лицо – из церкви – по-другому помнилось. Теперь все вижу ясно – ты была с Леонидом Голенищевым. Я помню, как ты на него смотрела.
– Не надо вспоминать об этом, – сказала она, – ты не должен.
– Почему?
– Я была маленькая. Это не я была. Мне тогдашней, той себя, стыдно. Знаешь, – сказала она быстро, – я могла стать хуже, чем есть. Бог, то есть религия, это было единственное, что меня тогда поддержало. Я могла плохой стать – и мне надо было начать служить.
– Я не понимаю, – сказал Павел.
– Я потому и Маркина в мужья выбрала, что он старый и ему домработница нужна была. Он в лагере похудел на двадцать килограмм, я его выхаживала. Варила бульон, терла морковку. Я служить хотела, как медсестра, как монахиня. Вокруг меня были какие-то пустые мальчики. Я хотела так уйти от всех, чтобы служить – и забыть жизнь. В госпиталь, в монастырь. И ушла к старику-диссиденту. Я должна была именно такого выбрать! – страстно сказала она, и Павла поразила сила в ее голосе. Она произносила слова с напором, истово.
– Разве не он тебя выбрал?
– Он – меня? – Она посмотрела так, что понятно стало: это она всегда выбирает. – Я потому и крестилась, и начала в церковь ходить, потому и Маркина выбрала, чтобы уберечься от всех этих мальчишек.
– Разве нужна схима, чтобы беречь себя? – спросил он.
– Ты думаешь, легко быть красивой? Впрочем, что же я спрашиваю? Ты должен знать лучше других – ты создаешь красоту каждый день. Обними меня, – сказала девушка, – я не помню своей жизни. Помню тебя на той давней выставке. Больше ничего не было.
V
И опять прятали друг в друга свои лица, и опять Павел почувствовал, что эта женщина рождена для него, просто ее долго скрывали. Ее отдавали замуж за других мужчин, укладывали в чужие постели – ее, которая всегда принадлежала ему. И каждым объятием он словно выправлял то, что время сделало неправильно, он вправлял сустав у времени, и однажды он спросил у Юлии Мерцаловой:
– Как ты понимала, что делаешь неправильно?
– Я сразу вижу ошибку.
– Что ты называешь ошибками, скажи?
– Несоответствия, так точнее. В словах, в вещах и в людях тоже. Смотрю на человека – и вижу, что в нем неправильно. Вот простой пример: Лиза Травкина – жена Павла Рихтера. Разве это сочетается? Я смотрела и не понимала, для чего она тебе: челочка, серые глазки? Глядела и думала: как бессмысленно они поставлены рядом.
– Неужели, – спросил Павел, – ты сразу увидела?
– Издалека, – сказала девушка. – Но как же я завидовала Лизе! Завидовала ее сонной добродетели – без соблазнов, без ошибок. Она сама – недоразумение, но ошибок в жизни не делала. Как я мечтала прожить жизнь некрасивой сероглазой девушки, у которой нет кавалеров.
– Когда я познакомился с Лизой, у нее был кавалер, – сказал Павел, которому сделалось обидно за Лизу, – за ней ухаживал нелепый мальчик, оформитель. Тогда я не знал, что такое ревность, – добавил Павел, – мне казалось, я ревную к Вале Курицыну.
– Валя Курицын! – и Юлия Мерцалова рассмеялась. – Низенький, вертлявый Валя Курицын. Ты выбрал себе соперника.
– Знаешь его?
Она засмеялась презрительно, и Павел не стал более спрашивать: понятно было, что пустой Курицын, ничтожество Курицын не ровня этой стремительной девушке. Но другие, другие? И, глядя на каждого мужчину, он думал: да, и этот мог быть ее любовником, и тот тоже. Нет, скорее всего не этот, но вдруг – вон тот?
Теперь ему хотелось знать о ней все, хотелось всегда говорить о ней. Не удержавшись, Павел рассказал о стриженой девушке своей жене Лизе. Мы видели ее несколько раз: на выставках и в гостях, сказал Павел. Ты ее не запомнила? Высокая стриженая девушка, Юлия Мерцалова, она замужем за диссидентом Маркиным. Он старик, а она наша ровесница. Очень красивая и совсем необычная.
– Юлечка Ляхер! Вспомнила! – закричала Лиза. Лиза не умела говорить тихо. – Вот она кто! Юлечка Ляхер из параллельного класса! Конечно, я помню ее, она моя подруга была, только потом куда-то пропала. Вот она кто, оказывается! Самая красивая девочка, за ней мальчики бегали!
– Лиза вспомнила тебя. Она сказала, что у тебя совсем другая фамилия, – сказал Павел ночью стриженой девушке, – твоя фамилия Ляхер, а вовсе не Мерцалова, верно?
– Ты, оказывается, из тех мужчин, что советуются с женами. Совсем не ожидала. Как не похоже на тебя. Зато очень похоже на Лизу: запомнить и разложить по полочкам. Лиза вспомнила меня, как мило. Что же еще рассказала заботливая Лиза? Наверное, она рассказывала, пока вязала тебе шарф? Или гладила пижаму? Я угадала?
– Нет, – сказал Павел, – она рассказала это, провожая меня: я уходил, чтобы провести ночь с тобой.
– И Лиза не жаловалась, не ломала рук. Лиза умеет ждать. Жена досталась добродетельная. Не то что любовница. Виновата, утаила грех. Да, у меня был еще один муж, я забыла рассказать.
– Забыла рассказать о муже? Забыла про человека, с которым жила?
– Представь себе. Был муж, но все равно что и не было, – если встречу, не узнаю его. Некий Алеша Мерцалов. Я оставила себе его фамилию. Вот и все.
– Кто он? – спросил Павел.
– Давно эмигрировал. В Париж? Не знаю куда. Что с ним – не знаю. Сразу после него я встретила Леонида. Давняя, забытая история.
– Ты говоришь о мужчинах так, словно они постояльцы в твоем отеле. Ты открываешь двери всем подряд. И даже не помнишь, кто заходил. Ты говоришь о них так, словно… – И Павел не находил слов. Он придумывал самые грубые, самые резкие слова, такие, чтобы сделать больно и стыдно за прошлое; ему хотелось объяснить все и устыдить во всем, но сказать убедительно не получалось. Он прижимал к себе ее гладкое стройное тело, и одновременно ему хотелось оттолкнуть ее и крикнуть в лицо грубость. Он прижимал ее к себе и говорил:
– Никогда, никогда у тебя не было такого. Ну скажи мне, прошу тебя, скажи мне. Никогда, правда же?
– Никогда не было, ничего и никогда, – шептала девушка, – до тебя вообще ничего не было, пойми это, ты должен это понять.
– Как могла ты, прекрасная, отдавать себя другим мужчинам? – кричал ей Павел. – Неужели, неужели для тебя это ничего не стоит?
– Но я и не отдавала себя, – возражала девушка.
– Как же не отдавала, если и тот, и этот, и еще кто-то – все лежали в постели с тобой?
– Ты говоришь со мной как со шлюхой, – отвечала девушка, и слезы стояли в ее глазах.
А ты и есть шлюха, хотел крикнуть ей в ответ Павел, но вместо этого говорил: я люблю тебя.
– Прости, что спрашиваю. Но я хочу, должен знать. Пойми, это не ревность: ревнуют к равному и понятному. Ревнуют к сопернику. Я мог бы ревновать к Маркину – но я не ревную. То чувство, которое я испытываю, ревностью не является. Я просто не могу привести в соответствие твой образ и твою жизнь. И я хочу знать, как было, – для того только, чтобы суметь увидеть тебя.
– Было так, как тебе всего больнее, – отвечала девушка. – Но я уходила от них прочь, они не значили для меня ничего.
– А зачем же ты приходила к ним? – кричал Павел.
– Но разве непонятно, что мне тоже хотелось счастья, как и твоей Лизе. И мне, и Лизе – нам одинаково хотелось, чтобы нас обнимали. Просто твоей Лизе повезло, а мне нет.
– Разве так ищут счастье, – кричал ей Павел, – разве счастье ищут по чужим постелям?
– Ты не понимаешь, – отвечала она. – И не можешь понять, как чувствует человек, лишенный смысла и любви. Тебя не было – и кого я могла любить? Все остальные серые и одинаковые. Я думала, встречу кого-нибудь. И надеялась: вдруг получится?
– Нет, – кричал Павел, – ты обманываешь меня, ты лжешь. Раз – только единый раз! – прикоснувшись к чужому телу, узнав, какая это грязь – отдаваться нелюбимому человеку, следовало навсегда отказаться от этого!
И стриженая девушка плакала и говорила сквозь слезы:
– Какое имеешь право ты так говорить со мной? Ты мне любовник, а не муж. Наши отношения порочны – как можешь ты говорить от лица добродетели? Ты приходишь ко мне от другой женщины. Ты завтракаешь с ней, ты носишь рубашки, которые она гладит, ты ложишься на ее простыни. А потом ты приходишь ко мне и кричишь, что я шлюха. Шлюха! Шлюха! Вы с Лизой порядочные люди. У вас семья! Не стою вас, добродетельных! Шлюха!
И девушка плакала и била себя по щекам. И Павел стонал от бессилия, обхватив голову руками, и шептал:
– Прости меня, прости. Ты права. Да, виноват я сам. Но только скажи, умоляю, скажи, что до меня ничего не было. Я знаю, что это неправда, я знаю, что их было много, но умоляю, скажи, что не было, а я поверю.
И девушка истово и страстно говорила:
– Пойми наконец, что это действительно так! Действительно ничего – слышишь, совсем ничего! – не было. Ты один, ты только один, всегда было так.
И Павел засыпал, обнимая ее гладкое тело, а среди ночи просыпался, представляя, что это не он, но кто-то другой обнимает девушку, что не ему, а кому-то другому она отдает себя. И он стонал и задыхался от унижения. И потом он говорил себе: а ты сам, а ты сам – что ты делаешь? Ты любовник, приходящий на свидания ночью, откуда у тебя право спрашивать и винить? Откуда у тебя право страдать? Откуда у тебя право выпытывать и понимать? Ты грешник – и ты делаешь зло всем. И он лежал рядом со стриженой девушкой и думал о ней, и о Лизе, и о своей живописи, и о том, что человек, который претендует быть особенным и ни на кого не похожим, в конце концов, совершает самые банальные грехи. И как наказание, думал он, такой человек оказывается в ситуации, когда самое дорогое он должен делить с тремя. С пятью, с десятью мерзавцами, с теми, кого он больше всего презирает. Почему получается так, думал Павел, что простой человек, без амбиций и самомнения, имеет жену, которую не делит ни с кем, а горделивый избранник вроде меня любит женщину, у которой помимо него еще десять мужчин? Почему? И он будил девушку и говорил:
– Но когда ты встретила Алешу Мерцалова, ты ведь подумала, что любишь его?
– Нет, – отвечала девушка, – ни единой минуты не думала.
– Зачем тогда?
– Прошу, – говорила девушка, – лучше убей меня. Я не могу больше отвечать.
– Ответь только на один вопрос: зачем, если не любила?
– Надеялась, что полюблю. Ошиблась.
– И разумом не понимала? А стыдом?
– Перестань, я не выдержу. Когда увидела тебя, я поняла сразу, что люблю. Ты хочешь знать это? Да, я увидела тебя и поняла сразу. И другое сразу перестало существовать.
– Неужели сразу? – спрашивал Павел. – Знаешь, – говорил он, – и я тоже все понял сразу. В ту же минуту. – И он испытывал облегчение оттого, что с ними случилась особенная история, ни на что не похожая.
– Да, в ту же самую минуту.
– Ты в ту же минуту поняла, когда мы увиделись? Вот тогда, на выставке?
– Ты на меня посмотрел, и я сразу поняла, что приду к тебе.
– Жалко, что мы так долго ждали.
– Да, – сказала она, – безмерно жалко. Всей моей жизни жалко.
– Сколько времени потеряли.
– Я – да, – сказала девушка. – Я потеряла всю жизнь. Но не ты, ты времени не терял. Ты, в отличие от нас всех, работал. Ты создавал картины. Твои картины.
– Я не жил до тебя, – говорил Павел в темноте и прижимал к себе девушку. Но, прижимая ее, целуя ее, он вдруг чувствовал, что целует и обнимает тело, которое целовали и обнимали многие, которое стало гладким, точно камень на побережье, обкатанный и отполированный многими волнами. И он закрывал глаза и сжимал губы, чтобы удержаться, и не задать новый вопрос, и не начать ужасный разговор сначала. И так проходила ночь, и наступало утро, и Павел уходил рисовать, и встречался вечером с Лизой, и, видя Лизу, думал, отчего же у Лизы не было соблазнов и грехов. И он говорил себе, что ответ прост: Лиза никогда не была красивой, и мало находилось охотников ухаживать за ней. Куда проще вести целомудренную жизнь, если нет желающих тебя совратить. Павел смотрел на Лизу, встречал ее укоризненный взгляд, пил чай на кухне, надевал выглаженную Лизой рубаху и ночью возвращался к стриженой девушке. И все начиналось снова.
VI
Однажды ночью они долго говорили про диссидента Маркина, мужа Юлии.
– Именно его одобрение я хотел услышать, – сказал Павел, – именно его я обманул. Я всегда хотел быть диссидентом.
– Счастье, что ты не стал диссидентом.
– Случайно, – сказал Павел, – не успел. Но я хотел быть таким, как твой муж. Мне стыдно перед ним. Я вырос среди таких диссидентов, как он, – сказал Павел. – Когда был жив отец, к нам приходили опальные знаменитости. Помнишь время, когда прятали рукописи, когда вызывали на допросы?
– Помню, – сказала девушка, и Павлу почудилось, что она улыбается в темноте, – еще бы не помнить.
– Их вызывали на ночные допросы на Лубянку, держали в милиции по три дня…
– Ах, оставь, – сказала девушка, – я тоже верила в эти истории. Верное средство обольстить студентку за два часа. Неужели ты думаешь, их часто вызывали на допросы? Кому надо их спрашивать? О чем?
– И все-таки их вызывали, их обыскивали, я помню то время, – сказал Павел. – Эти люди бывали у нас.
– По гостям ходить они были мастера, – сказала девушка. – С этим не поспоришь. Сколько картошки я перечистила. А соленые огурцы? Под водку хорошо идут соленые огурцы. Да, собираться эти люди любили.
– У нас не пили водку, – сказал Павел. – И огурцов соленых не ели. Приносили запрещенные книги. Говорили до утра, читали стихи.
– Видимо, огурцы давали не всякому, а лишь особо посвященным. Наверное, это тайный атрибут инакомыслия, вроде лопаты у масонов. Наверное, твоя семья была в стороне от подлинной жизни фронды. Твой дед вряд ли принимал у себя по тридцать гостей за вечер. А диссиденты собирались именно в таких количествах. Мне огурцы и кислая капуста иногда снятся.
– Тридцать диссидентов? – усомнился Павел. – Так много? Их на всю страну тридцать было.
– Ты имеешь в виду тех, кого вызывали на допросы? Может быть. Возможно, даже меньше. Но посчитай тех, кто с ними дружил, и тех, кто знал их знакомых. Посчитай тех, кто хотел, чтобы его принимали за их знакомого. Таких пустых людей было очень много.
– Они и ходили к тебе в гости? – спросил Павел, а сам подумал: с ними ты и ложилась в постель, да?
– Разные ходили, – ответила девушка, и Павел вздрогнул. – И друзья героев, и сами герои. Только настоящих героев я не видела. Они все врали.
– Зачем им это было? Притворялись инакомыслящими, да? Но ведь опасно.
– Не более опасно, чем заниматься каким-нибудь делом – трамвай водить или траву косить. Они привыкли совсем ничего не делать, вот и рассказывали про себя небылицы. Все-таки оправдание.
– Оправдание чего?
– Никчемности, – ответила девушка.
– Они, по-твоему, врали?
– Всегда врали.
– Думаю, не всегда. Я помню их лица. Отчаянные лица. Я помню стихи, которые они читали. Там не было вранья. Поза была, да. Но это была прекрасная, гордая поза. И знаешь, люди, которые выбирают для позерства самую трудную позу, – заслуживают внимания.
Девушка не ответила, и Павел продолжил.
– Знаешь, – сказал он, – я в детстве хотел быть рыцарем. А потом, когда подрос, когда увидел этих людей, понял, что быть интеллигентом – это и значит быть рыцарем. К нам приходил один поэт-шестидесятник, он читал стихи про интеллигенцию. Про то, что интеллигенты наших дней – наследники декабристов. Там описывалась метель, и декабрист, который прощается с возлюбленной. Красивые стихи. «Вьюга воет тончайшей свирелью, и давно уложили детей», – прочитал Павел строчки, которые любил в детстве, и девушка засмеялась в темноте.
– Извини, я, наверное, что-то не так сказал.
– Просто я представила этого поэта. Он приходил ко мне, да, я уверена. Ел соленые огурцы, пил водку. Толстый, в очках, много курит, пиджак осыпан перхотью. Как эти стихи похожи на них: и на Маркина, и на Тушинского, на всю эту публику, – она говорила про своих мужчин так отвлеченно, словно никогда не знала этих людей близко, словно их фамилии произносила впервые.
– Почему похожи?
– Фальшивые. Вьюга воет тончайшей свирелью, – сказала девушка и опять засмеялась. – Разве не смешно? Свирель не воет. И вьюга не звучит, как свирель. И вой – звук далеко не тончайший. Поэт, который эти стихи написал, никогда не слышал свирели и не знает, как воет вьюга. Это стихи человека, который не знает совсем ничего, но пишет про судьбу интеллигенции. Вьюга воет свирелью! Ты подумай! – и девушка смеялась.
– Ты говоришь как редактор, – сказал Павел с досадой.
– Я и есть редактор, – сказала девушка.
– Что это значит? Ты работаешь редактором?
– Да, работаю редактором. Правлю ошибки.
– Где же?
– В газете «Бизнесмен».
– Зачем же в этой газете именно? Других разве нет?
– Чем эта газета хуже других?
– Она символ того, что происходит. Как в прежнее время – «Правда». И разве это не ужасно – видеть их лица?
– Чьи лица? Лица, к сожалению, те же самые. Твой знакомый Курицын работает в нашей газете художником.
– Художником? – Он посмотрел удивленно. – Что же он изображает?
– Ах, теперь и я вспомнила тебя на той всенощной. Ты так посмотрел, что я тебя, того маленького, увидела. Что тебя привело в ту церковь? Никола Обыденный, да? Теперь я вспомнила. Мальчик с большими глазами. Ты стоял рядом с этой смешной некрасивой женщиной, соученицей Леонида, ее я знала прекрасно. Конечно, я обратила внимание на нее и на мальчика рядом. Она буквально преследовала Леонида своей преданностью. Я была совсем девочкой и ничего не понимала, мне казалось странным, что она звонит нам среди ночи, приходит в гости с утра. Я открывала дверь – и уходила спать. Для меня это были редкие часы отдыха, я прекращала работу в шесть. Ей-то делать было нечего, от безделья не спалось. Беседы, беседы – московская интеллигенция питалась беседами.
– Она всегда работала, – сказал Павел.
– Разве? Не слишком себя утруждала, я думаю. Свободное время имелось. Ей всегда надо было что-то обсудить. И говорила не останавливаясь. Я думала, она – сумасшедшая, хочет отбить у меня мужа. Истерическая православная женщина – обычный московский тип. Ее все называли Инночка; есть женщины пустоцветы, они никогда не взрослеют, так и носят до старости детские имена. Не обращал внимания на таких женщин? Ни мужчин, ни детей – ни на что не способные существа. Она, я уверена, так и осталась Инночкой в свои пятьдесят лет.
– Это моя тетка, – сказал Павел, – да, ее все называют Инночка.
– Она все так же переживает из-за пустяков и ходит с заплаканными глазами? Тебе, наверное, не раз приходилось утешать ее после истерик.
– Да, – сказал Павел, – приходилось.
– Я отчетливо помню бедную Инночку. Она состарилась внезапно. Все еще оставались молодыми и плясали до утра, а она вдруг перестала. Превратилась в пожилую женщину. Так бывает: стоит позволить себе лень или усталость – и в ту же минуту сделаешься старухой.
– А, так вы плясали до утра? – и злость снова вошла в Павла.
– Это были дурные, мутные годы.
– Но для чего было проживать эти мутные годы?
– Я всегда ждала, что кошмар кончится. Но кошмар длился и длился. Так получилось из-за этого человека, из-за образа жизни этого человека. Он казался мне интересным. Пойми, я других не видела, а из тех, которых видела, он был лучшим. Как понять в семнадцать лет?
– Семнадцать лет, господи. Целых семнадцать лет! Почему бы не читать книжки? В хороших книжках все объясняют и рассказывают. В хороших книжках рассказано, с кем можно встречаться, а с кем нельзя. Зачем же идти туда, где водится такая дрянь, зачем видеть всех этих людей?
– Легко тебе рассуждать! Легко даются знания, когда ты происходишь из такой семьи. Хорошо рассуждать, когда тебя воспитывали такой отец и такой дед.
– Что ты знаешь про отца? – спросил Павел. Об отце он говорил редко, не с кем было говорить. – Ты сказала, Леонид не любил его.
– Гораздо больше я знаю про твою мать, – сказала девушка, – много лет назад я плакала из-за нее.
– Неужели?
– Я плакала ночи напролет, ревновала к ней. Я уверена (женщины чувствуют такие вещи), они любовники уже давно. Может быть, еще тогда, когда мы с Леонидом были женаты. Однажды я пришла домой и увидела у себя в спальне твою мать. Она сидела ко мне спиной, но увидела меня в зеркале – сидела перед моим зеркалом, красила губы. Мы не сказали друг другу ни слова, но как же мы друг друга ненавидели.
– Она ведь старше тебя. По всей логике, такой любитель жизни, как Леонид, должен был уйти от нее – к тебе. Все вывернуто наизнанку. Как странно, – говорил Павел, – пойми, мне и оскорбительно, и странно, и дико: все чувства приходят одновременно – я не знаю, какое чувство сильнее. Все так перемешано. Патология, фрейдистская история – она вовсе не для меня. И Леонид, который женился на моей матери, а до того был твоим мужем, – воплощение этой странности. Я ничего не понимаю.
– Значит, ты не понимаешь в пороке, – говорила девушка и целовала Павла. – Разве ты не знаешь, что Дон Жуану важно покорять сердца, подчинять волю, а чьи сердца и чью волю – все равно. Возраст ни при чем. И подумай: для Леонида важнее было унизить твоего отца. В этом и выражена его страсть к твоей матери.
– Зачем так?
– Леонид ненавидел твоего отца. Он его всегда ненавидел, – с непонятным Павлу чувством сказала девушка. – И оттого что я знала, что Леонид – человек мелкий и завистливый, я понимала, что твой отец – очень хороший. И потом, насколько я знаю, твой отец не принимал участия в их застольях.
– Нет.
– Они не прощали тех, кто к ним не ходит.
– Почему? – спросил Павел, хотя знал почему. Ему понравилось, как она ответила:
– Потому что уже тогда было понятно, что следующая революция будет культурной революцией. Они не просто пили – они уже тогда распределяли портфели в министерстве. Мне одно странно: кому понадобились такие неумные люди? Я ведь доподлинно знаю, что Леонид неумен.
VII
Они лежали рядом в постели, и девушка рассказывала. Она описывала то, что Павел прекрасно знал и без ее рассказа: пьяные вечера у Леонида, шутки и веселое застолье до утра. Она рассказывала – как всегда остроумно – про шумных молодых людей из творческого союза «Синие носы»; про поэтов, читавших бессмысленные стихи под общий смех; про питерских интеллектуалов, одетых в тельняшки, которые пили водку и считались новаторами; и про женщин, которые засыпали за столом. Они всегда притворялись кем-нибудь, говорила девушка, каждый из них играл какую-нибудь роль, и не было ни одного человека, ведущего себя просто. Я смотрела на них и думала: если, например, с этого питерского поэта снять тельняшку, то вместе с тельняшкой исчезнет и его дарование. Как же его опознать без тельняшки? Ведь отдельных от одежды мыслей ни у кого из них нет. Они писали стихи, похожие на стихи, и рисовали картины, похожие на картины. Одетые под кого-то молодые люди, загримированные под чужие страсти любовные истории – все было ненастоящее. Надо было бежать. Когда я ушла оттуда – у меня было чувство, что я уволилась из цирка: все остальное в жизни было менее шумно.
– Но ты сам знаешь эту жизнь, – сказала она.
– Пойми, – говорил Павел. Ему показалось, что сейчас он сумеет объяснить ей, что именно он чувствует, – пойми, пожалуйста. Это важно, чтобы ты услышала меня. Я оттого чувствую себя оскорбленным твоими мужьями и любовниками, что всю жизнь претендовал на особенную судьбу. У меня – так я думал – всегда в жизни будет такое, чего не было ни у кого, никогда. Я всегда знал, что у меня уникальная судьба. Нет, даже не так, надо сказать еще сильнее: я знал, что не могу смешать свою жизнь и судьбу с чем-то обычным, заурядным. И едва я оказывался в компании с общими интересами, взглядами и шутками – мне делалось не по себе. Никаких оснований для этого у меня не было, у нас простая семья и кровь не благородная. Странно мне, безродному полукровке, дикой смеси рязанской и еврейской кровей, считать себя избранником. Но так получилось, пойми, так получилось. Мы, Рихтеры, всегда были особенными – спроси, тебе скажет любой. Мы всегда и все делали не так, как прочие, всегда шли наперекор общим правилам. И то, какой у меня дед, и то, какой был отец, определило всю мою жизнь. Я был ребенком, слышишь меня, ребенком, и я уже знал, что избран. Я даже не знал на что избран, – но знал, что я избранник. Впрочем, – поправил себя Павел, – я знал на что. Не уверен был, как именно я это сделаю, но знал, что делать. Я чувствовал, что судьба моей семьи – спасти Россию. Не смейся, я знаю, это смешно звучит, но ты не смейся. Когда-то, очень давно, когда мой дед Соломон Рихтер был на войне, он написал такие стихи. – И Павел прочел строчки, которые были ему дороже всего: – «Что б ни были мы и где б, но только б землю России реки наших судеб, иссохшую, оросили». Тебе не нравится? – спросил он в темноте.
– Это хорошие строчки, – сказала девушка из темноты.
– Да, их не надо редактировать. Лучшие люди, каких я встречал, жили так, как написано в этих строчках. И я знал, что эти строчки написаны про меня тоже. Каждый из нас брал единственную судьбу и никакой иной не хотел. Это сделало нас такими странными и неудобными в общении. Мы – ненормальные, с идеей избранничества, может быть, пустой идеей, но кто знает наверное? Прости, я долго говорю, но мне важно сказать.
– Я сразу увидела в тебе и гордость, и желание стоять отдельно.
– Мы живем в такое необычайное время. Все здание России, огромной и страшной страны, большой, как целый мир, – вдруг треснуло и зашаталось, с него сорвало крышу. Я спрашиваю себя: значит ли это, что весь мир расшатался? Мы, живущие здесь, решили, что это случилось с одной лишь Россией, из-за того, что коммунизм плох. Но понимаешь, если дует столь сильный ветер, что шатается огромный дом, то нельзя поручиться и за все остальное в мире. И если я собирался отвечать за Россию, но получилось так – случайно получилось так, – что расшатался весь мир, значит, сегодня я отвечаю за весь мир. Я не отказываюсь. Но возможно это делать, только если я знаю, что я защищен с тыла, что у меня прикрыта спина. И это ты, это твоя любовь закрывает меня. Ты слышишь меня?
Павел обнимал девушку, и она говорила ему:
– Я знаю, ты один все сможешь. Я сразу поняла, что ты сильный.
– Подожди. Я не договорил. Мне нужно сказать до конца. Хотя бы в одном я должен быть уверен – в твоей любви. Я не могу быть уверен в том, что у меня хватит сил и что меня не свалит этот ветер. Я не могу быть уверен в том, что достанет ума и таланта. Но зачем-то мне дано это чувство избранничества – и я следую ему. Так хотя бы в одном пусть это избранничество меня не подведет – в женщине, которую обнимаю. Меня подведут руки и голова, предадут все вокруг, но хотя бы здесь, в самом близком, – пусть хотя бы здесь будет надежно. Я должен знать, что моя милая не разменена и не разменяла меня, что ее никто не целовал и она меня не предавала.
– Ты можешь не волноваться, – сказала она, – я человек надежный.
– Подожди, я не договорил. Я хотел рассказать тебе про столичных интеллектуалов, про тех, кого ты и сама видела много раз. Про тех, что нас окружали, что сидели у тебя в гостях. Ничего на свете я так не хотел, как интеллектуального братства. С детства я привык рассуждать о платоновской академии и Телемской обители. Потому я сблизился с диссидентами в те брежневские годы, что видел в них интеллект, бесстрашный перед оружием. А вслед за диссидентами пришли интеллигенты новой формации, воплощенная свобода. Вот где подлинный Телем! Сперва я ходил на их собрания и пьяные вечера и слушал их разговоры.
И потом мне стала оскорбительна профанация интеллекта. Я видел этих полупьяных, полуобразованных нахалов, которым кто-то сказал, что они художники и философы. И они страстно поверили! Оттого поверили, что никогда, даже в тяжелом долгом сне не видели настоящего художника. Оттого поверили, что их идеалом были такие же, как и они, прохвосты с Запада – пустые неумные люди. Я видел вечно булькающую мелкими страстями столичную художественную жизнь – эта жизнь была омерзительна. Я видел пустых людей с пустыми головами, которые старательно воспроизводили поведение творцов, как они их запомнили по популярным фильмам и брошюрам. Они драпировали себя в шарфы и шляпы, ругались матом, говорили слова, смысла которых не понимали, много пили и кривлялись. Тогда все поверили, что кривлянье есть путь к свободе. Помнишь эти теории карнавальной культуры и подобную чепуху? Говорили, что время нуждается в соленой омолаживающей шутке. Но время не менее того нуждалось в смысле и знании, а скоморохи таковых не производят. Я видел хвастливых, ничего не сделавших, ничего не умеющих людей, про которых распускали слухи, что они герои, только потому, что они в публичных местах пускали ветры, и вместо обычных штанов носили галифе, и лили краску на стены. Некоторые из них были милы, они ведь не все противные. Но они были пусты и дрянны, эти люди, и они инстинктивно ненавидели все настоящее. Для них не стало худших врагов, чем картины и книги, – по той простой причине, что в картинах и книгах сказано что-то, что может поставить под сомнение их права. Так некрасивая женщина убирает из дома зеркала, картины, фотографии – все, что скажет о ней правду. Они раздавали себе чины, говорили друг про друга: мы – классики авангарда. Вот этот, говорили они, патриарх соцарта, но я знал, что этот человек отпускает шутки про Брежнева только потому, что не умеет говорить всерьез. Говорили, вот это – классик концептуализма, но я знал, что этот дурачок рисует крестики и нолики потому, что не смог бы даже нарисовать кошку – если бы его заставили. Они бездарности, я знал и мыслями, и чувствами, и всем существом своим – они бездарны. И это видно, не может весь мир быть слеп. Так зачем же делать из них интеллектуалов? Но оказалось, что из них нарочно, планомерно делают интеллектуалов. И если поглядеть на это внимательно – становится понятно зачем. Когда-то из кучки инакомыслящих делали сумасшедших, это была генеральная линия партии – так делали, чтобы не дать расшатать государство. Но в дальнейшем поступили проще: из большой группы недоумков и неучей стали делать свободомыслящих – и это преследует ту же самую цель. Это тот же процесс, тот же самый. Добавь к этому то, что я говорил, про большой дом, с которого сорвало крышу, который треснул и покачнулся. Если подул сильный ветер, то подобное случилось во всем мире. И я стал ездить по миру и смотреть. И увидел то же самое; а раз так, если в Берлине пустозвон считается интеллектуалом, почему его двойник не сойдет за интеллектуала в России? Оказалось, что именно эта среда, пустая и хвастливая среда потребовалась миру для создания нового общества. Кому так надо? Кому-то понадобилось именно эту дрянную, порочную компанию объявить состоятельной интеллектуальной средой. Кому-то потребовалось сделать разум бессильным. И кажется, я знаю кому.
– Но разве не всегда, – спросила она, – авангард шутит, свергая классику?
– Разве авангард кого-то свергает сейчас? – спросил он. – Кого же? Дряхлых пейзажистов, лирических поэтов, что дохнут в малогабаритных квартирах, – разве что их и свергает авангард, больше свергать некого. Они победили – при чем же здесь авангард? Это уже основные части. Над всей Испанией безоблачное небо. Леонид Голенищев, твой муж…
– Он не муж мне.
– Леонид Голенищев заправляет культурой. Кого свергают они, апостолы соленой шутки и борцы с традицией? Они сами – традиция. И основательнее, чем их шутка, ничего в мире нет. Разве не смешно? Он не муж тебе – зато теперь он муж моей матери, теперь он спит в постели моего отца. Разве не смешно? Давай же смеяться.
– Ты слишком велик, – говорила она, – чтобы ссориться с ними. Не обращай внимания на этих людей. Не замечай их. Что тебе эти «синие носы»?
– Мне отчего-то запомнилась выставка «Давай!». Все время возвращаюсь мыслями к этой выставке, хотя прочие ничем от нее не отличались. Ты помнишь эту выставку: смешные, неумные, немолодые люди кривляются, пляшут и развлекают западную публику. Казалось бы, уже надоело европейцам смотреть русское искусство, но все-таки эту выставку посмотрели. Что именно давай, кому давай? Неважно. Устроили эту выставку в то время, когда давать русским было уже нечего – у России все и так забрали. Уже не надо агитировать за развал культуры – от культуры не осталось ничего. Уже не надо подбадривать хапуг и кричать «давай!» спекулянтам – из страны утащили все. И однако сызнова прокричали этот бодрящий призыв – и высыпали на сцену немолодые «синие носы», пожилые юноши в тельняшках. И опять стали пить водку, материться и кукарекать. Ничего, наберем по зернышку и последнее отдадим; так и с любовью – всегда найдется, что еще отдать, даже если все уже отдали. Давай! Мало ли, что все растащили, – найдется какой-нибудь завалящий заводишко, так и его приберем. Найдется и еще пара «синих носов» – и споют, и спляшут! И Запад покосился благосклонно на «синие носы»: славно в России дикари отплясывают. Именно эта выставка стала для меня последней. Я решил никогда и никуда не ходить, ничего не смотреть. Пусть они будут сами по себе. Ты слушаешь меня?
– Да, – сказала девушка. – Но зачем ты так сказал про любовь? Я не отдавала своей любви, я не говорила: давай!
– И я думал, они до меня никогда не доберутся. Я не подавал никому из них руки, не здоровался с ними, я их презирал. Приходил в эту мастерскую, закрывал дверь – и оставался с Брейгелем и Гойей, с Эль Греко и Рембрандтом, а шутники и скоморохи – они словно и не существовали больше. С их ужимками, прибауточками я прощался, закрывая дверь. Я становился к мольберту, я каждый день писал – и между мной и ними вставали мои холсты, – Павел говорил и чувствовал облегчение, освобождаясь от давившего груза ненависти. Давно уже, нет, не давно, но вообще никогда не говорил он с такой свободой: не нужно было притворяться, не нужно было подбирать слова. – Для того чтобы рассказать тебе о своей ревности, мне надо объяснить другое чувство, то чувство, что противно ревности. Я уже говорил, ревновать можно к равному. Я не ревную тебя к другим, к тем мужчинам. И этих весельчаков я к искусству не ревную. Я ненавижу их. Всегда их ненавидел. За то ненавижу, что они променяли искусство на прогресс, первородство на чечевичную похлебку. Ревную ли Голенищева к матери? Ненавижу. Ненавижу за кривую улыбочку, выпускаемую сквозь черную бороду, за смерть своего отца, за то, что этот улыбчивый самодовольный мерзавец вошел в мой дом. Они победили – везде. Но не до конца, думал я, не до конца. Им меня не достать. Но вот они залезли ко мне в постель.
Девушка давно уже плакала. Она лежала ничком и тяжело плакала, поднимала голову от подушки, вскрикивала и плакала опять. Павел обнимал ее, говорил, чтобы она успокоилась, но она плакала и плакала.
– Прогони меня, – твердила она, – прогони.
VIII
Стояла холодная тихая ночь, и ее плач слышен был во всем доме – сквозь халтурные стены хрущевской постройки. Успокойся, говорил Павел, но сам думал о другом. Что надо сделать, думал он, что выбрать? Терпеть все это, то, что в принципе нестерпимо, – или идти напролом и бросить то последнее, что здесь удерживает? Я не могу больше выносить это фальшивое бытие. Быть так – значит не быть вовсе. Если вся система ценностей, принятая в этом обществе, фальшива, если все институты, все правила – ложь, если все то, что они называют культурой, – вульгарная шутка, то для чего это нужно выносить? Если те, кого называют интеллигентами, – трусы и лакеи, если у власти – коррумпированные прохвосты, то так и следует сказать: они лакеи и прохвосты. Если министр культуры – мздоимец, а его заместитель – вор, то так и надо сказать и положить конец этому спектаклю. Если президент и его министры – жулье, то отчего же не сказать именно так? И плевать, что будет. Они думают, что правила этой игры нельзя нарушить – и думают так только оттого, что каждому игроку есть что терять: кому дом, кому семью, кому славу. И всегда найдется этот теплый уютный уголок, который хочется защитить и ради этого согласиться с тем, что с дома сорвало крышу. И мы ходим на приемы, жмем руки, шутим и жрем то, что нам дают. Глядишь, и жизнь пройдет, и не придется ничего менять, а там оно, может, и само устроится. Но мне нечего терять, и этого уютного уголка у меня нет. В моей теплой постели переночевало уже столько посторонних мужчин, что постель больше не греет. Так почему же ты медлишь?
Легко думать смелые мысли, когда та, которую любишь, лежит рядом. Девушка перестала плакать и уснула, и Павел уснул, согретый ее теплом. Утром девушка уходила от него, и Павел смотрел ей вслед, и в эту минуту ему не хотелось ничего иного, но только вернуть ее, прижать к себе, гладить худую ключицу. Она повернулась посмотреть на него, и свет не погашенного с ночи фонаря выхватил из утренней темноты ее прекрасное лицо. Я не отдам ее, думал Павел, я ни за что ее не отдам. Вся прочая жизнь – с министрами, президентами, авангардом и интеллигенцией – сделалась ничтожной и ничего не значащей. Что мне до них, думал он утром, глядя на стремительную походку девушки. Какая разница – авангард ли, не авангард! Что мне до них, если я держу в руках главное, самое главное, что только бывает. Вся эта суета вокруг нас – пусть бы и не было ее вовсе.
Однако жизнь вокруг них продолжала идти, и жизнь эта была уверена в том, что она значит многое.
IX
– Ты пойдешь со мной на день рождения к Маринке? – спрашивала Павла Лиза. Лиза привыкла к тому, что видит Павла редко, но следовало соблюдать приличия перед знакомыми.
– Я не пойду с тобой, – ответил Павел, – мне нужно быть в другом месте.
Лиза глядела с упреком – и ее глазами смотрела на Павла вся приличная жизнь, обиженные им будни. Эти будни глядели с досадой на распутного человека, который доставляет столько хлопот. Все равно ты никуда не денешься от нас, говорил этот взгляд, потому что мы имеем на тебя право и твоя жизнь принадлежит нам. Рано или поздно мы ее заберем, день за днем, а пока глядим на тебя с упреком. И Павел оглядывался по сторонам, но везде встречал тот же взгляд; так смотрел на него кривой тополь за окном, серый пиджак в шкафу, тарелка супа и газета с новостями. Вещи, люди, понятия – такие простые и уверенные в правоте – все теснее сжимают свой круг, и места для его собственной жизни не остается.
Простая жизнь, с неяркими эмоциями, с блеклыми страстями, жизнь скучная, но постоянная и надежная, обступает его со всех сторон и душит – уверенно и неумолимо. Как и все, что делается в размеренной и обыкновенной жизни, это происходило без излишней аффектации, просто благодаря незначительным ежедневным делам, но происходило неотвратимо. И Павел каждый день знал, что еще на один шаг обыкновенная жизнь продвинулась вперед, еще один день забрали от его, Павла, существа, еще что-то ему пришлось отдать для торжества простой и самодовольной жизни. Вот этот день, и потом день следующий, а за ними еще один – и обыкновенная жизнь, простая неяркая жизнь забирала их один за другим, и забирала без колебаний, но с чувством права и правоты. И, забирая их, обыкновенная жизнь смотрела на Павла с укоризной: неужели ты не понимаешь, что ты должен безропотно отдать все, для чего же ты цепляешься за свою особенность, для чего прячешь то, что тебе дорого, от нас – от неотвратимой силы вещей?
X
И девушка понимала это так же отчетливо, как Павел.
– Надо уехать, – говорила она, – ты не сможешь здесь. Не сможешь порвать. Мы должны уехать.
– Да, – говорил Павел, – мы должны уехать.
– Они не дадут жить. Они не разрешат.
– Куда же мы уедем, – говорил растеряно Павел, – в Париж?
– Безразлично. В Сибирь, на Урал. Мне все равно, куда ехать с тобой – в Париж или в Свердловск. Поедем в город Свердловск. Там холодно и пусто. Это очень далеко, и мы будем там одни.
И тема отъезда возвращалась в их разговор снова и снова. И вставал перед их глазами мерзлый русский город, где они будут жить на окраине, в пятиэтажном блочном доме хрущевских времен. Они будут гулять по холодным широким улицам с чахлыми тополями, и уральский ветер будет дуть им в спину. Они будут покупать серую колбасу в гастрономе напротив и заваривать чай в чайнике с отбитой ручкой. Они будут засыпать в неуютной комнате, окнами во двор, и спать до позднего утра, и никто никогда не отыщет их, чтобы упрекнуть в разврате, чтобы посмотреть больными праведными глазами на их греховную жизнь. Им разрешат жить вместе, так, как они живут, любить так, как они любят; никто не потребует с них отчета.
– Да, мы уедем, – говорили они друг другу, – куда угодно, в провинцию, в глухую Россию.
– Мы можем уехать в Покоево, там нас никто не потревожит, – говорил ей Павел, а сам думал о трагике в провинции и о томике Шекспира в провинциальной гостинице. Он рассказал ей о рязанской деревне Покоево, откуда пришла его бабка, о снежных вечерах, о синем снеге, о теплой лошадке по имени Ласик и о бабушке своей Татьяне Ивановне и ее крестьянской морали.
– Вот уж кто не принял бы тебя, – сказал Павел Юлии, – пожалуй, нам не стоит ехать в Покоево.
– Думаю, Татьяна Ивановна меня полюбила бы, – отвечала стриженая девушка, – она поняла бы, что я работница. Это ничего, что я городская красавица, – я со всем справлюсь.
– Вряд ли, – сказал Павел, – для таких людей все решается раз и навсегда. Ты не представляешь, до чего она нетерпима.
– Такая бабушка и должна быть у тебя. Она ограждает тебя от недостойного.
XI
Каждый раз, когда Юлия Мерцалова говорила Павлу, что она недостойна его, Павел успокаивался, и мутная, тяжелая ревность отступала. Это означало, что девушка понимает разницу меж Павлом и прочими мужчинами, такие слова звучали как заговор при болезни, как ворожба деревенских бабок над недужным. Это сделалось непременным лекарством от его ревности, и всякий раз, когда в разговоре возникало имя Леонида Голенищева или Владислава Тушинского, девушка спешила сказать слова, которые, казалось, заговаривали прошлое:
– Бедный мой. Как это недостойно тебя. Почему мы не встретились маленькими, когда ничего еще не случилось. Зачем я не пришла к тебе в пятнадцать лет? Как же получилось, что тебе больно от меня.
В такие минуты, подчиняясь обычному для себя желанию не согласиться с обстоятельствами, Павел отвечал, что не хочет другой жизни, не хочет другой любви, не хочет уступки принятой добродетели. Мы встретились вовремя, говорил он стриженой девушке. Я был глуп, пока был молод. У меня недостало бы сил идти наперекор всем. Мне невыносима корпоративная добродетель, говорил он. Я ненавижу ленивых праведников. То, как получилось у нас, единственно правильно, я не променяю этой жизни на их сонное существование. И, произнося эти слова, он сам верил, что его жизнь самая правильная. Так случается с человеком, который не замечает, где живет, и хвалит свое жилье, а потом он вдруг оглядывает свой дом, комнату с ободранными обоями и кривыми стульями, видит разорение и беспорядок и думает: зачем я так живу?
Юлия Мерцалова замечала эти перемены настроения. В такие минуты Павел отворачивался, прикрывал глаза. Девушка подходила к нему, трогала за плечо:
– Хочешь, прогони меня. Хочешь, пойду прочь?
– Обними меня, – отвечал Павел, – обними и скажи, что ничего другого не было.
– Прошу тебя, прогони меня.
Но он только сильнее прижимал ее к себе, сжимая руки все сильнее, словно от того, насколько крепко он обнимет ее, могло измениться что-то – прошлое ли, будущее ли.
– Прижмись ко мне. Теснее. Еще ближе.
24
Когда видишь человеческое лицо, видишь одновременно и общее выражение, и отдельные черты. Панофский считал, что каждая из частей лица принимает на себя ответственность за нечто свое: лоб – воплощение интеллектуальной жизни; от бровей до губ черты лица рассказывают о характере; то, что ниже, выражает опыт. Встречаются лица, в которых каждая черта говорит противоположное, тем не менее общее выражение лица существует. Как правило, искусство концентрирует внимание на общем.
Искусство в отличие от оптики обладает способностью избирательного зрения. Очки не помогают близорукому в избирательном анализе деталей: они приближают мир сразу – во всех подробностях. Сочетать несколько расплывчатое и зоркое зрение в жизни невозможно. Когда же речь идет об искусстве, вопросы звучат так: не сделать ли зрячего немного близоруким? нужно ли внимательное зрение или легкий туман не повредит? До какой детали доводить разрешающую способность кисти, когда рисуешь портрет: рисовать ли глаза у человека или ограничиться пятнами, а может быть, достаточно пятна вместо всего лица? Полная картина мира искусству не требуется – нужна редакция.
Художнику надо создать баланс между подробностями и общей интонацией холста. Всегда кажется, что лишняя деталь разрушит впечатление. Считается безусловно доказанным, что коль скоро целое важнее детали, деталями нужно жертвовать. Причем жертвовать деталью художник должен не потому, что он этой детали не видит, и не потому, что он ее не может воспроизвести, и не потому, что не хватает времени на подробный рассказ, – но потому, что есть нечто важнее ее. Это нечто определяется, как правило, через идеальные понятия: общее видение, цельная форма. Существует много примеров, когда художник жертвовал частью ради впечатления от целого: Роден отрубал руки у уже готовой статуи, Сезанн время от времени сводил формы к простой геометрии. Есть термин, широко используемый в живописи, – «обобщить». Обобщить – значит пожертвовать частным ради целого, пожертвовать материальным (ибо что есть деталь, как не торжество материального) ради идеального. Здесь существует противоречие, в котором художник должен отдавать себе отчет.
Живопись – субстанция материальная, производящая материальный продукт. Цельная форма и общее видение в живописи могут быть выражены лишь наглядно, а значит, остаться в качестве идеальных понятий не могут. Когда Сезанн говорит слова «общая форма», его восторженный слушатель Бернар может воображать невообразимый эйдос, но в действительности Сезанн имеет в виду нечто цилиндрообразное, что обозначает тело купальщицы. Поскольку художнику органически не дано нарисовать то, чего нет в природе (даже если он рисует только пятна, то следует признать, что и пятна в природе тоже существуют), то, изображая идеальную форму, он все-таки нарисует конкретный предмет. Толкуя о цилиндре, конусе, шаре (последователи относились к этим формам как к метафизическим указаниям), Сезанн имел в виду буквальный цилиндр и буквальный конус. Когда кубисты, а вслед за ними супрематисты заменили образ схемой – то (вольно или невольно) они изображали простые геометрические тела, ведомые всякому школьнику, – хотя собирались выразить метафизические основы бытия.
Проблема материального бытия – а картина принадлежит посюстороннему бытию – в том, что место одной детали обязательно займет деталь иная, и художник должен понять – какая именно, ради чего он поступился подробностями бытия. Противоречие заключается в том, что в живописи невозможно жертвовать материальным ради идеального: освободившееся место с неизбежностью займет другая материя. Сезанн испытывал отвращение к слащавым подробностям анатомии – но всю жизнь переживал, что, обобщая, не может закончить холстов: цилиндрообразные объекты, заменившие тела, его также не устраивали. Последователи усмотрели в этом лицемерие, они-то восхищались именно цилиндрообразными объектами. Сезанн же был искренним: он чувствовал страшную власть детали – оставшееся от нее пустое место кричит о материальности мира еще громче.