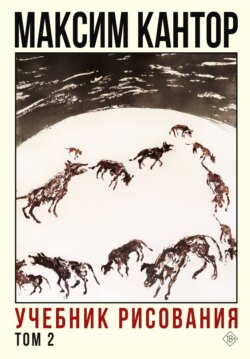Читать книгу Учебник рисования. Том 2 - Максим Кантор - Страница 6
Часть третья
Глава 26
Другой мальчик
ОглавлениеI
– Посмотри на звезды, сколько их, и за каждой своя история, – сказал он, показывая на небо. Соня Татарникова подняла взгляд.
– Это не звезды, – сказала Соня, – это огни самолетов.
– Нет, – убежденно сказал он, – это звезды. Видишь, там голубая Венера, это Марс, а та, что ярче других, – это Полярная звезда.
Соня не видела в мутном небе ничего из перечисленного.
– Все звезды ты не можешь увидеть – их бесчисленное множество, – ее собеседник убеждал себя, что он видит звезды отчетливо. – Звезды как лица в толпе. Представь, что видишь огромную толпу и различаешь только первые лица, а дальше ничего нельзя разобрать. Когда мы оцениваем толпу, мы оцениваем ее по первым лицам. Мы смотрим на звезды, знаем, что их несчетное число, но судим по ближайшим и убеждены, что таких, как мы, разумных больше нигде нет.
– По-моему, – неуверенно сказала Соня, – доказано, что мы одни в Солнечной системе. Или в Галактике.
– Как так? Не сосчитать планет, а мы одни – разумные?
– Так получилось, – сказала Соня.
– Люди даже в личной жизни не допускают, что есть другой человек с непохожей историей, – как допустить, что существует другой мир? Ты уверен, что живешь правильно, но рядом живет другой, и для него ты – дурак. Лучше про другого не знать. То есть мы, конечно, журналистов посылаем на разведку, но узнаем только то, что хотим узнать. Вот, например, газета, в которой я работаю. Новостей столько, что работы на сто лет хватит, только успевай рассказывать. Но газеты рассказывают одинаковые новости, о тех же самых людях. Эти люди богатые, модные – теперь много рассказывают о том, где они отдыхают, что кушают. Я не говорю, что это неинтересно, но про Тахту Аминьхасанову газеты каждый день пишут, и про Ефрема Балабоса тоже. Я, когда решил журналистом стать, думал, что про всех интересно. Почему-то решили, что тем, которые небогатые, интересно про тех, которые богатые. А наоборот нельзя. Меня все бранят за глупые примеры из жизни глупых людей. Я и сам понимаю, что с дворником ничего интересного для директора банка не произошло. Но ведь и дворнику неинтересно, если директор банка купил остров. Меня, наверное, скоро из газеты прогонят, потому что я сам для них – другой. Другой – это тот, которого все равно что нет. Баринов, наш главный редактор, мне сказал: ты всего-навсего Андрей Колобашкин – то, что с тобой случилось, никому не интересно. И наверное, он прав. Но на Юпитере кто-нибудь спросит: а газету Баринова про новые приобретения Ефрема Балабоса читали? А ему ответят: еще всякую чушь читать.
– А я считаю, – весело сказала Соня, – им на Юпитере будет любопытно.
– Что здесь любопытного? Когда наши газеты найдут, по ним истории не восстановят – не поймут, как люди жили. Разве так хронику пишут! Разве это настоящая хроника?
– Тогда напиши другую, правдивую, – посоветовала Соня.
– И напишу, – сказал ее собеседник, – когда-нибудь напишу хронику. Другую. Я привык, что всегда буду другой. У меня и семья другая, и жили мы по-другому. Мы в бараке жили, знаешь, после войны бараки построили – думали, на время строят, а мои родные там прожили сорок лет. Меня все жалели за то, что я в бараке живу, и маму мою жалели, а нам там нравилось: соседи хорошие, и вообще уютно. У меня есть друг, Антон Травкин, мы с ним всегда спорили – ну, как дети спорят: где лучше жить, где правда, что выбрать и так далее. И Антон всегда хотел выбрать то, что лучше и правильнее, а я говорил – зачем выбирать? Как будто, когда узнал правильное, то, другое, можно выбросить. А он мне говорил, что хочет найти такое место в мире, где творится история, а остальное не важно. А я ему отвечал: где ты – там и есть история. И всегда мы спорили об одном и том же: если твоя жизнь – другая по отношению к той, которую принимают за образец, значит ли это, что тебя нет?
– В разговоре с редактором газеты ты неправ, – сказала Соня Татарникова. Она теперь часто виделась с Дмитрием Кротовым и научилась от него логике беседы. – Если вдуматься, – повторила Соня Татарникова любимую фразу Кротова, которую тот повторял за Борисом Кузиным, – твой редактор прав. Ведь он выпускает газету для директоров банка, не так ли? Его подписчикам неинтересно читать про дворников. Может быть, – сказала Соня несколько высокомерно, но в целом доброжелательно, – может быть, тебе стоило бы основать газету для дворников? И там писать истории из их жизни.
Высказывая это соображение сутулому и вялому Андрею Колобашкину, Соня представила, как среагировал бы на него быстрый Дмитрий Кротов. Человек действия, Кротов мгновенно, с калькулятором в руках, подсчитал бы затраты, прикинул сроки возврата вложений. Не исключено, что он тут же выхватил бы мобильный телефон, набрал номер инвестора: есть мысль, как насчет газеты для дворников? Среднесрочный проект – в два года отобьем. Реклама метел, скребков, соли для автомагистралей. С мэром кто поговорит? А производитель снегоуборочных машин кто? И решен вопрос.
Андрей же Колобашкин поразмышлял над предложением и сказал так:
– Верно. Но в этой новой газете мне не только про дворников, про банкиров тоже писать захочется. Надо написать про то, как банкиры уживаются с дворниками, – вот это будет настоящая история. У меня был школьный товарищ, Ванька, – сказал другой мальчик, и Соня приготовилась слушать очередной нелепый рассказ, – он уехал из Москвы, живет в деревне Грязь.
– Как называется деревня?
– Грязь. И он там живет. И строит коттеджи богатым жуликам. По-моему, самое интересное – писать про его отношения с богатыми ворами. А у нас пишут отдельно про богачей, отдельно – про крепостных. Но так историю не напишешь.
Соня улыбалась. Рассуждать легко. Ходи, глазей на звезды и рассуждай, труд невелик. Труднее тому, кто должен обеспечить работой дворников и банкиров, тому, кто решает, делает, строит. Для Кротова безотносительная болтовня была невозможна: ему ежедневно приходилось примирять противоречия, принимать решения. «Я принял жесткое решение», – говорил при ней Кротов в телефонную трубку, и Соня любила смотреть на его лицо в эти минуты: суровые глаза, острые скулы. Не оттого, что Кротов циничен или груб, приходилось ему принимать жесткие решения, но оттого, что кто-то должен взять на себя ответственность, а не просто болтать про Галактику.
– Высшая мудрость, наверное, состоит в том, чтобы вовсе убрать различие между людьми. Ведь когда мы любим, мы словно соединяем свою сущность с сущностью другого человека. Когда человек говорит другому «я люблю тебя», он говорит ему этими словами, что отныне они – одно, и нет больше двух разных людей. Они, конечно, разные, но словно переходят в такое высшее состояние духа, где различия не считаются. Если принять высшую мудрость, то никогда не будет войн, не будет ни дальнего, ни ближнего, а будешь везде как бы ты сам – нераздельная на своих и чужих единая сущность. Но как же получилось так, что даже и религии, то есть высшие мудрости, и те тоже делятся на свои и чужие. И даже та религия, которая говорит, что нет ни эллина, ни иудея, выступает как другая по отношению к той, что объединяет людей на Дальнем Востоке или еще где-то далеко.
Соня представила себе, как выслушал бы данную тираду Дмитрий Кротов, и едва удержалась от смеха. Кротов называл таких, как ее собеседник, «ботаниками». «Ботаник» – это такой человек, который болтает о прекрасном, а заработать три рубля не умеет. Соня подумала, что на месте главного редактора газеты она бы давно Колобашкина уволила.
– Мешает, – продолжал Колобашкин, – категория прекрасного. Разве не от прекрасного происходит неравенство? Красота – она фактом своего существования обусловливает понятие некрасивого. Если есть красивые люди и вещи, всегда будут некрасивые люди, и они будут другими по отношению к красивым. Или здоровье – и болезнь. Или молодость – и старость. Это объективные вещи, молодой всегда будет другим по отношению к старому, а здоровый – по отношению к больному.
Для того чтобы убрать эту разницу, надо исключить суждение – пусть никто не знает, в чем разница между старым и молодым, красивым и некрасивым. Высшая мудрость должна заключаться в том, чтобы то прекрасное, которое мы знаем как прекрасное, – отменить. Надо постановить, что прекрасным является отсутствие разницы между красивым и некрасивым, молодым и старым. И религия почти это и делает – но она не убирает суждение до конца, она оставляет различие между истинным и ложным. Высшая мудрость это последнее различие должна сохранить, чтобы иметь возможность тем, кто не следует высшей мудрости, сказать, что они неправы. И в этом уязвимость высшей мудрости: всегда найдется тот, кто этим последним различием воспользуется. Появится, например, Ницше и скажет: вы разве не замечаете, что вы приравняли больных к здоровым, а уродов к красавцам? Вы достигли гармонии ценой лицемерия – и, значит, не достигли. И его слова прозвучат убедительно, потому что он прав с точки зрения истинного суждения в отношении красоты.
Соня слушала рассеянно, думала о другом. Соня знала, что Дмитрий Кротов стесняется своей ранней лысины – старается зачесывать волосы с висков вбок, чтобы закрыть смешное лысое место на макушке. Она умилялась его детской застенчивости. Пристало ли политику и стратегу думать о таких мелочах? Неужели он думает, что Соня обращает внимание на такие вещи? Дима красив и мужествен, а лысина придает его лицу определенную мягкость, делает общий облик милым и домашним. Когда он сидит, склонившись над массивным столом красного дерева, просматривает бумаги, принесенные на подпись, а волосы свешиваются вниз, открывая розовую беззащитную плешь, образ Димы делается несколько доступнее: не суровый политик, а милый интеллигентный человек. Что есть красота в отношении тех, кто тебе дорог, в отношении тех, кого – она боялась произнести – ты любишь? Как много тратит слов тот, думала Соня о своем сегодняшнем собеседнике, кто ничем по-настоящему не занят: ни работой, как Кротов, ни чувствами, как она. Она подумала так: любопытно, а какую книгу он пересказывает мне сегодня? Про Колобашкина было известно, что, как все стихийно образованные люди, он зачитывался какой-нибудь случайной книгой и принимался всем пересказывать ее содержание. А собеседник ее продолжал говорить:
– Проблема другого может быть решена только этически, а этика всегда будет уязвима для логики. Вот погляди на политику. Другая страна – это просто собрание других людей. Страны должны взаимодействовать, руководствуясь принципом справедливости, надо, чтобы это была справедливость, основанная на равных возможностях, чтобы сильные согласились с тем, что слабые такие же важные, как они. Это как если бы красивые признали, что некрасивые не уступают им в красоте, а здоровые согласились, что больные тоже здоровы. Такой договоренности никогда не будет, а значит, надо строить справедливые отношения, исходя из морали. У такой справедливости будет один критерий – стыд. Стыдно бить слабого или стыдно взять чужое. Нельзя, скажем, запретить маленькому народу торговать бананами – ведь, если им запретить, они там с голоду помрут. Значит, так поступать в отношении маленького народа стыдно. Но разве сильное государство будет испытывать перед слабым стыд? Сильному, здоровому и красивому никогда не станет стыдно перед уродом и больным; это уроду всегда будет стыдно, он как будто с самого начала виноват. Так мне всегда было стыдно в богатых домах – например, меня Антон однажды взял к Рихтерам, знаешь таких? Они с твоими родителями дружат. Я в их доме сразу испытал стыд, хотя плохого и не делал. Просто они все почувствовали, что я – хуже, им стало неприятно оттого, что у них все есть и они не могут мне ничего дать, а если дадут мне что-нибудь, мне это впрок не пойдет. Ну, дадут они мне книжку почитать – а я эту книжку или не пойму, или потеряю. Им стало за меня неловко, и мне тоже стало неловко, как будто я нарочно вырос в бараке и без отца. В семье Рихтеров я всегда буду другой. Они когда книжку открывают, то уже знают, что там написано. У них в семье знаешь, как книжки читают? Снимут с полки, откроют на середине, два слова прочтут и обратно на полку ставят – все им ясно. Я рассуждаю, как умею, а им заранее все известно. Они и не станут о таких вещах говорить, как я сейчас, потому что это уже где-то написано. И спорить с ними невозможно. Я только рот открыл – и понял: всегда буду неправ.
Действительно, думала Соня, ты всегда будешь неправ. Ты даже не пытаешься понять, как надо разговаривать с Рихтерами, как – с редактором газеты, а как – со мной. Дмитрий Кротов умеет найти подход к каждому человеку: здесь – повысить голос, в другом месте – говорить тихо. Беседуя с Басмановым, находит интонацию, приятную спикеру парламента, с избирателями говорит иначе. Ты сетуешь на невнимание к другому. А сам?
– Если большая сильная страна, – сказал другой мальчик, – ну, скажем, страна, состоящая из богатых и умных Рихтеров, решит, что для другой страны благо не в том, как они там живут, а совсем в ином, то как быть? Кому должно быть стыдно – тем, которые лезут не в свое дело, или глупым людям, которые жили неправильно? Все решили, что для России жить как прежде плохо и надо жить так, как решили другие, которые смотрят со стороны. Но мне жалко той моей России, которую они никогда не знали и никогда не узнают. Для них это глупая экзотика, плохая экономика, а для меня – жизнь. И синий снег, и деревянные санки, и наш барак с дощатым полом, и облезлые собаки во дворе, и полотенце с синими волками, которым я утирался в детстве, – все это не подготовка к лучшему, это хорошо само по себе. Понимаю, что многое в той жизни было дурно, но, знаешь, я хочу остаться другим.
– По-моему, ты переживаешь по пустякам, – сказала Соня с высоты своего опыта, а точнее, с высоты опыта Дмитрия Кротова. Она имела возможность наблюдать, как реагирует Кротов, когда другие люди пытаются ущемить его интересы. Ее сегодняшнему спутнику было чему поучиться. Совсем недавно Соня была свидетелем того, как Кротову доложили о его сопернике, Владиславе Тушинском, о планах последнего сделаться единственным представителем либеральной мысли в России. Кротов рассмеялся и сказал, что приветствует усилия соперника. «Значит, вам нечего делить с господином Тушинским?» – «Разве Родину делят, – изумился Кротов. – Разве совесть делят? Я с удовольствием разделю бутылку шампанского с господином Тушинским – но лишь после победы». – «Чьей победы?» – поинтересовались ехидные журналисты. «А это мы как раз и должны выяснить, не так ли?» И, улыбаясь, Кротов проводил журналистов до дверей и, только когда закрыл двери, скрипнул зубами. Соня поразилась его выдержке. Колобашкину она сказала:
– Тебе не хватает уверенности. Многое зависит от того, как себя поставишь. Вот если бы ты с Рихтерами держался иначе, они бы перед тобой нос не задирали.
– Рихтеры неплохие люди. Просто они столько всего знают, что для меня у них там, в их знании, есть заранее место. Я пришел к ним в дом, и меня поместили в специальную коллекцию, где для меня уже и полка есть, и этикетка приклеена. Если написана общая история, разве в ней нет места для малой истории? Даже когда создают большие империи, все равно не могут отменить того, что есть южные страны – и северные, маленькие люди – и рослые. Можно нарисовать границы, но горы стереть нельзя. И непонятно, какая правда правдивее – новые границы или старые горы?
Соня кивнула. Проблема реального (не умозрительного, но самого что ни на есть реального) вхождения в Европу живо обсуждалась в доме на Малой Бронной. Серьезные люди взвешивали за и против, рассуждали о единой валюте, европейском торговом союзе, таможенных пошлинах, демпинге – одним словом, решали проблему. А то, что отмахнуться от дела легко, Соня могла убедиться хотя бы на примере отчима: когда она пересказывала европейские планы профессору Татарникову, тот кривился и спрашивал, запустят ли устриц в Москву-реку. Вот и весь ответ. Но Сергей Ильич Татарников (и Соня, увы, должна была согласиться с мнением матери) уже давно не тот, что был прежде: утратил остроту ума, и пьет много, и работать перестал. Отец Сони, предприниматель Левкоев, реагировал на европейские концепции иначе. Человек практической складки, он соотносил проблему с реальным опытом. «Ты в Сорбонне учишься? Учишься. В Париже устрицы ешь? Ешь. Так что сама видишь, вошли мы в Европу или не вошли. А что твоему Татарникову устриц не досталось – так это он сам виноват. Устриц лентяям не дают». И предприниматель Левкоев выковыривал устрицу из раковины, перекусывал ее крепкими крупными зубами. Соня поддевала двузубой вилочкой устрицу и улыбалась отцу, но и Сергея Татарникова ей было немного жаль. Не повезло Сереже, но он ведь, в сущности, хороший – нельзя ли и ему немного устриц дать? Ну, хоть парочку? Жалко ей было и своего сегодняшнего спутника. А тот продолжал:
– Они говорят, что Россия стала частью Европы, но разве это может быть правдой? Посмотри на карту – ведь не может так быть, чтобы большее стало частью меньшего? Знаешь, на что такое рассуждение похоже? Это как если бы портной, не снимая мерки, сшил костюм по воображению и стал запихивать в маленький костюм большого человека; тот втиснется в костюм, а костюм потом лопнет. Мы просто другие – а признать это не хотят.
Соня подумала: он сам сказал, что он – другой. Мы ведь так всегда и называли его: «другой мальчик». Когда он вместе с Антоном пришел к ней в гости, в дом Татарникова, то Зоя Тарасовна сказала Соне: к тебе Антон пришел и с ним другой мальчик. «Антон и другой мальчик» – так говорили про них в Сониной семье и не думали этим обидеть, просто имени другого мальчика не могли запомнить. Фамилия смешная, но вот какая именно, все время забывали. И Соня с Зоей Тарасовной даже играли в такую игру: а скажи-ка мне, какая фамилия у другого мальчика? Кулебякин? Толстолобиков? Башмачкин? И обе девушки (Зоя Тарасовна скорее чувствовала себя подругой своей дочери, нежели матерью семейства) от души смеялись. И когда снова приходили к ним в гости Антон и другой мальчик, подружки толкали друг друга локтями: «А спроси у него, как его фамилия?» – «Сама спроси!» – и подружки смеялись, а мальчики смотрели на них растерянно. Антон выспрашивал у Сергея Ильича Татарникова про историю, а другой мальчик сидел на краю стула и редко подавал голос. Антон брал у Сергея Ильича книги читать, а другой мальчик стеснялся попросить. Антон всем запомнился и понравился, домашние обсуждали, какой у него серьезный взгляд, красивые глаза, но когда Зоя Тарасовна попыталась описать знакомым, как выглядит другой мальчик, у нее ничего не получилось. Волосики как будто серенькие, а может быть, рыженькие – разве можно запомнить? Он такой обыкновенный с виду – как среднерусский пейзаж с комарами.
Пожалуй, лишь отчим Сони, Сергей Ильич, отнесся к другому мальчику серьезно. Однажды он вынес из кабинета учебник по астрономии, открыл его на карте звездного неба и протянул другому мальчику со словами: «Завтра верни карту исправленной». Мальчик взял карту и действительно вернул ее назавтра, а Сергею Ильичу сказал так: я ее выучил наизусть и теперь, если увижу где ошибки, буду исправлять. Нам в школе тоже показывали карту неба: оказывается, там все – неправда. Профессор Татарников посмеялся. Понимаешь, сказал он, этот учебник старый и неточный, карта здесь, разумеется, нарисована приблизительно. И в твоей школе, полагаю, карта с ошибками. Ошибки будут делать всегда. Трудно нарисовать точную карту того, что находится далеко и не изучено. Картография такая наука, которая требует постоянных уточнений. Любой путешественник добавит новую деталь, и переменится вся карта. В свое время в Европе выпускали потешные карты Московии – ничего общего с Россией они не имели. С тех пор появилась аэрофотосъемка, подробные атласы – и все равно ты не найдешь двух одинаковых карт. Другой мальчик слушал профессора внимательно, ничего не говорил.
Соне сегодня он сказал так:
– Зачем отказываться от другого? От другого может быть польза, даже если это никому не видно. Про него думают, что он урод, а он именно несхожестью полезен. Россия все равно спасет мир. Уже много раз спасала и снова спасет.
– От кого Россия мир спасла? – Соня поглядела пристально и насмешливо; так обычно смотрел Кротов на представителя провинциальной фракции либеральной партии. – И от чего теперь спасать требуется?
– От разных империй, – он рассказал ей то, что всегда говорил всем, что привык думать с детства; все прочитанные книги он делил на те, что подтверждали его мысль, и те, что были недостаточно хороши для такой мысли.
– Спасет мир! – Соня изумилась такой вопиющей, неприличной фразе. Соня выросла в интеллигентной семье Татарниковых, слушала с детства обличительные речи Рихтера, к тому же в доме Кротова она за последние месяцы видела много просвещенных людей – иные из них были на государственной службе, но даже политики подчеркивали злонамеренный характер Российской империи. Сегодня российский политик – из тех даже, кто пекся о новой вертикали государственной власти, – не мог позволить себе столь оголтелой пропаганды. Цели обновленной России были ясны: войти в общую семью цивилизованных народов, а не держаться за самобытность. Тем более что держаться не за что. Те речи, что вел другой мальчик, не просто обличали необразованность – они были для современной московской жизни непристойны. Возможно, лет сорок назад кто-нибудь и мог позволить себе подобную реплику в обществе, да и то, скорее всего, он был бы воспринят окружающими как программный славянофил, антисемит и карьерист. Но то были темные советские времена – в обществе же либеральном такая фраза просто не имела права на существование.
– Россия мир угнетала, – сказала Соня убежденно, так, словно эта мысль была ею выношена в течение всех двадцати пяти лет нахождения на свете.
– А я считаю, – упрямо сказал другой мальчик, – что мы, русские, вроде пожарных: если где беда, нас туда и зовут. А потом пожарных ругают: копотью от вас пахнет. От монголов, фрицев, французов кто спас? И от коммунизма, если разобраться, тоже мы спасли. Я вот и думаю, – он помолчал, – а так ли надо всему миру Россию сегодня побеждать? Ну, напялят на нее новый костюм. А дальше что?
Соня привыкла к тому, что другой мальчик говорит нелепости, просто с годами нелепости стали агрессивными. В бараке приличного образования не получишь, ничего с этим не сделаешь – закон. Было нечто не просто неточное, но безмерно провинциальное в словах другого мальчика – их словно произносил пионер из давно позабытого времени, кто-то, кто и знать не знал, чем живет мир сегодня.
II
Сегодня мир, и Россия в том числе, жил совсем иными страстями. Мир был охвачен порывом к свободе, но в отличие от стихийного и недальновидного порыва, пережитого в тридцатые годы, сегодняшний порыв был обдуманным, стратегически просчитанным. Бурный поток был взят в железное русло экономики, эмоции правдоискателей контролировались соображениями выгоды. Даже человек, не читавший специальных учебников, но просто открывающий газеты и включающий телевизор (например, такой человек, как девушка Соня), знал, что мир вступил в новую фазу развития – построения общего, справедливого мира, который себя в обиду не даст. Политики вроде Дмитрия Кротова занимались освоением постсоветского пространства – следили за тем, чтобы распавшаяся на части империя переходила к новым системам управления цивилизованно, т. е. в соответствии с интересами бизнеса. Непростая задача Кротова заключалась в том, чтобы подобно тому, как рачительная хозяйка пристраивает щенков от разродившейся суки, пристроить каждый отвалившийся от целого кусок в хорошие руки. А то побежит бессмысленный слепой щенок на волю – и пропадет. В гостиной на Малой Бронной улице Соня слушала речи, посвященные грузинской «революции роз» и «оранжевой революции» на Украине. Обделенные вниманием мира в былые годы, эти регионы обретали самостоятельность и шли к независимости и процветанию. Наблюдатель (Соня, например) мог заметить, что, несмотря на то, что эти движения явно уменьшают влияние России в мире, прогрессивные политики их приветствуют. Вот пример, думала Соня, того, что наличие другого – свободного другого, благополучного другого – не только не мешает, но всеми приветствуется. Россия распадалась на части, но российский бизнес от этого не проигрывал: Соня видела, как стараниями политиков в освобожденные регионы внедряются промышленные концессии. «И мы, Димочка, – говорил спикер Думы Герман Федорович Басманов, – и мы что-нибудь устроим прогрессивное, как считаешь? Пора, давно пора нам Россию расшевелить! Голубую революцию, а? Или революцию левкоев, как думаешь? Попросим Тофика Мухаммедовича, он столицу левкоями завалит!» – И спикер гулко хохотал, пуская солнечных зайчиков золотыми коронками. А иностранные гости, инвесторы и директора крупных компаний – Ричард Рейли, Алан де Портебаль, барон фон Майзель – те суетились вокруг, хлопали Кротова по плечу, подкладывали бумаги на подпись. И отец Сони, бизнесмен Тофик Левкоев, сосед Кротова по дому, заходил иной раз, поддерживал шутку о революции левкоев. «Почему нет? Для хороших людей цветов не жалко! Вы мне Донецкий бассейн – а я вам букетик! Вы мне керченское месторождение – а я вам еще букетик». И все смеялись. Только один толстый, неприятного вида господин переспросил: «Точно – букетик? А может быть, венок?» Соня поинтересовалась, кто это такой невежливый, и ей объяснили, что это бизнесмен Щукин, которому от «революции роз» никакого интереса не вышло. И Соня неожиданно для себя испытала злорадное удовлетворение, оттого что неприятному господину не повезло. Ни устриц на всех не хватит, подумала она, ни левкоев, ни роз. Было очевидно, что роз не достанется и ее сегодняшнему собеседнику. И кто же в этом виноват? Одно дело, думала Соня, безответственно рассуждать об освободительной роли России, и совсем другое – печься о ее выгоде.
III
– Я потому для вас чужой, – говорил ей тем временем другой мальчик, – что у вас родословная имеется, а я дворняга. У тебя отец – знаменитый профессор, порода Татарниковых известная; Антон в семью Рихтеров попал, а у них все торжественно, как у сенбернаров. Теперь Рихтеры вообще с Голенищевыми породнились – там предков целая картинная галерея, один другого важней. А у меня отца не было вовсе, мать не сказала, какой он из себя. Дед с войны не вернулся, только фотография осталась, на ней и лица не разглядеть, – Андрей Колобашкин сознательно не упомянул о Тофике Левкоеве, хотя знал, что Соня не родная дочь Татарникова, знал, кто ее настоящий отец. Но в его представлении Левкоев был вовсе недоступной величиной, стоило подумать о том, чья дочь Соня на самом деле – и она делалась бесконечно далека. – Вы всегда будете заодно, потому что у вас еще бабушки дружили и прадедушки в одну гимназию ходили.
– Может быть, прадедушки ссорились, – сказала Соня, – у породистых собак все сложно.
– Так это же все равно. Как в политике: большие страны воюют, потом дружат, потом опять воюют. Если бизнесмен хочет бизнесмену понравиться, он у него сначала пару заводов украдет, потом ему бензоколонку уступит, потом они вместе в баню сходят, а потом совместно нефтепровод станут прокладывать на ворованный кредит.
– Всем ты, я вижу, недоволен, – сказала Соня.
– Так я же не ворую, что мне радоваться.
– По-твоему, все вокруг воруют?
– Все, – убежденно сказал другой мальчик. – Надо что-нибудь обязательно украсть, чтобы стать порядочным человеком.
– Неужели другого способа нет?
– Нет.
IV
Не далее как три дня назад Соня слышала, как в доме на Малой Бронной обсуждали схожую тему. Дмитрий Кротов созвал гостей – поводом послужило новоселье – и поднял тост за согласие.
– Сегодняшний вечер, – сказал хозяин стола, – собрал людей многих профессий, несхожих убеждений, разных гражданств – так что же объединяет нас за этим столом? Кто-то скажет, что это общий бизнес. Позвольте возразить. Я знаю, что интересы господина Портебаля порой приходят в противоречие с интересами Германа Федоровича Басманова, интересы министра культуры Аркадия Ситного подчас отличны от интересов заместителя министра Леонида Голенищева, а интересы издателя Василия Баринова не буквально совпадают с интересами издателя Петра Плещеева. Более того, мне доподлинно известно, что интересы издателя Плещеева не всегда тождественны интересам Плещеева-антиквара! И я приветствую эти противоречия. Именно эти противоречия делают жизнь интересной. Но! Но есть нечто, что объединяет всех нас: есть общая убежденность, а лучше сказать, общее свойство. Как назвать это свойство? Как определить своего и отделить чужого? Не кокардой же? Не по гвоздике в петлице мы должны узнавать союзника. Партбилетов, – сказал лидер демократической партии, – мы, слава богу, в кармане не носим, инакомыслящих не преследуем. Но есть такая вещь, которая всех нас роднит! Я предлагаю выпить за основной принцип объединения мыслящих людей – за порядочность!
И гости подняли бокалы.
– Позвольте старому журналисту, законнику, – говорил депутат Середавкин и тянул свое утиное лицо и бокал по направлению к Кротову, – за гражданскую порядочность! За либерализм!
– Порядочность, – говорил Кротов, – есть основной критерий либерализма. Так уж повелось у нас в России еще со времен диссидентских посиделок на кухне, что, спрашивая про нового знакомого, мы всегда уточняем: а он порядочный человек? Заметьте, мы спрашиваем не про убеждения, не про место работы, а про некое абстрактное свойство. Для нас, русских интеллигентов, порядочность далеко не абстракция. Порядочность – это то, благодаря чему интеллигенция выжила в трудные годы, сохранила свое единство и – победила. Порядочность – это пароль российской интеллигенции. Ты можешь быть монархистом или анархистом, либералом или консерватором, правым или левым – но порядочен ли ты? Мне приятно сознавать, что как бы ни рознились взгляды, но господин де Портебаль без опаски может довериться порядочности Германа Басманова, а Аркадий Ситный смело может повернуться спиной к Леониду Голенищеву.
Гостей нимало не удивило, что работники Министерства культуры должны радоваться тому факту, что могут поворачиваться друг к другу спиной, не опасаясь удара. Напротив, гости констатировали, что прогресс в отношениях налицо. Соня, наблюдая застолье, неожиданно сравнила его с репортажем из жизни обитателей джунглей, который видела по телевизору: крупные хищники выходили на водопой и во время водопоя спокойно поворачивались друг к другу спиной и не грызлись. Собрание у Кротова, собрание людей, бесспорно, сильных и властных, отличали взаимная предупредительность и такт. Сильные звери спустились к воде и забыли распри. Что же является водоемом для них – ведь не шампанское же? Соня поняла в тот вечер, что живительной влагой, примиряющей разногласия, является либерализм. Сильные звери спускались из чащи попить либерализма – и Соня подумала о Кротове как о человеке, который не на словах, но на деле сумел примирить общество.
В тот вечер Кротов представил ее гостям. Он взял ее под руку и обошел присутствующих, знакомя с каждым, и каждый сказал ей несколько слов, и каждому Соня улыбнулась.
– Мы должны наконец понять, – говорил своим гостям Кротов, – что у нас больше общего, чем мелких разногласий. Платформа у нас общая – порядочность. И пришла пора основать единую партию – партию порядочных людей. К чему приведет раздробленность? Цель у нас общая – либерализм, демократия и благосостояние. Если не соединим усилий, можно ждать реставрации коммунизма, командно-административной системы, и национализм российский снова поднимет голову. Не объединимся сейчас – наши дети упрекнут нас в том, что мы проворонили демократию.
– Ответственно говорит, – поддержал спикер Думы, – думает о будущем, не то что эгоист Тушинский. Вот кого бы я порядочным не назвал. Ведь что устроил, шельмец? Расколол демократическое движение, каков мерзавец, а? Все себе, только себе, а о стране кто думать будет? О детях наших? Спасибо, Димочка у нас есть.
Басманов, видела Соня, гордится своим учеником. Герман Федорович одобрительно покачивал головой, поглаживал Кротова по колену. Лицо спикера Думы, лицо сурового бойца, с глубокими морщинами и складками свалявшейся кожи, как у старого варана, расцветало, когда Басманов глядел на Кротова, – и Соня гордилась этим признанием.
– Объединимся, – говорил Басманов, – и сильнее станем, и богаче. Здесь каждому есть что в общую копилку положить. Про Тофика Мухаммедовича я и говорить не стану, но даже и раб божий, – сказал Басманов о себе, – тоже кое-что припас. Не для себя припас, для общего дела.
V
– Объединение людей я представляю так, – сказал Соне другой мальчик, – люди встречаются и говорят друг другу: у меня есть это, а у меня – это, но союз нам дороже собственности. Все, что было накоплено до сегодняшнего дня, не нужно, можно честно объединиться, только отказавшись от былых приобретений. Например, мы стали бы жить вместе, как бы мы договорились? Я бедный, а у тебя вон всего сколько. Ты скажешь, для чего мне объединять свой быт с твоим бытом, если у меня много всего, а у тебя ничего нет, – и ты будешь права: так объединиться не получится. Надо тебе сначала от всего отказаться. Но ты скажешь: тебе отказываться легко, а мне каково? А я бы тебе ответил: давай попробуем, Соня, у нас получится! Зачем нам богатство – у нас иное будет богатство, лучше, чище. Поэтому я считаю, что Россия была не совсем такой империей, как другие, она всех объединяла бедностью, а не богатством. Это теперь Москва стала, как Вавилон, как Древний Рим, все деньгами меряют.
– Давай представим, что мы заключили союз, – сказала Соня весело, – и от богатств отказались. А где мы жить будем?
– Придумаем что-нибудь, – сказал другой мальчик. – Ты в Сорбонне учишься, сюда только на каникулы прилетаешь, наверное, уже думаешь, здесь и жить нельзя. А здесь не хуже, чем в Париже.
– В деревню уедем? Станем ходить в церковь и растить свеклу?
– Можно и в церковь ходить, – сказал другой мальчик с отчаянием. – Христианство, между прочим, тоже объединяет людей бедностью, а не богатством.
– Ты уверен, что предложение заманчиво? Свеклу растить я не собираюсь.
VI
Из гостей, собравшихся на Малой Бронной, сельским хозяйством не собирался заниматься никто – не оправдало себя в России сельское хозяйство. Ни депутат Середавкин, что по должности иногда выезжал в нечерноземные районы Отечества, ни Герман Басманов, который был слишком хорошо информирован о положении дел, чтобы испытывать энтузиазм. Также и министр культуры Аркадий Ситный, отбывший рано по государственным надобностям, но не забывший подойти к Соне и приложиться к руке полными губами; и заместитель его Леонид Голенищев, пригласивший Соню на вернисаж; и зарубежные бизнесмены, вручившие ей визитные карточки, – все эти люди не связывали свое будущее с утопиями природно-растительного характера. Было очевидно, что не сельским хозяйством увлечены эти люди, Руссо и Торо не владели их умами. Городская культура, прогресс – очевидно, будущее человечества находилось именно там. Соня чувствовала себя с просвещенными людьми легко: могла поддержать разговор о Париже, мило улыбаясь, рассказывала про Сорбонну и слышала, как в глубине комнаты кто-то сказал: дочь Левкоева. Ах, Левкоева. Вот оно что. Ага.
– Так вы у нас парижанка? Надо бы у Димы навести парижский лоск, – сказал Басманов, – не хватает нам, русским, вкуса. Мебель по углам наставим, а вот очарования, очарования в обстановке нет. Парижским взглядом посмотрите да и скажите: зачем здесь диван? Привез из магазина – и поставил. Разве так делают? Интерьер – это философия жизни, а мы думаем: чепуха – наплюхаю как попало! Ну, не умеем! Французы молодцы: раковинку положат на столик, вазочку поставят на буфет – пустяк, а глазу приятно. Я, когда в командировке, специально хожу, присматриваюсь. Туда пучок сухой травки повесят, сюда коврик – и все словно невзначай, что значит искусство. Нет, не все так просто! Вы интерьером не думаете заняться?
Соня подтвердила предположение Германа Федоровича; именно курсы интерьера и собиралась она посещать в следующем семестре в Сорбонне.
– Очень мудро. Интерьера-то нам и не хватает, Сонечка. Вы сперва у Димочки порядок наведите, а потом я вас к себе, в холостяцкую берлогу зазову – на помощь. Вкус, вкус нам требуется! Вот, допустим, на ту стенку что порекомендуете? – И Басманов принял Соню под локоть, провел по комнате, – ваше, парижское, мнение? Коврик бамбуковый? Что-нибудь беспредметное, да?
– В белых тонах, – сказала Соня, польщенная вниманием пожилого спикера, – небольшую вещь, и желательно в белых тонах.
– В точку! – серьезно сказал Басманов. – Сюда хочется чего-то беленького, неброского. Вот искусство интерьера! – воскликнул спикер. – До каких тонкостей доходит! И хочется предмет поместить, а вместе с тем надо, чтобы он был незаметный. Я весь вечер на эту стену гляжу и думаю, но решил еще и с парижанкой посоветоваться.
– И желательно, – прищурилась Соня и на шаг отступила, оглядывая гостиную, – шторы сменить.
– Вот он, Париж! – восхитился спикер. – Пришла – и все увидела!
Соня поискала глазами Кротова, пусть Дима будет свидетелем ее триумфа, но встретила совсем иной взгляд – насмешливый взгляд стриженой красавицы, стоявшей за спиной Сони. Одета красавица была безукоризненно, пахло от нее исключительно, а Сонины реплики о шторах и ковриках слушала она, склонив голову набок, снисходительно и насмешливо.
– Какие шторы предложите? – спросила красавица. И голос у нее был особенный, значительный голос. – Вы еще в прихожую загляните, там, кажется, обои надо сменить.
Сказано это было небрежно, но роль Сони сразу изменилась: не хозяйка, не парижанка, дающая советы, но прислуга, чье занятие – менять обои в коридоре. Сколько же зла бывает в людях, подумала Соня, ну что я ей сделала, дамочке этой? Соне понравились гости, примирилась она и с толстым банкиром Щукиным – в конце концов, это же ему не хватило роз и устриц, можно его пожалеть. Вечер омрачало лишь присутствие стриженой красавицы в деловом черном костюме, пришедшей на общее собрание позже других. Кротов выбежал встречать красавицу в прихожую, налил вина, подвинул кресло. Красавица грациозным жестом приняла бокал шампанского, но пить не стала, ходила меж гостями, отставив руку с бокалом, и все смотрели, как изящно выгнуто запястье, как длинны пальцы, как увлечена она беседой – даже и не подумает пригубить вино. Зачем Дмитрий с ней мил, думала Соня, разве это так необходимо? А она, как не стыдно ей так выгибать шею, так зазывно смотреть. Ведь видит же она Соню и не стесняется. Стриженая красавица вела себя так, словно была единственной женщиной в комнате и все мужчины должны были смотреть на нее. Как же можно так? И у самой есть спутник, тут же, рядом с ней сидит, что ж, мало ей мужского внимания? Постыдилась бы своего кавалера, для чего и с этим мужчиной кокетничать, и с тем? И Баринову взгляды посылает, и тому толстому. Дима подошел к ней раз, подошел два, глаз от нее не отводит – как же так? Соня поняла, что ей придется научиться не ревновать Кротова: человек, окруженный вниманием, он по должности должен быть любезен с дамами. Кротов объяснил Соне, что стриженая красавица, Юлия Мерцалова, важное лицо в газете «Бизнесмен» и присутствие ее на собрании желательно. «Она писать будет в газету?» – спросила Соня. «Что ты, – сказал Кротов, – она не журналист. Скажет кому надо, напишут. Она общее направление видит, решения принимает». – «А Баринов тогда что же?» – «Ну как тебе объяснить? Баринов – владелец. Возьмем, скажем, парламентскую ситуацию: вот перед тобой Герман Федорович, он у нас председатель, спикер. Но кто дела делает в парламенте?» – Дима замолчал, не желая хвастаться. «Ах, неужели я не понимаю, Дима? Значит, и она такая же?» – «Серьезный человек, – подтвердил Кротов. – А что красива, так это делу не помеха, напротив. Ей возражают реже: разве станешь спорить с такой улыбкой? Видишь, – сказал Соне Кротов, – и положения она добилась, и не стала, как некоторые дамы из парламента, мужиком в юбке – себя блюдет». В словах Кротова Соня почувствовала упрек – мол, некстати ты со своей ревностью, лучше посмотри, какие деловые женщины бывают, поучись. И Соня постаралась подавить в себе неприязнь к стриженой красавице, но ничего не получилось. Другое дело Алина Багратион, пожилая кокетка, – вот к ней точно ревновать не стоит. Ей, наверное, лет шестьдесят, а все кокетничает, это даже забавно. Она здесь же, в этом же доме живет, пришла по-домашнему, одета в кимоно с драконами, по-соседски расцеловалась с Димой.
– Димочка, – сказала полная дама в кимоно, – дай на тебя полюбоваться. Какой ты важный стал.
– Вырос, – сказал Басманов, – возмужал.
– Как, свалите Тушинского?
– Обойти нас хочет на повороте, демагог. Ничего, у нас тоже козыри найдутся.
– Если вы имеете в виду, – сказала стриженая красавица, – мое издание, то должна вас разочаровать: мы не принимаем участия в борьбе.
– Вы здесь как наблюдатель, – умилилась дама в кимоно, – вы за ними наблюдаете, а они вами любуются!
И две дамы, пожилая кокетка и молодая бизнес-леди, расцеловались.
– Что за кимоно! Живанши, если не ошибаюсь?
– А у вас Ямамото?
И смотрели друг на друга умиленно, и трогали одежду друг друга в восхищении. И перемещались гости по гостиной, и к каждому подходил Дмитрий Кротов, и шла работа.
– Цель наметили великую. Собрать партию, объединяющую все партии, – вот главное дело. А название изобретем, долго ли? «Единая правда» – как, недурно? Или, допустим, «Вперед, Отечество!». И такая партия получит большинство в парламенте и станет формировать правительство из проверенных, порядочных людей. Скажем авантюризму – нет! Можно ли политику пускать на самотек? Мы будем – надо прямо заявить – контролировать власть.
– Парламентская республика? А президента побоку?
– Мы его тоже примем в партию. Пусть сотрудничает. Ну, разумеется, он в курсе наших планов, для него партию и готовим. А то что же получается? У Тушинского партия есть, а у нашего президента совсем никакой партии. Это разве честно?
– Давайте поинтересуемся, что Луговой думает?
– Иван Михайлович, – сказала полная дама в кимоно, – принципиально не вмешивается.
– Без начальства разберемся, нам указы не нужны, – Басманов подмигнул собранию. – И мне бы, строго говоря, в стороне надо отсидеться, не удержался, пришел! Не выдавайте старика! – И сверкнули золотые коронки, и дрогнули вараньи складки на шее; так он смеялся. – Какой из меня политик: пришел посмотреть, как молодые дела делают!
– Бросьте, Герман Федорович, молодым у стариков есть чему учиться, – это депутат Середавкин сказал. Он сидел на мягком диване подле Юлии Мерцаловой и Павла Рихтера и говорил так:
– Так вы, значит, Рихтер? Соломона Моисеевича внук? – депутат Середавкин привлек Павла, задержал его руку в своей. – Обязательно передайте, что ничего не забыл и благодарен за уроки! И на лекции вашего уважаемого деда ходил, но особенно помню выступления его матери – Иды Яковлевны Рихтер. Ведь какой оратор: зал ей стоя хлопал! Настоящая коммунистка – не то что продажные брежневские ворюги! Какая страсть! – И волнение обозначилось в утиных чертах депутатского лица. – Испанскую войну прошла, активистка! И ничего для себя! Все – людям! Мы, молодежь, – сказал депутат Середавкин, именуя этим словом себя и своих сверстников в те далекие пятидесятые годы, – с нее пример брали. Я считаю, что возрождение правового сознания началось с них – с коммунистов-коминтерновцев. Сталин, – закручинился Середавкин, – их расстреливал. Но те, что уцелели, дали урок стойкости.
– Никогда не поверю, что вы коммунист. – Юлия Мерцалова улыбнулась своей чарующей улыбкой – и Середавкин вернул ей улыбку: ну как вы могли подумать?
– Полагаю, – сказал депутат Середавкин, – что мне, громившему коммунистов в первые годы перестройки, мне, голосовавшему за вынос Ленина из Мавзолея, нет нужды доказывать, что я не коммунист. Ненавижу марксистскую демагогию! Мы вынуждены были прятать свои убеждения, говорить эзоповым языком. Я работал в журнале «Проблемы мира и социализма» – был в советской Праге такой оазис вольнодумства. Мы верили, что придет социализм с человеческим лицом, – и депутат Середавкин наморщил свое утиное лицо ироническим образом, повествуя о былой наивности. – Да, лучшие кадры интеллигенции ковались там: Потап Баринов, Савелий Бештау, Михаил Горбачев – лидеры перестройки вышли из пражских бесед! Пусть то, что нас окружает, думали мы, фальшиво, но ведь были же бессребреники! Были не сломленные Сталиным утописты! Значит, надежда жива! Как мы спорили! До хрипоты! Нет, – закончил исповедь Середавкин, – я от прошлого не отрекаюсь. Так и передайте вашему деду – чту его матушку и уважаю ее убеждения!
– Помним и чтим! – сказал Басманов, – и на пример равняемся. Так, молодой человек, и скажите вашему деду: не подкачаем!
– «Проблемы мира и социализма», – подтвердила Юлия Мерцалова, – и «Новый мир» – начало положено там.
– За ними – «Европейский вестник» и «Актуальная мысль»! Знаковые имена! Бренды демократии! И ваша газета, – подхватил галантный Середавкин, – стала синтезом традиций. Кстати, собираюсь программную статью предложить. – Середавкин придвинулся ближе к Мерцаловой и принялся обсуждать с ней фамилии, мнения, рекламу партий – то, что было интересно обоим и что Павел старался не слушать.
После беседы с депутатом Мерцалова направила свой легкий шаг в сторону банкира Щукина, заговорила с ним. И Соня с неприязнью смотрела, как стриженая красавица заставляет рослого важного человека возбужденно смеяться, переминаться с ноги на ногу, делать размашистые жесты руками. Что же, разве совести у нее нет, думала Соня. И с одним она кокетничает, и с другим. Смотреть противно.
Павел Рихтер тоже глядел на эту сцену без удовольствия. Всякий раз, как выезжали они с Юлией в публичные места, он превращался в спутника светской красавицы и ревниво следил за ее улыбками.
– Хороша наша Юлия, – сказал голос за его плечом, и Павел повернулся. Говорившим оказался дизайнер Валентин Курицын, и был он сильно пьян.
– Хороша! И одевается как! Ни одной ошибки!
Павел с изумлением глядел на пьяного дизайнера.
– Здесь Гуччи. Тут – Дольче и Габбана. Туфельки – Прадо. Правильная женщина.
Павел не нашелся что сказать.
– Мне, знаете ли, тоже есть что показать! – и дизайнер распахнул пиджак, предъявив ярлык на подкладке. – Эмерджильо Зенья! Недурно? А брюки – Донна Карен!
Павел отвернулся, но дизайнер тронул его за плечо, привлекая внимание.
– Ботинки – Хьюго Босс!
Павел пошел прочь, а Курицын бросил вслед еще одну реплику:
– Носки – Версаче!
«Сам виноват, – думал Павел. – Если бы я женился на ней, то не было бы этого двусмысленного положения, когда комичный человечек обсуждает со мной ее наряды. В самом деле, для чего так много внимания отдано тряпкам? И столько сил – общению с прохвостами? Но что же остается ей? Она должна утверждаться, ей нужно стать незаменимой в профессии, раз самолюбие ее уязвлено. Она обижена мной – и хочет утвердиться в своем деле. Я сам заставил ее искать признания у банкиров и дизайнеров, не на кого мне жаловаться». Он говорил себе эти разумные слова, и однако против воли в нем поднималась неприязнь к Юлии, к ее работе, к стилю жизни этих людей. Павел уверял себя, что сам присутствует в светских гостях только как свидетель – для того чтобы запомнить детали и нарисовать. Он начал писать картину «Бал воров» и запоминал типы лиц для картины.
VII
Собеседник Сони Татарниковой отстаивал сходную позицию – он тоже видел себя как свидетеля неправедного мира.
– Я скажу тебе, – продолжал другой мальчик, – почему в Древнем Риме преследовали христиан. Они всем этим сенаторам и патрициям были как укор, как лишний свидетель.
Соня прожила под одной крышей с профессором Татарниковым слишком долго, чтобы не знать простых вещей. Сергей Ильич за рюмкой водки не раз обсуждал римскую историю.
– Между прочим, – сказала Соня, – готы, которые Рим разрушили, как раз и были христианами. Ты до этого места еще книжку не дочитал? – и другой мальчик покраснел. И, поставив собеседника на место, Соня словно взяла реванш у той стриженой красавицы. Полюбуйся, словно сказала она ей, не только обои менять умею – я про древнюю историю все знаю. «Жалко, эта дамочка не видит, – подумала Соня, – любопытно бы у нее спросить про Древний Рим. В следующий раз именно так и надо поступить. Она мне про обои, а я о чем-нибудь историческом спрошу. Вы, кажется, в газете работаете? Наверное, знаете много. Никогда не интересовались…» – и Соня задумалась: что бы такое у дамочки спросить, чтобы сбить спесь?
С перекрестка просигналил автомобиль, это шофер Кротова, которого заботливый Дмитрий прислал встретить Соню, давал знать, где он остановился. Соня обратила внимание, что на этот раз автомобиль был личный – светлый «мерседес»; служебная машина у Кротова, разумеется, была черной. Автомобиль погудел раз, потом другой, потом шофер опустил стекло, выглянул, помахал фуражкой.
– Сливки общества, – желчно произнес другой мальчик, глядя на автомобиль, – Как говорят американцы, cream of society. Самый сладкий крем общества. А самый сладкий крем собирается в Кремле, поэтому он так и называется – Кремль, – и мальчик засмеялся шутке и забыл о своей ошибке в истории. – Кремовый автомобиль не за тобой приехал? Знаешь этого цуката в фуражке?
Соня ответила не сразу, подумала. Но все-таки ответила отрицательно.
– Мало ли кому он сигналит, – сказала Соня. – Теперь у многих машины.
– И личные шоферы у многих, – сказал другой мальчик.
– Если хочешь знать, это действительно так.
Они прошли еще немного, а машина медленно ехала за ними, деликатно притормаживая, если они останавливались.
– Видишь, следят, – сказал другой мальчик, – не отстают.
– Тебе везде опасность мерещится. Я думаю, все остальное обойдется так же, как с этим автомобилем.
– Ты что имеешь в виду? Судьбу России?
– Нет, твою работу и все эти страхи.
– Из газеты меня скоро выгонят. Баринов раз в месяц одного сотрудника выгоняет, чтобы другие лучше трудились.
– Я могу устроить так, что с Бариновым поговорят. У меня есть знакомые, – сказала Соня, – которые могли бы на него повлиять.
– Снимут телефонную трубку – и посоветуют? Скажут: есть мнение – не надо обижать Колобашкина. Или пришлют кремовое авто с шофером. А шофер передаст письмо в кремовом конверте.
– Примерно так. Может быть, тебе стоит сменить отдел. – Соня научилась видеть вещи реально, решать конкретные проблемы быстро. – Иди в отдел светской хроники. Там надо писать про богачей, но с юмором. Вот ты и будешь их вышучивать.
– Нет, спасибо. Я про них даже думать не хочу.
– Россию продали, да?
– Продали.
– Тогда попробуй про искусство писать. Художники чем плохи?
– Не хочу я про них писать. Они богатым бассейны расписывают, а обычную публику дразнят. Штаны снимут и голым задом крутят.
– А ты бы хотел, чтобы бедным бассейны расписывали?
– Нет у бедных бассейнов, вот беда. Расписывать нечего. Нет, в отдел культуры я тоже не пойду.
– Тогда уйди из газеты. Знаешь, ты мог бы работать в предвыборном штабе какого-нибудь политика. Найдем партию, чтобы она о простых людях заботилась, – демократическую партию, либеральную. Программа хорошая, я думаю, тебя раздражать не будет.
– А я думал, они только богатым хотят жизнь наладить.
– Что ты! Они всем хотят хорошо сделать.
– Стать агентом по связям с общественностью?
– Разве плохая работа?
– Не выйдет у меня ничего. Я насмотрелся на этих агентов по связям с общественностью – интервью у них брал. Проходимцы и сволочи. Зарплата одного агента в сто раз больше, чем у ста бабок, которым он рассказывает про равенство. Они устраивают деловые завтраки с банкирами, а на обед у них постное меню, потому что летят в провинцию – работать с избирателями. Зато уж за ужином они берут свое: идут в ресторан с иностранными инвесторами стерлядь кушать.
– И это тебе не по душе.
– Не по душе.
– И ничего другого найти тоже не можешь.
– Нет ничего другого.
– Вижу, – сказала Соня весело, – не удалась у тебя жизнь.
– Бывает лучше.
– И тебе все время очень обидно, да?
– Иногда очень.
– А скажи мне, – спросила Соня с обычной своей улыбкой, крупнозубой, задорной, – скажи, почему ты все время жалуешься? Если ухаживаешь за девушкой, постарайся показать, какой ты сильный и смелый, чтобы ее заинтересовать.
– Не надо, – сказал другой мальчик, – мной интересоваться.
– Я думала, – сказала Соня, – что, когда любишь человека, хочешь быть ему интересен.
– А я тебя не люблю, Соня, – неожиданно сказал другой мальчик; он сам удивился, как это сказалось, он не собирался так говорить, – я совсем не люблю тебя. Я смотрю на тебя, как ты глазами двигаешь и улыбаешься, и мне теперь все равно. Это раньше мне хотелось что-нибудь такое сделать, чтобы ты улыбнулась и я опять увидел, какая у тебя ямка на правой щеке. А теперь мне не нужно. Я даже стыжусь того, что тебе в любви объяснялся, я бы хотел, чтобы того дня и не было вовсе. Я сказал однажды, что тебя люблю, а ты мне не ответила, засмеялась. Помнишь? Ты уверена была, что я всегда буду под рукой. А я и был всегда под рукой – как песик дворовый. Его погладят, ему и счастье. Его прогонят, он понимает, что заслужил. Его в дом не берут, а колбасные обрезки в газетку завернут и кинут песику – если, конечно, настроение, подходящее для благодеяний. Ты со мной погулять сходишь, послушаешь, как я на жизнь жалуюсь, – и пойдешь к тем, с кем интереснее, кому жаловаться не на что. Ты теперь ходишь к этому дядьке, Кротову, я знаю. Думаешь, я не знаю? Журналисты все знают, у них работа такая. Кротов – это с плешью такой дяденька, правда? Губки бантиком и лысина розовая. Он в большом сером доме живет, над прудом, мне говорили. Его с охраной возят, в машине с мигалкой, потому что он прогрессивный политик. Он министром будет. Он к нам в газету наезжает, к Баринову – большую политику обсуждать. Он же вор, Соня, как все они, такой же вор. Ну что ж, тебе как раз такой и нужен, Соня. Ты не обижайся, я тебя обидеть не хочу. Зачем тебе на меня обижаться? Кто я такой? У меня и родственников интересных нет, и знакомых богатых нет. И мать у меня необразованная. Ты без меня обойдешься, Соня. Но знаешь, и я без тебя обойдусь. Я любить тебя больше не стану, Соня. Я тебе вот что скажу, Соня. Я вам всем всегда буду – враг. Я вам всегда буду чужой. И я хочу быть вам чужим, я ни за что не стану таким, как вы. Я – другой. Я всегда останусь другой. И вам всегда, всегда, всегда будет страшно оттого, что я есть. Вы будете жить в своем богатом доме, и ездить на кремовых машинах с мигалками, и ходить в дорогие рестораны, и смотреть альбомы с фотографиями родни – а счастливы вы не будете. Вы будете всегда знать, что я смотрю на вас со стороны – и презираю вас, и вам никогда не будет спокойно.
– Ты не имеешь права так со мной говорить, – ответила Соня ровным голосом; порода отца сказалась в ней – она не выказала волнения, только оскалила крупные зубы и сверкнула черными глазами, как Тофик Левкоев, когда случалось ему отдавать какое-либо строгое распоряжение, – я тебе повода не давала. С чего это ты, друг милый, вообразил, что я тебе подотчетна? Если на что надеялся, так это твоя проблема, а я здесь ни при чем.
– Нет, – отчаянно крикнул другой мальчик, – нет, я поверил тебе! Я надеялся на тебя! И ты знала это! Мы вместе росли, одной жизнью жили, а потом ты меня предала – а себе сказала, что тебе просто повезло. Думаешь, тебе есть прощение? Теперь иди прочь, иди к ним! Вас все примут, везде будете ко двору, но ты знай, что мне – мне ты не нужна. Я для вас – ничто, меня в расчет не берут, мое мнение для твоих ворюг немного стоит, но ты всегда будешь знать, что мне, именно мне, ты не нужна.
– Ты сам, ты сам к нам придешь, сам просить будешь! – Она повернулась и побежала прочь, к машине, а шофер распахнул ей дверцу.
– Ведь добра ему хотела, помочь хотела. – И Соня откинулась на кремовое сиденье, и машина тронулась рывком, как любил Кротов, с места беря разбег. – Заботилась о нем, – и вдруг голос сорвался, взвизгнул, и Соня заплакала. Шофер увидел в зеркало, как скорчилась она на сиденье, и услышал жалкий, тонкий, долгий вой.
27
До того как приступить к работе над картиной, художник должен проделать работу над собой. Иконописцы постились и шли к исповеди перед тем, как взяться за кисть. Они надевали чистые рубахи, словно сама техника живописи не грязна.
Леонардо и его современники оставили довольно указаний, регулирующих поведение художника. Эти правила основаны на том, что стиль жизни художника обязан соответствовать тому, что он изображает. Художники Возрождения выглядели за работой столь же торжественно, как священники или музыканты.
В дальнейшем появилось много примеров, опровергающих этот стереотип. Авантюры Челлини и Караваджо смотрелись революционно на фоне строгих правил, но они померкли рядом с богемной жизнью дадаистов. Для последних уже не было сомнений – художник должен выглядеть необычно, шокировать публику. Что касается современного творца, то наличие грязного свитера, употребление наркотиков, пьянство и несимпатичное поведение стали столь же необходимыми характеристиками его, как в Средние века – чистота рубахи и строгость поведения. Можно сказать, что приметой цеховой принадлежности стал нездоровый образ жизни.
В двадцатом веке художники пришли к прагматическому выводу: коль скоро искусство – работа грязная и краски имеют свойство пачкать, не имеет смысла соблюдать чистоту. Труд наш тяжел, мы не скрываем профессии. Парадоксальным образом именно техническая сторона живописи занимала в двадцатом веке крайне небольшую часть работы. Для того чтобы покрыть холст пятнами, требуется меньше усилий и времени, чем для того, чтобы написать «Джоконду» или «Сдачу Бреды». Однако, сравнивая внешний вид Джексона Поллока и Веласкеса, можно прийти к выводу, что именно Поллок тяжело трудился, а Веласкес отдыхал.
Разница в облике этих двух типов художников вызвана простым обстоятельством.
Сам факт изображения предмета на картине удостоверяет ценность этого предмета. Художественный образ по природе своей – явление положительное. Художник пишет то, что ценит и любит, или, во всяком случае, он пишет ради того, что он любит. Даже когда Босх изображает мучителей Христа, Брейгель – торжество смерти, а новгородский иконописец – ад, они делают это не ради прославления ада, мучений и смерти. Напротив, они пишут дурное, чтобы обозначить опасность и ее преодолеть. Цвета и формы принадлежат не бесам, но чистому сознанию, что призвано бесов победить. Контрапунктом творчества является тот положительный образ, наличие которого делает победу возможной. Поэтому любой изображенный объект (лицо, дерево, стакан, пейзаж) есть свидетельство ценности мироздания. Если данное правило (объяснение в любви к изображаемому предмету) не соблюдать, картина не состоится – художественный образ есть сконденсированная любовь. Соответственно, художник должен соблюдать в самом себе эту гармонию. На тех же основаниях, на каких он не пользуется грязной кистью для того, чтобы писать лазурное небо, он не может допустить в себе неряшливости и моральной нечистоплотности.
В том случае, если любовь не считается достойной целью, если мастер занят разрушением образа, а деятельность его направлена на уничтожение гармонии, блюсти личную гигиену не имеет смысла. Найдутся посредники, которые истолкуют его творчество применительно к общественным нуждам: например, скажут, что гармония разрушена во имя свободы. Этим посредникам придется соблюдать правила общественного поведения, но мастеру деструкции это не обязательно.
Наука рисования имеет отношение только к созданию образов. Для того чтобы уничтожать образы, учиться не следует. Напротив, воспитание и знания могут стать помехой: чем распущеннее персонаж, исполняющий обязанности художника, тем больше шансов у него произвести нечто шокирующее толпу.
Художнику следует выбрать, какой системе взглядов он отдает предпочтение. Тот, кто решил учиться рисовать, должен вести себя прилично.