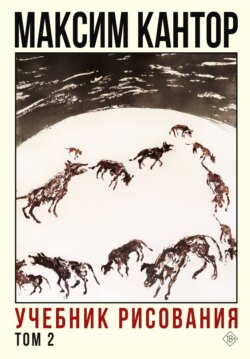Читать книгу Учебник рисования. Том 2 - Максим Кантор - Страница 7
Часть третья
Глава 27
Мертвая хватка праведников
ОглавлениеI
Переживать есть профессиональное занятие интеллигентов. Конечно, после того как отменили классы, возможность переживать появилась и у других людей, но все же интеллигентам это удается лучше прочих. У них по-прежнему на переживания отводится значительно больше времени, чем у тех, кто занят на производстве. Их род занятий предполагает внимание к чувствам, склонность к анализу, умение отдаться страданию. Если бы участники вышеописанных событий работали в поле, водили поезда или служили в сберегательной кассе, то времени, отпущенного на переживание, у них бы сильно поубавилось и сил на переживания было бы меньше. Но их жизнь, так как она сложилась, оставляла возможность для сильных чувств. Скажем, Соломон Моисеевич переживал бурно и много. В семействе Рихтеров способность переживать культивировалась – и Павлу эта способность перешла по наследству, уже доведенная многими поколениями до совершенства. Обыкновенно член семьи Рихтеров ложился на диван (или садился на стул у окна) и начинал переживать: ему теснило грудь, у него кружилась голова. В такие минуты переживающий субъект припоминал всю свою жизнь, возвращался к своим грехам, корил себя, углублялся затем в исторические аналогии (поскольку случившееся с ним происходило в определенном контексте), старался сделать вывод общего характера. Как правило, целью таких сеансов переживания было примирение с положением дел – отменить реальность было затруднительно, вечно корить себя было нелепо, а экскурс в историю обнаруживал закономерность происходящего. Можно сказать, что Рихтеры научились обращаться с переживаниями с той же легкостью, с какой шофер обходится с гаечным ключом, а столяр – с фрезеровочным станком. Существовал ряд приемов, которые применялись автоматически: в философской терминологии этот метод описывается как восхождение от конкретного к абстрактному. Когда же наступает момент возвращения к реальности, то это происходит уже на ином, умудренном этапе. Не последним делом для переживающего является потребность поделиться переживаниями с окружающими, их должно поставить в известность как о мучительном процессе осмысления бытия, так и о том, что в конце концов выход найден и им, окружающим, определено соответствующее место. Если возникали споры и проблемы, Соломон Моисеевич говорил внуку так:
– Ты должен знать, что я пребываю с осадком неприятного чувства, да, крайне неприятного, тяжелого чувства.
– Мне очень жалко, дедушка.
– Да, во мне осадок тяжелого чувства. Кхе-кхм. Безусловно, так. Остался осадок.
– Как жаль.
– Мне это доставляет страдания. Думаю, тебе нужно об этом знать.
– Я надеюсь, пройдет.
– Я ставлю тебя в известность о том, что чувствую. Надеюсь, мои ощущения тебе небезразличны. Да, мне тяжело.
– Я сочувствую, дедушка, и, надеюсь, тебе скоро станет легче.
– Сомневаюсь. Полагаю, это отразится на самочувствии. Кхе-кхм. Самым негативным образом отразится на самочувствии.
– Надеюсь, нет.
– Некогда, – говорил Рихтер, если переживания были вызваны несогласием в споре, – мы были единомышленниками и ты слушал меня открыв рот. Да.
– Мне жаль, если я не согласен сегодня.
– Что ж, ты, вероятно, готов смириться с тем, что мне тяжело, – говорил Соломон Моисеевич, затем он думал о мировой катастрофе, о тупике истории, о сумерках цивилизации, и ему делалось лучше.
Соломон Моисеевич Рихтер без затруднений переходил от сумрачного состояния духа (вызванного ссорами с Татьяной Ивановной, отчуждением внука, поведением невестки, косностью окружения) к состоянию просветленному, стоило ему объяснить грубости быта историческим кризисом. Это не значило, что к переживаниям он относился легкомысленно. Случалось, он отдавал переживаниям некоторую часть дня и сильно страдал, но способ преодоления страдания имелся: стоило задуматься о человечестве, и делалось легче. Эту способность переживать – а равно и преодолевать переживание – унаследовал Павел. Главным же, что он унаследовал, была высота цели, историческое предназначение страдающего человека.
Павел Рихтер убедил себя, что прежде всего надо быть художником – а уже потом мужем, сыном и внуком. Он думал, что если сумеет стать независимой личностью и крупным художником, то это разом решит все прочие человеческие обязательства. Главное обязательство, думал Павел, у меня перед всеми людьми сразу, а не перед теми несколькими, которые получили на меня права. Если я выполню тот, главный долг, то и маленький долг окажется тоже уплачен. Почему так должно получиться, он объяснить не мог, но чувствовал, что это единственный выход: надо сделать что-нибудь для всех сразу, и то плохое, что он сделал некоторым, пройдет само собой, так само выйдет. Другие люди, те, которым он должен отдавать любовь и не отдает, увидят, что он много сил вложил в искусство, – и будут счастливы. Им даже, возможно, покажется, что любви и внимания у них всегда было вдоволь, раз Павел такой хороший художник. И все неловкие ситуации разрешатся сами собой, и все обиды пройдут, и ложь перестанет быть ложью, раз он так хорошо и правдиво рисует. Лиза страдает, и ей плохо, но вот она увидит и поймет, что Павел творил для всех – и ей тогда станет хорошо. Надо только обязательно не лгать в искусстве, думал Павел. Надо до конца договаривать всю правду, каждой линией. Надо в искусстве работать сразу для всех людей, говорить общую правду (он не говорил себе фразы, что надо говорить общую правду тем, кому лжешь, и тем, кому не лжешь, эта фраза прозвучала бы цинично), и тогда не останется обиженных. А то, что я лгу в жизни, это плохо, это мучительно, но это может быть преодолено творчеством. Нужно освободиться от этого постылого чувства постоянной вины – стать свободным и работать.
II
По капле выдавливать из себя раба, как страстно выразился один русский мыслитель, было первейшей заповедью всякого мыслящего человека в России. Кого из интеллектуальных людей ни спроси, а что, мол, вы делаете, в чем состоит предмет ваших занятий, – всякий ответит: выдавливаю из себя раба, по капле, разумеется. Целиком, в один раз, не выдавишь, приходится выдавливать понемногу: каплю сегодня, завтра – еще одну.
Выдавливать из себя раба, то есть искоренять в себе привычки, установки, всякого рода зависимости и страхи, привитые обществом, – не было цели желаннее. Павел Рихтер, подобно прочим, полагал именно этот путь наиболее достойным. Свобода – то есть состояние, противоположное рабству, – была единственной его целью. И он убедил себя, что это также единственный путь к тому, чтобы преодолеть постыдную ситуацию, в которой он оказался. Поведение Павла было подчинено этой цели. Надо вести себя так – пусть это неудобно и неприятно кому-то, – чтобы полностью изжить в себе раба, чтобы встать над любой ситуацией, в том числе над своей собственной ложью. И он стал говорить себе, что ложь можно выпрямить, если встать на путь преодоления всех условностей вообще, всех лживых правил, всех обманов. Их в жизни достаточно, все вокруг – неверно. Что бы ни делал он, он старался намеренно поступить наоборот принятому положению вещей. Они решили, что так правильно, говорил он себе, они думают, что я должен поступить так, как удобно всем, но я не они, и их решение для меня не указ. Я поступлю по-своему, я не пойду на поводу у их решения. Вы все поступаете привычным для вас образом – от трусости, от родовой потребности к подчинению. Вы так – а я наоборот. И я пройду эту дорогу до конца, и я сделаю так и то, что всем станет ясно: я никогда не врал.
Однако иная мысль все чаще посещала его. Человек есть не что иное, как совокупность других людей – их знаний, их опыта, их привычек и страхов. Выдавливать раба из себя значит производить операцию выдавливания по отношению к другим людям, это в буквальном смысле значит выдавливать нечто из них. Нельзя наперед знать, готовы ли другие к этой процедуре. Свободное состояние одного человека ниоткуда больше не берется, как только из состояния других людей, по отношению к которым один становится свободным. И если выдавливать по капле раба из себя, то куда уходит эта капля рабства? Вещество нематериальное, рабство не может пролиться на землю, уйти в чернозем. Другие, те, которые тебя составляют, с которыми ты образуешь единое тело, напитаются этой каплей рабства, выдавленной из твоего личного существа. И, напротив, из этих других ты выдавливаешь столько свободы, сколько необходимо тебе для осознания себя совершенно независимым. Всякий человек сделан из других людей, и равно выдавливание рабства из отдельного организма, равно и насыщение этого отдельного организма свободой есть процесс, связанный с другими; это действие, по определению, совершается по отношению ко многим сразу. Иначе говоря, свобода не берется откуда-либо еще, кроме как из несвободы других.
Когда Павел смотрел на Лизу, то видел, что чем свободнее становился он, тем менее свободна делалась она: словно было некое отмеренное количество свободы на них обоих, и чем больше свободы он забирал себе, тем меньше оставалось другому. Он делал то, что было совершенно необходимо его статусу независимого человека, чуждого условностей и пустых обязательств. Он поступал так, как было полезно его независимости, – день за днем он последовательно делал так, чтобы любая деталь общего быта, любая условность, обязательная для взаимного рабства, перестала существовать. Однако рабство в принципе не исчезало – оно просто изгонялось Павлом из своего организма, чтобы в большей дозе достаться Лизе; и свободы не прибавлялось – ее было ровно столько же, как и всегда, только вся свобода доставалась ему одному.
Но свобода, полученная одним человеком, не делает человека ни свободным, ни счастливым. И это Павел понял в те годы отчетливо и навсегда.
В те странные годы, в годы, пока он жил с Юлией Мерцаловой, не женясь на ней, и оставался мужем Лизы, не живя с ней, в те годы он успел стать известным художником. Галерист удачно продавал картины Павла, и, несмотря на то что Павел всего лишь рисовал, а не сочинял перформансов и не делал инсталляций, его имя сделалось известным. Его картины стали покупать некоторые европейские коллекционеры и даже некоторые музеи. Павлу требовалось объяснить для себя такой успех и найти оправдание для денег, которые стали платить ему. Павел объяснял это тем, что в большой цирковой программе (а суета вокруг современного искусства напоминала ему цирк) требуется частая смена номеров. Так нужно делать владельцам цирка, чтобы зритель не скучал. Конечно, есть предпочтительные номера, которым отводится первое место, но где-то в программе между акробатами и фокусниками выпускают на арену и одинокого жонглера. Мастерство это передается из века в век, никак не меняется, но публика по-прежнему любит, чтобы подкидывали факелы. Они выпускают меня на сцену, думал Павел, как того жонглера в цирковой программе – заполнить паузу между номерами. Они смотрят мой номер – и тут же забывают его, потому что следом идут дрессированные медведи, потом фокусники распиливают девушку пилой, потом моржи танцуют на канате – кто запомнит жонглера? Но зачем-то им надо, чтобы я кидал предметы, и так совпало, что мне как раз нравится это занятие. Я воспользуюсь этим промежутком между чужими номерами. Павел по-прежнему не любил современное искусство; все реже он встречался с художниками и искусствоведами, его мысли и дни были заняты другим. Он проводил дни в мастерской за работой и считал, что ежедневно делает нечто противное – принципиально противное – современному искусству. И, найдя для себя удобное объяснение своему успеху, он пользовался счастливой привилегией: бранил современное искусство и художественный рынок и прекрасно продавал свои картины. Таким образом, сложилось определенное мнение о Павле: считалось, что он человек замкнутый, расчетливый и неприятный, к тому же морализирующий, к тому же живущий так, как ему нравится, – а именно, двумя семьями, и делающий это открыто. Однажды, проходя по выставочному залу, Павел подслушал разговор молодых художников. Молодые люди находились в том блаженном возрасте неведения, когда искусство кажется очищенным от забот рынка и моды, и кажется, что можно выбрать будущую биографию по вкусу, как готовое платье в магазине. Один из юношей сказал: а вот я бы хотел, как Павел Рихтер. Вот человек устроился: делает что хочет, картины за большие тысячи продает, завел себе три семьи. И все ему с рук сходит. И не зависит ни от кого. Свобода. Другой ответил: а, Рихтер, этот матерый волчина.
Это они про меня говорят, в ужасе подумал Павел, это я устроился.
И вдруг собственная свободная жизнь предстала ему такой, какой и была она в действительности: собранием отдельных неправд, удачно подогнанных друг под друга для удобства употребления. Вот этот набор удобного вранья я и называю свободой, подумал Павел.
Свободы не существует для личного пользования; отдельная свобода не идет впрок. Лишь тогда, когда ты видишь, что другие счастливы и покойны (а это может произойти, если они тоже свободны), тогда и ты можешь полностью наслаждаться свободой. Поэтому стремление выдавить из себя раба и обрести отдельную от других рабов свободу – стремление пустое и ведет к безнадежному существованию.
Неприлично радоваться конфете, если у твоего соседа нет конфеты, непристойно наслаждаться теплом, если твоему соседу холодно, недопустимо быть свободным, если твой сосед несвободен, и невозможно быть счастливым, если твои близкие несчастны. Это простое заключение открылось Павлу только тогда, когда он уже стал взрослым человеком и успел сделать много поступков, нарисовать много картин и всю свою сознательную жизнь до того посвятить (как считал он сам) борьбе за свободу. Чем более свободен ты сам, отдельно от прочих, – тем более зависимы они, и зависят они с момента твоего освобождения от общих обязанностей именно от твоей свободы. Счастье и несчастье Лизы зависело от того, что решит свободный человек Павел, и каждым моментом своей свободы Павел делал ее зависимость все более жестокой. Значит, свобода одного человека может осуществляться лишь в ущерб свободе многих, и называется эта свобода – властью. Так и происходит, когда один человек освобождается от обязательств перед другими, а те еще не чувствуют себя свободными: именно в этот момент то чувство независимости, которое было целью, переходит совсем в иное чувство – в чувство власти.
Если бы все люди могли стать свободными одновременно, думал Павел, если бы каждый, именно каждый из них вдруг ощутил прилив сил и права – сделало бы это возможным счастье одного свободного человека? Да, только так – освободиться всем и сразу, так надо сделать: и разве отдельный человек, провозглашающий себя независимым, он становится примером для остальных? И Павел не знал, что ответить. Во-первых, он не мог представить себе, что Лиза захотела бы быть свободной от своих обязанностей, – не было у Лизы таких желаний; во-вторых, если бы все сразу освободились от привычных законов и обязательств, то что тогда представляла бы из себя отдельная свобода – от чего она бы освобождала? Именно наличие многих несвободных делает отдельную свободу возможной; именно желание отъединить свою волю от других воль и есть желание свободы. Те, другие, они будут пребывать в цепочке связей и взаимном контроле, но твоя отдельная воля эту цепочку разорвет. И в этот самый момент ты сделаешься превосходящим их по возможностям и волеизъявлению и, значит, обретешь власть над ними. И твоя власть (твоя свобода) никогда не будет им, другим, во благо, потому что если они все также ощутят себя независимыми, тогда и твоя свобода перестанет существовать, а значит, ты этого никогда не допустишь. Если бы зависимости от воли другого изначально не было никакой, то не было бы потребности в свободе. Но – и эта мысль все настойчивее возвращалась к нему – не является ли ошибкой противопоставление зависимости и рабства – свободе? Возможно, слово и понятие «свобода» (а стало быть, и стремление к таковой) употребляется здесь неточно. Разве именно свободу обретает человек, вырываясь из цепочки зависимостей? Он обретает власть, и, значит, то, что мы называем борьбой за независимость и свободу, есть борьба за власть. Именно власть и противостоит зависимости и рабству, а свобода здесь ни при чем. Свобода – это нечто иное, совсем иное, и вряд ли можно сказать, что человек освободился, если он обрел возможность не участвовать в долгах и обязанностях закабаленных ближних.
Значит, все, что делалось им для освобождения себя от общей морали и общих обязанностей, не принесло ему никакой свободы, а принесло только стыд. Он не стал счастливее оттого, что поступал так, как хотел, и делал то, что другие не разрешили бы себе делать.
Именно властью он наделил себя – властью над близкими, над Лизой, над Юлией, над своими родственниками – над всеми теми, кто теперь зависел от его свободы. Как захочет он, как сложится его решение – решение свободного человека, так и сложится их судьба.
У него развилась привычка придумывать, какая была бы жизнь у него и у других, если бы этим другим он мог и захотел посвятить свою жизнь до конца, безраздельно. Он играл с собой в эту игру от отчаяния и вины: воображал себя стариком, проведшим всю жизнь свою с одной лишь женщиной и на склоне лет подводящим итоги счастливой жизни.
Он думал, какова могла бы быть жизнь его с Лизой, если бы все свое внимание, любовь, которой так ждет Лиза, он отдал только ей и никогда ни единой части от этой любви не взял бы назад. У них будут дети и внуки и честная – это слово болезненно врезалось в сознание – честная старость.
И он думал о том, как сложилась бы его жизнь с Юлией Мерцаловой, если бы все, что он может, он отдал только ей. Время стерло бы обиды и претензии, он забыл бы, что чужие руки, руки многих мужчин, трогали ее, он избавился бы от этого груза памяти – и ее избавил бы тоже.
И он думал о том, как бы сложились его отношения с матерью, если бы он не сердился на нее, а исправно исполнял свой сыновний долг. Разве не хочет он, как это бывало, пока он рос и был еще маленьким, прижаться к ней? Разве нельзя все вернуть в то счастливое нормальное состояние, когда все в отношениях скреплено лишь любовью и доверием и нет задних мыслей? Он не пенял бы ей за былой брак с Леонидом, он вовсе позабыл бы свои претензии к неприятному ему Леониду. В чем же винить ему Леонида? В том ли, что он страстен и красив? Что же мы имеем друг против друга, думал он. Лишь пустые амбиции, связанные с телом, с постелью, с потом и слюной, с материей и тленом – но под этой материей есть душа, и душа нетленна.
Он лежал без сна и все придумывал и придумывал, как бы сложилась и устроилась жизнь, если бы все люди поступились своими телесными амбициями и страстями. Пусть все начнется с меня, думал он, пусть я сумею и найду в себе силы жить и любить беззаветно, не в постели, не телом, не страстями, но всей душой; пусть сумею оградить любовью того, кого люблю, а не ранить.
И чтобы сделать так, то есть выполнить долг (поскольку это и есть долг человека – посвятить себя счастью других), следовало отрешиться от всего, что приносит удовлетворение амбициям. Надо отдавать, а не брать, думал он. Они не должны мне, но я – я им должен. Исполнять долг значило отдать все (так и солдаты исполняют долг) – совершенно все, что есть, то есть время, силы, заботу, мысли – другому человеку.
Он думал о том, как сложилась бы жизнь стариков – Соломона Моисеевича и Татьяны Ивановны, если бы он посвятил свою жизнь их старости. То, что он буквально не может этого сделать, связано совсем не с работой, как он привык говорить, не с тем отнюдь, что он посвятил себя искусству, но лишь с тем, что в его собственной жизни – хаос, и он никогда не свободен от хаоса. Именно то, что он сам лишен дома и семьи, сделало жизнь его стариков беззащитной и жалкой. Разве эту жизнь, разве такую старость они заслужили? Он приводил бы к ним внуков, он выслушивал бы сентенции старого Соломона, он сделал бы так, чтобы его вечно обиженная бабушка Татьяна Ивановна не чувствовала себя более одинокой. Вот тогда (и, к сожалению, другого способа придумать было нельзя), когда он решит, какой из двух женщин надо отдать себя целиком, тогда он сможет разделить заботу о стариках с ней, с этой женщиной, тогда он приведет их общих детей к старикам. Тогда внуки будут радовать их глаз, тогда покой и порядок войдут в их дом. Они все вместе станут пить вечерний чай на кухне – и сделается так, как было в детстве, когда все вокруг было окутано единой безоблачной любовью и никто никого не предавал.
А отец? Он рано начал спорить с отцом, с отцом, который научил его всему, который читал ему книги. Зачем же он делал это? Он никогда не знал бы Шекспира и «Трех мушкетеров», если бы его отец, гуляя с ним по парку, не пересказал ему сначала эти книги. Он вспоминал, как отец везет его в детский сад, и они стоят в тесном автобусе, и отец читает ему «Песнь о Роланде». Однажды, когда Павлу уже исполнилось двадцать лет, ему показалось, что отец его отстал от жизни, не понимает и не видит того, что происходит, что он слишком занят своей философией искусства – а какая может быть философия в практическое время? Тогда было бурное время: авангардные юноши решали судьбы мира и страны, а отец его сидел в библиотеке – и жизнь проносилась мимо него. И Павел смеялся над записками отца, он находил их наивными и устаревшими. И его отец, молчаливый, упрямый, отворачивался, когда Павел и его мать, Елена Михайловна, принимались шутить над его бесплодным писанием. А тогда, когда Павел решил заглянуть в бумаги отца, было уже поздно и обсуждать написанное было не с кем.
Он думал о том, что предательством следует называть уже то, что человек старается уклониться от своих обязанностей – то есть от того, что может радовать его ближнего. Он думал о том, что дороже всего спокойные глаза Лизы, а ее глаза уже никогда не бывают спокойными. Он думал о том, что отдал бы что угодно, лишь бы опять дотронуться до руки отца, чтобы его спокойная сила перетекла в руку Павла. Но руки этой уже не было, и сил взять было неоткуда.
Когда его отец умирал, Павел был в гостях у протоиерея Николая Павлинова. Собрание было исключительно достойным. Предметы спора были увлекательны и казались важными. Он ел и пил, подшучивал над современным искусством, напился пьяным и радовался, что общество просвещенных людей выделяет его и отмечает как человека особенного. Взгляды его на культуру были необычны, он ввязывался в споры, тянулся через стол за бутылкой, подливал в свой стакан, перебивал собеседника, отстаивал свою – и очень яркую – позицию, говорил громко и страстно. Многое из того, что он сказал в тот вечер, он слышал когда-то от отца, просто перефразировал, и ему уже стало казаться, что это он сам так придумал. Никто из гостей не мог равняться с ним остроумием и парадоксальностью – он стал героем вечера. В этот вечер умер его отец – и Павел знал теперь, что умер он именно тогда, когда Павел тянулся за бутылкой через стол, резко и остроумно парировал реплики, применял все те навыки беседы и думанья, которым он обучился у отца. Павел не был буквально виноват в его смерти – он не знал, сидя в гостях у Павлинова, что отец сейчас умрет, но вот отец умер, и сделать ничего было нельзя, и спорить было не о чем.
Когда говорят, что кого-либо жжет стыд, это выражение обычно не понимают буквально; однако стыд именно жжет. В груди давит, делается горячо и душно, хочется и не можется вздохнуть, словно некая жаркая сила пережимает горло – вот что делает стыд. Ты идешь – и не видишь пути, дышишь – и не чувствуешь воздуха. Стыд давил и жег Павла, и непоправимость сделанного ужасала его.
Он привык считать, что человек в состоянии исправить причиненное зло, – но как исправить зло, причиненное сразу многим? Как исправить то, что сделано умершему? Он не может, не может изменить ничего из того, что он совершил в отношении отца – ни одной своей кривой усмешки он не может взять назад. Но разве нельзя исправить то, что сделано в отношении живых? Как это сделать? Если зло сделано так, что, выправляя его в отношении одного, ты усугубляешь его в отношении другого, – как быть? Он понимал, что это именно и есть проявление власти – и уж никак не свободы – распределять и дозировать зло, исправить зло, сделанное одному, а другому сделать еще больше зла. Получалось так, что его независимая свободная сущность распоряжалась другими и делала их ничтожными. О, если бы можно было прожить несколько жизней – и каждую из них посвятить кому-то одному! Но жизнь была одна, большая часть ее была уже прожита. Надо было бы поступить так: разделить свою сущность на много сущностей, на множество отдельных частей, чтобы каждой частью выстроить новую цепочку долгов и зависимостей и уже внутри каждого случая исправлять зло. Ведь можно одновременно заботиться и о Лизе, и о Юлии, и о стариках, и о матери, и еще о ком-нибудь, разве человек – отбросив собственный интерес – не может посвятить себя служению всем? Он не может отдать себя целиком Лизе – а если сделает так, то разрушит все, что связывает его с Юлией; он не может и не хочет отдать всего себя Юлии – а если он сделает так, то не сможет вовсе заботиться о Лизе. Не следует ли считать тогда, что его воли, его отдельной свободы не существует более; пусть уйдет она, эта обретенная им власть. Он перестанет существовать как единое целое, но отдаст себя другим, разорвет на части, разнимет единую сущность, и пусть не будет его больше, но не будет и бед, причиненных этой властной свободной личностью.
Довольно ли будет им одной лишь части меня?
Мы отдаем ближним только часть себя, думал он, и то, насколько велика эта отданная часть, какая именно это часть от целого, сказать никто не может. У иных – а я встречал таких людей – само целое не особенно велико, поэтому и та часть, какую они могут истратить на заботу о ближних, невелика. Люди привыкли к тому, что имеют мало и отдают мало, и многого люди не просят; так повелось, что для внимания к другому расходуется небольшая часть, и довольно того. И никто их не может упрекнуть в этом – у них просто получается так, а иначе не получится. Более того, уж если решено, что для заботы о другом выделяется только часть сущности, то никто не может упрекнуть, что ты выделяешь одну часть для одного, а другую – для другого: мало ли на сколько частей можно разрезать один пирог? И никто не может знать, какого размера этот целый пирог – то есть ты сам, твоя сущность, – этого не можешь знать даже ты, потому что трудно собрать воедино те части (пусть небольшие, но их нарезано было много), которые ты отдал другим. И если твоя сущность богата, думал он, не значит ли это, что она может быть истрачена на очень и очень многих, что этот пирог можно нарезать бесконечно? И в те минуты, когда он хотел успокоить себя и найти оправдание себе, он вспоминал притчу о пяти хлебах, коими было накормлено много тысяч людей. Не говорит ли это о том же самом?
И однако – в этом рассуждении помогало простое геометрическое воображение – хлеб невозможно нарезать на тысячу частей, как тонко ни режь. Хлеб можно раскрошить – разъять на тысячи крошек, но будет ли довольно одной крошки для пищи? Вряд ли столь малый кусок, одна крошка хлеба, смогла бы насытить человека. И вряд ли, думал он, такой уж большой прок получают другие люди от того, что малая часть тебя вовлечена в их жизнь. Не может быть, чтобы от маленькой части целого существа была польза. Ведь то чувство, которое вовлечено в заботу о другом, мы называем любовью – а разве любовь можно делить на части? Разве существует мера любви? По всей видимости, притча о хлебе говорит о противоположном: неразделимая сущность, отданная целиком и страстно, – только такая может напитать многих. Никто и не пытался делить хлеб – его просто вынесли людям, и те насытились. Один хлеб испечен лишь для одного, и может быть передан лишь ему одному. Как происходит насыщение многих и многих от единого сущего, предназначенного только для одного, – в этом и есть чудо любви и веры. Нераздельная сущность может быть отдана лишь одному человеку, но через него она напитает и многих. Искусство явлено в мир затем, чтобы показать нам, как устроено это чудо, разъяснить его механику. Человек – искусство свидетельствует это – обязан отдать любви всего себя целиком, без остатка. Картина написана одним художником и для одного зрителя – для самого художника или для Бога. Если картина хороша, она станет утешением многих поколений – она и будет тем хлебом, который напитал много тысяч людей. Но картина – цельная вещь и требует всей сущности художника сразу: картина собирает в себе весь опыт человека, все его пристрастия, все его силы. Картина никогда не будет хорошей, если художник чего-то не отдал ей, она требует всего человека целиком: так отдают себя вере. Он вспоминал Лизино лицо в те минуты, когда она молилась или была в церкви, – лицо это излучало такой покой, такую кроткую покорность и радость, что очевидно было: все ее существо перетекало в молитву.
Он спросил ее однажды, за кого она просит Бога, и Лиза ответила ему: за тебя. В тот момент, когда она ответила так, Павел подумал, что такое признание словно загоняет его в ловушку, делает его должником. Я не просил молиться за меня, хотел крикнуть он Лизе, я не просил за меня просить! И потом, о чем же просит она для него – уж не о том ли, чтобы он вспомнил супружеский долг и вернулся к ней? И он увидел в такой вере расчет и усомнился в ней. Но потом он подумал так: а что, если она просит (и о чем же еще она может просить?) лишь о том, чтобы вернуть мир и цельность моей душе? Если такое произойдет, как может знать она, кому именно достанется эта цельность? И значит, в ее просьбе нет расчета на выгоду, а только забота обо мне.
Но мне не нужно такой заботы, думал он.
Когда Павел засыпал подле Юлии Мерцаловой, он долго лежал без сна, и он думал о Лизе, и о том, как Лиза молится за него, и стыд жег его каждое мгновение. И он не мог дышать, и воздух обжигал его, и хотелось кричать. Он кричал про себя: пусть она будет счастлива, пусть ей будет покойно и легко! Возьмите все, что есть у меня, мне не нужна эта ворованная свобода, мне не нужна ваша молитва, отпустите меня, я не выдержу больше!
Почему именно я, тот, кому предназначено спасти искусство, кто обязан быть честным и прямым, тот, кто должен отличаться от кривого нашего времени, именно я должен оказаться мелким обманщиком, шельмецом, вором? Почему у ловкача и беспринципного художника – у такого, который и не думает ни за что отвечать, почему у него все обстоит благополучно с нравственностью и долгом? Я должен, должен разорвать. Я обязан сказать Юлии (иногда он говорил: Лизе), что больше не увижу ее.
И иногда, когда он уставал себя винить, когда он уставал выбирать, когда крик глох в его груди – тогда он находил, что именно такая постыдная ситуация, в которой он оказался, и отличает его от людей неглубоких, одномерных.
Люди, с которыми он сталкивался в жизни, то есть художники, актеры, писатели, журналисты – жили сумбурной, запутанной личной жизнью. Трудно было понять, как и с кем именно живет Семен Струев – сегодня с одной, завтра с другой, и, по всей видимости, не тяготится этим. Что происходило в личной жизни Гриши Гузкина или Осипа Стремовского – понять было вовсе невозможно. А что касается так называемых простых людей – так они, сколько можно было судить со стороны, и вовсе не придавали значения поворотам биографии. Ну, случилось так, что же делать? Ничего не попишешь: жизнь-то все равно идет.
Юлия Мерцалова рассказывала ему истории из жизни коллег-журналистов; она объясняла Павлу, что безвыходных ситуаций не бывает, что люди – даже самые обыкновенные люди – находят выход из любовных коллизий. Ну что здесь особенного? Она рассказывала про дизайнера их издания Валентина Курицына, про то, как Курицын справился с подобной ситуацией, и обе дамы его прекрасно ужились друг с другом, и прежняя жена играет с детьми от жены новой. И редактор их газеты Василий Баринов сменил несколько жен подряд – но сделал это без истерик, по-мужски. Решил – и сделал. И никто не обиделся, никто не пострадал. Страдания, уверяла Юлия, начинаются из-за колебаний. Реши, хочешь ты сделать этому человеку добро или нет. Если нет – то так и скажи, зачем темнить? Вот другие люди решаются на поступок – и говорят: мол, пошла прочь, старая дура, постыла ты мне. Или деликатным образом, но по сути то же самое. Светскую Москву в те месяцы развлекал роман прогрессивного журналиста Пархома Переперденко с красоткой Варварой Гиацинтовой, причем оба героя бестрепетно простились с многодетными семьями. Может быть, эти люди не старались поступить хорошо, думал Павел, может быть, они поступали просто так, как хотели, – и все? Однако не в этом ли и заключается житейская мудрость? Эти люди поступками не разрушали общий ход вещей. Они не вставали своим хотением над общими правилами – они не объявляли себя свободными от общей судьбы; но внутри общих правил они вели себя так, как диктует ситуация: полюбил – разлюбил, и что здесь особенного? Проблемы возникают, думал Павел, именно тогда, когда берешь на себя слишком много, когда воображаешь, что освободился от общей морали – и должен подать пример свободы. А какой свободы? И зачем?
Зачем же непременно хотеть быть хорошим, говорил он себе в такие минуты. Только беда происходит от этого желания – только гордыней оно вызвано. Кто ты такой, чтобы непременно быть хорошим? Живи, как люди живут, и не бери на себя избыточно много, в том числе не старайся быть лучше, чем ты есть.
Но любят ли эти люди? Есть ли это и правда любовь – то чувство, которое они испытывают? Возможно, думал Павел, именно так и есть, поскольку то чувство, которое испытывают они, – не связано с намерением освободиться, и значит, это чувство роднит их с другими. Любовь – не противопоставление. Любовь не связана со свободой.
Он лежал без сна, как обычно бывало с ним теперь, и думал, что вместо счастья (считается, что именно счастье приносит любовь) он получил в жизни стыд и раскаяние.
III
Так он пришел к заключению, что недостоин рисования.
Рисование он понимал как образ жизни и мыслей. Он выступал против авангарда, он называл авангард новым язычеством. Он много раз говорил об этом своим оппонентам – ехидной Розе Кранц, неутомимой в спорах Голде Стерн, своему теперешнему родственнику Леониду. И теперь он чувствовал, что не имеет права так говорить. Он хотел рисовать, чтобы опровергнуть опыт авангарда, но теперь чувствовал, что не имеет права так рисовать – и никогда не сможет получить это право.
Искусство устроено так, что надо иметь моральное право на его употребление. Павел всегда считал, что вблизи картины Ван Гога нельзя совершить бесчестный поступок. Но вот он совершал бесчестные поступки и продолжал почитать Ван Гога, и, значит, что-то нарушилось в его отношениях с искусством. У раннего Маяковского есть стихотворение, которое Павел раньше любил, теперь он утратил такое право. Он повторял его про себя.
Этот вечер решал – не в любовники выйти ль нам:
Темно, никто не увидит нас.
Я наклонился действительно,
И действительно я, наклонясь, сказал,
Сказал ей, как добрый родитель:
«Страсти крут обрыв, – будьте добры, отойдите.
Отойдите, будьте добры».
Маяковский хотел охранять того, кого любил, а я – хотел обладать и унизить, думал Павел. Вот она лежит рядом со мной, та, про которую я думаю, что люблю ее, и разве я поступил с нею иначе, чем те, кто хвалится победами над женщинами и их разрушенной жизнью? Что я хотел сделать: овладеть ею – или защитить?
Павел думал об образе «ловец человеков», образе, который использовал рыбак Симон для определения веры и спасения. Любовь тоже «ловля человеков». Поймать, чтобы спасти, – или поймать, чтобы унизить? Если страсть – обрыв, то ловец-любовник спихивает жертву с этого обрыва, а отнюдь не ограждает от падения. Так и говорят обычно: «она пала», и термин «падение» обозначает победу над женщиной. Сколько куртуазных стихов было написано по поводу «падения крепостей». Будьте добры, отойдите от обрыва страсти, чтобы не упасть, – так сказал человек, который понимал, что такое любовь.
Разве любовь заключается в том, чтобы уберечь от любви, думал Павел. Он лежал без сна и смотрел, как дышит Юлия; она дышала часто, вздрагивала во сне. И вдруг во сне она заплакала и несколько раз произнесла: нет! нет! нет! Кому говорила она это? Ему? Стыд жег его, и он не мог отвести глаз от той, которая была ему дорога и которую он оскорбил.
В одну из таких ночей, когда они долго ссорились, а Юлия долго плакала и говорила, что им надо расстаться, он написал письмо Юлии. Она в конце концов уснула, а он лежал без сна, потом написал письмо. Писать письмо тому, кто рядом с тобой, странно, но сказать не получалось, и, сидя у темного окна, он постарался найти слова. Подобно многим интеллигентам, он полагал, что, написанные на бумаге, слова делают жизнь понятнее. Уходя утром, он оставил письмо на столе. Вот это письмо.
«Ты говоришь, годы прошли, но разве прошли зря? Разве обиды ничем хорошим не окупились? Неужели я не доказал постоянства в своем чувстве? Меня можно во многом упрекнуть, но в ветрености не упрекнешь. В те минуты, когда хочешь сделать мне больно, ты говоришь, что мы не были мужем и женой. А кем же? Как называть человека, кто делит с тобой жизнь, – как его назвать? Почему ты так хочешь сказать – понятно, но будь, пожалуйста, справедлива. Я тебе муж, и более настоящего мужа не было у тебя. Да, ты много вытерпела в эти годы, что же делать, если за счастье приходиться платить, и нельзя изъять счастье – свое счастье – из обращения в мире, где оно должно делиться на всех. Да, я правда считаю, что отдельного счастья не бывает. Да, за свободную любовь приходится так дорого платить – именно потому она и называется свободной. Мне необходимы были эти годы для того, чтобы расплачиваться за счастье; мне необходимо отдавать долг – и тебе, и прежней своей семье, поскольку я однажды решил, что любовь – это забота. Я надеюсь, ты меньше бы меня любила, если бы я был иной и поступал иначе.
Помимо прочего, эти годы явились детством нашей любви. Ты говорила: если бы мы познакомились юные, как счастливы бы мы были, не отягощенные прошлым. Но у любви есть детство, и зрелость, и старость – она живая. И сейчас наша любовь вошла в зрелый возраст. Зрелый возраст – это возраст ответственности за других. И ты знаешь, как я понимаю свою ответственность: это прежде всего рисование.
Верь мне: я великий художник. Мое призвание – спасти мир, вернуть ему утраченный смысл. Сегодня все силы я отдал работе. Правда, пока это работа спрятана, я показал только ее край, верхушку айсберга. Но ты ведь знаешь и веришь, что это огромная работа, что она нужна всем. То, что разъединяет нас сегодня, то, что служит причиной обид, ничтожно мало по сравнению с общей целью. Еще немного, еще один шаг. Я знаю, я смогу. Верь мне, я заслуживаю твоей веры».
Что объясняло это письмо – непонятно. Ничего оно не объясняло. Оно прежде всего не объясняло самому Павлу, для чего он живет так ненормально.
IV
Он сравнивал свое положение с вечным российским выбором: куда примкнуть – к Западу или к Востоку. Никуда Россия примыкать не должна, говорил он себе, Россия живет по собственным резонам. И однако Россия ничем иным и не занимается всю свою сознательную историю, как только решает, с кем ей жить, на кого стать похожей – на Запад или на Восток, только и взбадривает себя выдумками о специальной миссии. А просто жить – без затей – не получалось.
Ты был уверен, спросила его как-то Юлия, что Лиза создана для тебя? Как странно. (И Павел тут же подумал: действительно странно.) Тебе никогда не казалось, что она несколько простовата? (И Павел тут же подумал: действительно простовата.) Ты мог ошибиться, но она, как она могла думать, спросила Юлия, что она – для тебя?
Елизавета Травкина – это и звучит как-то неосновательно, буднично, заурядно; то ли дело Юлия Мерцалова – звучно и страстно отдавалось это имя в ушах; Павел старался не думать о том, что настоящая фамилия Юлии звучит смешно – Ляхер. Но, впрочем, даже сочетание – Юлия Ляхер звучало торжественнее, чем Лиза Травкина. Красивая женщина с модной стрижкой, элегантная Юлия Мерцалова (или Юлия Ляхер) – и заурядная, бледная Лиза Травкина. Разве непонятно, что мне более соответствует Юлия? Вот, значит, в чем дело: ты выбирал спутницу понаряднее – для вернисажей? Выбирал, как элегантнее, как моднее? Но виновата ли Юлия в своей красоте?
Можно ли примириться с тем, что Лиза страдает, спрашивал он себя, как можно с этим примириться? И отвечал себе: а очень просто. Так же точно, как примиряется Лиза с тем, что мне нехорошо. Она отчего-то уверилась, что мне хорошо рядом с ней, и не задается вопросом: а что, если это не так? Отчего ее наделили уверенностью, что моя жизнь принадлежит ей и мне будет хорошо оттого, что моя жизнь истратится? Отчего же ей разрешено мириться с тем, что мне неуютно, а я испытываю стыд, если думаю, что не оправдал ее ожиданий? Оттого, отвечал он себе, что жизнь есть исполнение долга; так и солдат в армии исполняет свой долг, даже если ему не нравится та часть, в которой он служит. Но меня призвали в эту армию совсем мальчишкой, говорил он себе, мне было двадцать лет, я ничего не понимал, меня взяли в армию против моей воли. А солдату сколько лет, когда его призывают на службу? И не спрашивают, а забирают служить – и он служит, и это его долг. Но разве это справедливо устроено, что молодые мальчики, не понимающие толка в жизни, призываются, чтобы отдавать жизнь? Разве общество не поступает бесчестно в отношении этих мальчишек? Разве не разумно им отказаться от службы? Разве не разумно отказаться от своего долга и мне, коль скоро этот долг мне навязан? Невозможно все время испытывать стыд и боль. Но что, если это и есть предназначение души – испытывать стыд? Нет, говорил он себе, не может быть, чтобы так придумали. Душа – она не создана для боли.
Подобные размышления вовсе и не возникли бы в голове Павла, если бы он не считал, что искусство и личная жизнь связаны прямо и что невозможно кривить душой в личной жизни и быть художником. Это убеждение, принятое однажды и навсегда, сделалось основанием для бесконечного – и бесплодного – анализа будней, мелких и больших поступков.
Для чего же я ругаю авангард, думал Павел. Какое право имею? Ведь я и есть самый первый авангардист. Что проку с того, что я не рисую квадратиков, – авангардист сперва утверждает себя в постели, потом только на холсте.
Павел вырос в семье, где считалось необходимым анализировать чувства – Рихтеры всегда полагали, что происходящее с ними столь значительно, что нуждается в аналогиях и примерах из истории. И это спасало их в самых постыдных ситуациях; они отвлекались от той гадости, которую делали, и начинали рассуждать об искусстве, и им казалось, что они переосмысливают свои грехи. Гадости от этого никуда не девались, и плохое не делалось хорошим, но им, которые подумали об исторических параллелях, казалось, что они проделали нравственную работу, многое поняли и положение дел исправили.
Так было удобнее жить – этот защитный рефлекс выручал всегда, и Павел стал думать об авангарде, он множил свои претензии к нему, он говорил про себя целые развернутые фразы. Он думал так.
V
Авангард утверждался посредством половых отправлений: интересно, что бы делал авангардист, если бы ему предложили избегать мочеполовой тематики? В кузнице передовых настроений ковали образы, шокирующие патриархальные вкусы: «Писсуар» Дюшана, похотливые скелеты Эрнста, туалетная эротика Ларионова и манерная – Дельво, гениталии и фекалии, ненормативная лексика – все это, сделавшееся эвфемизмом свободного слова, все это не на обочине творческого процесса, это и есть творческий процесс. Каждому свободолюбивому юноше хотелось встать в ряды веселых ниспровергателей канона, а то, что для этого придется заголить задницу, придало очарования борьбе. Именно непристойности выпала роль свободы. В оппозиции «порядок – инакомыслие» в графу «порядок» записывали «мораль», а в графу «инакомыслие» – «непристойность». Если творческий человек не был замечен в разврате, сам собой возникал вопрос: да вполне ли он творческий, этот сухарь? Возможно, он лишь делает вид, что прогрессивен? Пусть докажет на деле, покажет самой жизнью. И действительно: биографии мастеров ХХ века ярче их творений. Часто дальше этого не идет, но инстинктивно творец прав: отношение к женщине является критерием искусства, во всяком случае, искусства стран христианского круга. Авангард (т. е. искусство борьбы за свободу) любовь трактовал как обладание, а женщину презирал.
Процесс развенчания Прекрасной Дамы и превращение ее в уличную девку – вот суть авангардного творчества. Это именно ее, Прекрасную Даму, выволакивал на панель Лотрек, ей задирал ноги Ван Донген, ее выкладывал на подушках Матисс, ее поимел в парижской подворотне Миллер. Это ее, Прекрасную Даму, изображали с бокалом абсента и в спущеных чулках, это ей адресовали унизительные определения поэты.
Если трубадуры преувеличивали добродетели дам, то авангардные мастера не собирались попадать впросак. Художник сделался циничнее циничного мира: мир наверняка обманет, так нечего с ним церемониться. Генри Миллер, Жан Жене, Жюль Паскин и прочие – разве можно отрицать, что первым бастионом, который они разрушали, был образ Прекрасной Дамы? Она, бедняжка, приняла на себя первый удар – здесь было трудно ошибиться: бей по ней и попадешь куда надо – в сердце общественной морали. Сердце затянутого в корсет общества – это миф о недоступной Прекрасной Даме. Когда захватываешь город, надо первым делом брать почту и телеграф, когда рушишь общественную мораль – следует начать с образа Прекрасной Дамы. Конечно, далеко не все авторы похабщины загадывали так далеко и метили так высоко. Так ведь и не всякий бомбист, мечущий бутылки с зажигательной смесью в здание почтамта, мечтает парализовать весь город, но бывает, что и повезет. Самые крупные мастера, разумеется, делали это обдуманно. Творчество Матисса, например, есть сведение мифа Прекрасной Дамы к утилитарной декорации. Из объекта служения дама превращается в предмет интерьера и тем самым в служанку. Икона превращается в декорацию, образ – в знак; Матисс – последовательный гедонист, т. е., говоря в современных терминах, плейбой. Трудно представить себе картину этого мастера, лишенную женского начала. Но столь же трудно представить себе образ этой женщины – он ничем не отличается от образа золотой рыбки, вазы с фруктами. Интерьер был бы беднее, говорит нам мастер, не укрась мы его аквариумом, женскими бедрами и бананами. Ориентализм Матисса лишь усугубляет эту тенденцию: La Belle Dame лишь одалиска, украшающая досуг просвещенного паши. Легко усмотреть связь с турецкими банями Энгра и алжирскими женщинами Делакруа, но разница в том, что в девятнадцатом веке писали восточную экзотику, а художник двадцатого века сказал: почему, собственно говоря, наша повседневность должна быть хуже? Там, значит, им можно, а мы здесь носись с этой постной моралью? Матисс не оскорблял женщину прямо, как иные грубые натуры, но пошел дальше прочих – он поместил героиню эпосов в сераль. Так христианская мораль и, соответственно, христианская символика были отодвинуты в сторону как недостаточно декоративные.
Языческому карнавалу всегда отводилась роль авангардная. Павел помнил недавнее прошлое – годы подвальной богемы, когда блуд и пьянство стали критерием свободы. Ханжи и сатрапы оккупируют Прагу, говорили свободомыслящие люди, а мы пьем водку и задираем бабам юбки. Карнавал, ставящий мир с ног на голову, любили все авангардисты: им нравилось отвечать безответственностью на тоталитаризм. Эта бытовая неряшливость именовалась «смеховой культурой». Так называемый второй авангард – соцартисты, концептуалисты и т. п. говорили об «амбивалентности», «дихотомичности культуры», об угнетении естества официальной догмой – и тело брало реванш у головы.
Авангардно мыслящему человеку отчего-то кажется, что не любить значительно отважнее и труднее, чем любить. Людям просвещенным представляется, что искренность непременно связана с пороком: трудно заподозрить наличие неханжеского целомудрия. Подвигом является осмеяние, а не воспевание. В действительности, разумеется, рыцарем быть труднее, чем шутом. Подите попробуйте. Вот ты попробуй, говорил себе Павел. Куда больше смелости надобно, чтобы признаться в любви, и еще больше – чтобы любить и любовь защищать. Стихию смеха вольнодумцы героизировали, но все же дракона убивает именно рыцарь, а скоморох только скачет с бубенчиками. Симпатии публики на стороне шута по простой причине: легче ассоциировать себя с шутом, проблем меньше. Двадцатый век знает совсем немного художников, преодолевших шутовство. И уж вовсе единицы осмелились за свою любовь выйти на поединок.
На какой поединок вышел ты? И кого ты защищаешь? Он вставал с постели, шел к окну, смотрел на бездомных собак, кругами ходящих по пустырю. Даже они, бездомные псы, соблюдали обычай и закон – жили семьей и, сбившись в стаю, выполняли семейный ритуал. Даже у них, вздорных собак, жрущих объедки на помойке, принято оберегать друг друга. Он устроил из своей жизни такую помойку, какая не приснится и дворовой собаке. Он оправдал эту помойку свободным искусством, так же, как делали это презираемые им авангардисты. И хуже, хуже! Они сделали это спонтанно, просто потому, что не умеют иначе, – а он выбрал, что надо сделать так. Они – милые скоморохи, а он рациональный мыслитель, просветитель. Впрочем, разве Просвещение противоречит авангарду?
VI
Эпоха Просвещения подготовила расцвет карнавала ХХ века, тогда состоялась генеральная репетиция. Доступные пастушки и похотливые ангелочки на плафонах и добили рыцарскую мораль. То было время рациональных мудрецов, лебезивших перед монархами и величавших Екатерину Северной Семирамидой, а Фридриха – Соломоном. То было время, когда телесные прихоти возвели в ранг духовных дерзаний, а либеральные умы это поощряли – в пику христианской догматике. Эпоха Просвещения оправдала язычество двадцатого века. То было время нескончаемой Вальпургиевой ночи, воспетой лучшими умами, время «Исповеди» природолюбивого Руссо, «Орлеанской девственницы», «Войны богов», розовых будуаров Буше, сентиментальной похоти Ватто. Эпоха Просвещения не вызвала к жизни третье сословие, как обыкновенно говорят, нет, она поступила проще: всех произвела в третье сословие. Журден потому и может притвориться дворянином, что дворяне давно стали Журденами – а этикету обучиться несложно. Именно из пафоса Журдена-просветителя вырос авангард, ниспровергающий иерархию. Журден – старший брат Марселя Дюшана и Генри Миллера. Но квинтэссенцией эпохи Просвещения, человеком, наиболее полно ее воплотившим, был маркиз де Сад.
Именно садистом и называла Юлия Мерцалова Павла, когда плакала и не владела собой. Потом она успокаивалась, обнимала его, говорила, что сказала это в сердцах и что Павел – лучший и благороднейший из людей. «Неужели я – садист», – спрашивал ее Павел, и она отвечала: «Прости, забудь, я сказала это от отчаяния, оттого, что мы не вместе, оттого, что я часто теперь плачу и не знаю сама, что говорю. Ты так заботишься о нас, – она имела в виду себя и дочку, – ты самый добрый». И однако проходило немного времени, она снова принималась плакать – от беспомощности, оттого, что ничего не меняется к лучшему, от вечного упрека, что читала она в глазах Павла, – тогда слово «садист» возникало опять. И Павел повторял и повторял про себя это проклятое слово.
Так и поступал де Сад – унижал. Не было ничего более ненавистного его, в сущности, малоизобретательному уму, чем образ Прекрасной Дамы. Из романа в роман он последовательно воспроизводил беспокоящий его образ – образ некогда недоступной, но растоптанной красоты. Сад любит описать мать семейства, почитаемую даму, сделавшуюся игрушкой похоти и уничтоженную сначала морально, затем физически – и это есть главная метафора творчества де Сада.
Маркиз со всей страстью свободолюбивого человека говорит: нет никаких табу, никаких высших сфер, нет ничего, что было бы выше моего понимания и недоступно моему обладанию. Ту, которой призывают поклоняться (а стало быть, попасть в зависимость), следует раздеть и уложить в постель.
Маркиза де Сада часто вспоминают те, кто именует себя прогрессивными мыслителями, и не зря. Маркиз заслужил право именоваться авангардистом – он, безусловно, самый первый певец свободы. Маркиз создал фигуру так называемого либертена – существа, целью которого является нравственная свобода. К цели либертен движется путем беспрерывных совокуплений. Перефразируя Декарта, его жизнь можно определить coito ergo sum. Этот афоризм маркиз де Сад защищает весьма убедительно. Общество, утверждает маркиз, не оставило гражданам поля для самовыражения – все регламентировано. Жизнь – функция от общественных надобностей, человек – раб. Оковы следует разбить, и начать надо с семьи.
Ах, разве не этого же самого хотел и я, думал Павел, разве не освободиться от христианской подлой догмы – которая давно стала инструментом общества – хотел и я? И он должен был сказать себе, что все именно так и обстоит. Не только нарушить запрет, но сделать так, чтобы при этом старые правила оказались ложными, а его поведение единственно правильным – вот как надо было ему. Именно кроткая, но уверенная в своей правоте Лиза не давала покоя ни ему, ни Юлии Мерцаловой.
– Как она не понимает, – восклицала Юлия, – что ты мучаешься из-за нее! Ну что ей стоит тебя отпустить!
– Да ведь она и отпустила меня, – говорил на это Павел.
– Нет, отпустить по-настоящему, там, внутри отпустить. Я бы на ее месте сказала тебе, что ты не виноват, что я счастлива уже тем, что счастлив ты, вот что бы я сказала.
– Она примерно это и говорит, – отвечал Павел и про себя добавлял, что этого недостаточно. Вот если бы Лиза не только пожелала ему счастья (что она, несомненно, и делала), но и признала, что он прав, – вот тогда он испытал бы облегчение. Необходимо Лизу убедить в том, что ее сознание праведности ложно, а у Павла есть все моральные основания вести себя так, как ему приятно. Разве я не этого именно хочу? И маркиз де Сад хотел того же самого.
Метод борьбы с рабством был продиктован структурой христианского общества. Первым атакуют тот бастион, что представляет средоточие христианской догмы. Таким бастионом в христианской культуре является женский образ. Христианство воплощает свою мораль в образе Богоматери – на уровне веры, в культе Прекрасной Дамы – на уровне культуры, и в институте семьи – на уровне быта. Эти три образа христианская культура сливает в единый образ – его и надо атаковать во имя личной свободы. Богоматерь должна пасть – причем пасть в кровать, Прекрасной Дамой следует овладеть, а жену – передать для наслаждения другому. Утилитарное потребление христианского образа есть акт освобождения, который предлагает маркиз человечеству. Совокупления носят ритуальный характер, они являются авангардным произведением искусства – хеппенингом или перформансом, зовущим к прогрессу. Либертен не просто совокупляется – он своим членом атакует бастионы реакционной морали. Рецепт этот пришелся человечеству по вкусу – приятно сознавать, что, будучи скотиной, ты выполняешь духовную миссию. Христианская мораль учит испытывать стыд за свою животную природу, но маркиз говорит обратное: чем более ты проявишь себя животным, тем вернее станешь свободной личностью. Совокупляясь беспрерывно и оригинальными методами, либертен наносит удар за ударом по христианской морали, разрушает рабские стереотипы. Одновременно он разрушил представления о долге, любви, верности, защите – т. е. он разрушил не общественную мораль, но то, что является стержнем человеческого достоинства.
А от моего достоинства, от него, этого смешного состояния, которым гордишься, словно оно производит нечто хорошее, а не только самодовольство, – от него что остается? И разве есть от него прок?
Культ Прекрасный Дамы – это именно тот тип служения, который и называется рыцарством: любовь не нуждается в быте, во взаимности, в обладании. Эта любовь примиряется с невозможностью счастья, с отсутствием удовольствий. В какой-то момент любовь создает из конкретного идеальный образ, как то было с Дульцинеей или с Беатриче. Суть обладания здесь иная: ты сопричастен образу именно в тот момент, когда отказываешься от прав им обладать. Образ универсален – он существует для всех, присвоить его нельзя. Это как тот самый хлеб, которым можно накормить тысячу человек, не деля его на части, не нарезая на куски. Так и любовь – ею нельзя владеть, любое обладание есть изымание части из целого. Когда люди живут в постылом браке, когда они исправно выполняют то, что должны выполнять, они – может быть, им даже неизвестно это – просто служат тому общему принципу любви и долга, который не разделяется на отдельные удовольствия. Они исполняют требуемое просто по церковному или общегражданскому закону, но этот закон мудрее их желаний. И они больше рыцари, чем те, возомнившие себя свободными, что бросают вызов условностям. Это авангардисту нужно взять вещь, чтобы вещью обладать. Нужно непременно обладать женщиной, возлюбленной, другим человеком, утверждать свою власть над ним. Рыцарское служение выглядит дико в глазах Журдена-авангардиста. Он видит обман и спешит его разоблачить. Мы все помним, чем закончился роман «Дон Кихот»: едва бакалавр Самсон Карраско раскрыл рыцарю глаза на его заблуждения, как рыцарский роман закончился – и жизнь сумасшедшего Алонсо Кехано закончилась вместе с ним. Оказалось, что сам рыцарь – обыкновенный горожанин, обыкновенный мещанин, такой же, как бакалавр Карраско, такой же, как Журден. И я – я такой же, чем же я лучше? Чем отличен? Именно я и есть Журден! Это я – бакалавр Самсон Карраско, это я – Журден! И тысячу раз правы те, кто смеются надо мной и показывают пальцем.
VII
Неряшливые авангардисты, что пьют водку и красят квадратики, во всяком случае, не изображают моральных субъектов. Они честнее и последовательнее, и Павлу они не простят этой постыдной ситуации. Павел представлял себе, что рассказывают про него, Юлию и Лизу; представлял, как ехидная Роза Кранц, тараща выпуклые глаза, говорит Юлии: «Ах, это тот мужчина, которого вы, кажется, называете мужем? А я, кажется, встречала еще одну даму, и она его тоже мужем называет. Совпадение, надо полагать?» И он представлял себе Голду Стерн, как та, побрякивая браслетами, рассказывает, что встретила на улице Лизу, и та, знаете ли, выглядела неважно. «Неужели?» – спрашивают ее собеседники. «Да, совсем неважно. И немудрено: жизнь, которую она ведет, нормальной не назовешь. Муж – борец за справедливость, воплощенная совесть нашего искусства. Какая жизнь может быть у его жены? Вернее, у его жен?»
Юлия Мерцалова рассказывала ему, как в редакции газеты стараются обходить молчанием ее теперешнее положение, как при упоминании имени Павла коллеги отворачиваются. О, эта оскорбительная деликатность ее коллег! Вот и Василий Баринов подарил Юлии кофейный сервиз. И, даря сервиз, Баринов будто бы поглядел сострадательно и сказал: «Это вам, Юлия, на новоселье – ведь будет и у вас когда-нибудь дом?» – «А будет ли у меня дом? – спрашивала Юлия у Павла. – С чужим мужем?» И Павел не отвечал. Баринов хотел посмеяться над ней, не иначе, Роза Кранц была рада всякому поводу унизить гордую красавицу, но больше всех, горше всех унижал Юлию сам Павел.
Но ведь не с ним одним бывало такое! Случалось такое и с поэтом Пастернаком, который полюбил женщину, состоя в браке с другой. Вот и Виктор Гюго жил с любовницей, и Роден тоже, и у Диккенса не все было гладко. Но вы же простили им! Так зачем же, зачем вы копаетесь в моей жизни, зачем не даете мне дышать!
VIII
«И, пожалуйста, не сплетничайте: покойник этого ужасно не любил», – писал Маяковский в предсмертной записке. Разумеется, ничем другим и не занялись, кроме как сплетней, – и разоблачили анекдотичную связь с порочной Лилей Юрьевной. Как и разоблачение Дульцинеи Тобосской, эта акция бессмысленна. Однако неспособность различения материального и идеального свойственна нам, современникам авангардных эпох. Спорить на тему идеальной любви и утилитарного обладания бесполезно, как бесполезен был бы диалог Дон Кихота и маркиза де Сада. Вероятно, на стороне Дон Кихота сегодня меньшинство: среднему классу героизм несвойствен, а тяга к прогрессу присуща.
Мещанин ненавидит героев и героизирует авангард. Делает он это в силу бытовых причин, и только. В любви рыцарской мещанин всегда разглядит фальшь, а в романе Генри Миллера, где описан порок и дрянь, увидит поиск свободы. Миллер не заявляет себя защитником морали и столпом свободы, и ему – в силу скромности занятой позиции – позволено много. А тот, кто кричит о себе: я, мол, морален – тот оказывается судим, и это справедливо: сам напросился.
Драма Маяковского состоит в том, что он хотел жить по законам рыцарского эпоса, и ему мнилось, что кодекс эпоса подменили бытовыми резонами, здравым смыслом потребителя. И это было заблуждением. Кодекса эпоса и не существовало никогда – никто даже и не думал производить подмену. Этот кодекс выдумал для себя сам Маяковский, но жизнь на его выдумку была не похожа. И он вменил счеты жизни – пусть выходит на бой, проклятая! Он был готов биться с любым великаном, с любым волшебником – пусть выходят на бой! Он думал, с ним биться выйдет какой-то исполин, но те, кого он назначал на роль противников (обобщенный буржуй, всемирный капитал), не вышли на бой, зачем им мараться? Они в качестве противника выставили простого гражданина, желающего простых бытовых удобств. В результате этого маневра пафос Маяковского оказался повернут против симпатичных, в сущности, обывателей, заурядных российских граждан. Сражение вышло унизительным: не имеет права поэт биться с рядовым гражданином, стыдно. Стыдом Маяковский и был повержен.
Зачем, зачем я все это говорю? Кому, для чего я это объясняю, себе ли? Оправдания ли ищу себе? Сражение с мещанином рыцарь проиграет всегда, поскольку на стороне мещанина житейская правда. И нет ничего плохого в том, чтобы быть мещанином, – это всего лишь означает быть горожанином, ходить в магазин, быть верным своей жене, служить на службе. А-а! И он едва сдерживал крик – крик беспомощного труса, который возомнил себя героем, а на деле только унизил близких и обидел дальних. Чего проще – биться с мельницей, это легче легкого. Дон Кихот смог оправиться после битвы с мельницей, когда же его противником оказался бакалавр Самсон Карраско – он проиграл. И поделом, поделом проиграл. Нет, неправда, я не имею права говорить про Дон Кихота, думал Павел. Что я сделал, чтобы иметь право на эти мысли? Я даже и не с мещанином сражаюсь, не с мещанской моралью я вступил в бой – что за жалкая ложь. Не было никакой обобщенной морали, над которой я встал. Противниками у меня вышли люди, которых я более всего любил, – им-то я и причинил горе.
Он выходил от Юлии и шел в мастерскую. Оставаясь один, он сидел, сутулясь, и не мог встать и взять кисть, стыд жег его. Однако постепенно он приучил себя работать вне зависимости от того, что его беспокоит. Картина возникнет сама собой, думал он, если научиться не прятать то, что чувствуешь, но додумывать любую историю до конца, находить для боли и стыда – цвета и формы. Значит, думал он, даже некрасивый поступок может стать основанием искусства? Если поступок осознан в картине, он перестает быть некрасивым.
О, проклятая привычка неуверенного человека – все, что происходит с ним, объяснять через искусство! Словно объясняет что-нибудь это треклятое искусство! Словно что изменится в судьбе тех людей, кого я унизил и ранил, от того, что я думаю про картины! А-а, трус, ты всегда вспомнишь про рисование, когда надо просто обнять человека, просто защитить его! Не поможет искусство, и не объяснит, и не спасет. И никуда не денутся ни боль, ни отчаяние, ни то зло, что сделал. Не надо, не надо мне ничего! Не надо искусства – заберите мои картины, порвите их, выбросьте, я не хочу больше ничего этого! Пусть не будет никакого искусства, только дайте дышать мне свободно, дайте жить легко, как живут счастливые люди! Пусть будут счастливы те, кого я люблю, пусть не причиню я им зла!
Трудно сказать, чего больше было в этих экстатических переживаниях: действительной заботы о ближних – или желания душевного комфорта. А что до проблемы личной свободы от общих обстоятельств, то тема эта крайне распространенная.
IX
Тема эта была не вовсе безразлична, например, для парижского общества мыслящих индивидов. Споры в баре гостиницы «Лютеция» вспыхивали подобно петардам, и порой доходило до ссор. Эжен Махно, человек неуправляемый, ставящий личные пристрастия выше общественных норм, часто провоцировал подобные ссоры. Жиль Бердяефф говорил, что его друг Махно путает нравственное с биологическим. Бердяефф имел в виду, что собственные проблемы (желание выпить алкоголя, отсутствие денег, претензии к квартирной хозяйке) Махно склонен отождествлять с проблемами общечеловеческими. «Буквально ли совпадают эти проблемы?» – задавался вопросом Жиль Бердяефф.
– Ты хочешь выпить водки, – говорил Бердяефф, – и кричишь на официантку, что она не торопится принести заказ.
– Лентяйка! – орал Махно. – Что толку кричать на нее, на выдру! Я ее убью!
– А если она тоже хочет выпить, – пытал друга Бердяефф, торговец красным деревом, – и в этот момент утоляет собственную жажду?
– Да мне плевать, что она там утоляет! Утоляет, не утоляет – без разницы! Пусть все подряд утоляет, но дома, в частном порядке! Пошла работать официанткой – пусть стаканы носит, а не хочет носить – пусть дома сидит!
– То есть ты отказываешься признать, что личные интересы официантки есть большая ценность, нежели общественный регламент, верно? Но для себя, между прочим, ты ведешь другой счет. Ты считаешь, что можешь не работать, пользуешься пособием, которое выделяет тебе общество, но на официантку тем не менее кричишь.
– Что ты путаешь! – орал Махно. – Я-то здесь при чем? Что я не работаю, это ее не касается, а то, что она стакан не несет, – это меня прямо касается!
– Ты переводишь чужое бытие в абстракцию, – говорил Бердяефф, и Махно от таких слов приходил в ярость, он не понимал отвлеченных терминов, – а свое рассматриваешь как единственную реальность.
– Абстракция, не абстракция – пусть водку несет, проститутка! – орал Махно.
– Имей в виду, – возражал ему Бердяефф, – и водка, и официантка, и государство вовсе не абстракции, а самая что ни на есть реальность. И пока ты этого не поймешь и не признаешь, абстракцией являешься ты сам.
– Водка – реальность, согласен. А до остального мне дела нет. Их всех так много, пусть сами договариваются как хотят.
– Так ты что, анархист? – спрашивал своего друга Бердяефф.
– Если хочешь знать, – говорил грубый Махно, – я самый последовательный анархист на свете!
X
И Павел Рихтер чувствовал, что он взял себе столько привилегий от жизни и ни одного обязательства, что вполне может именоваться анархистом. Я настоящий анархист, думал он, ничем не отличный от Генри Миллера и прочих. Анархист не ходит на работу, живет где захочется, делает то, что придет в голову: хочет – картины пишет, хочет – водку пьет. Анархист – это значит: обязательств нет. Никому ничего не давать, а брать везде что нравится. В этом и заключается последовательность позиции: анархист не собирается участвовать в общественных мероприятиях, включая сюда и войну. Рано или поздно ему придется сказать так: пусть неумных рабов порядка убивают, а он – последовательный анархист и поедет жить куда хочет, где войны нет и климат теплый – например, в Грецию. Так, что ли? Вот эту вот форму разврата и трусости – назвали свободой?
Не только в отношении женщин, но даже в отношении места жительства, страны, в которой он собирается провести оставшуюся ему жизнь, Павел не мог решиться ни на что определенное. Он говорил себе, что вполне определенно только одно – работа, а остальное как-то устроится само. Он говорил себе, что ему все равно где жить – можно и уехать из России. Он несколько раз склонялся к отъезду, всякий раз в иную страну. Находясь в Москве, прикидывал, как было бы хорошо уехать во Францию, и ехал туда, и даже случалось, что французы у него покупали картины, и он ходил по Парижу с Юлией Мерцаловой, и Юлия Мерцалова отправлялась на авеню Монтень подбирать себе платья. Они ходили из одного модного магазина в другой, и Павел очарованно наблюдал, как Юлия примеряет прозрачные платья, сквозь которые ее легкая стройная фигура вполне видна. Отчего бы не остаться в Париже навсегда, думал Павел. Он даже начал присматривать парижскую мастерскую и нашел одну с видом на собор Сакре Кер, но потом подумал, что не сможет работать, глядя на собор, построенный в честь расстрела коммунаров, и отказался от удобной мастерской. Юлия Мерцалова смеялась над ним.
– Ты слишком русский для того, чтобы жить за границей, – смеясь, говорила она, стараясь вызвать в нем раскаяние за нерешительность.
– Я русский? – возмущался Павел. – Какой же я русский? Я европейский художник. Ты увидишь: пройдет три месяца, и я найду настоящее место, где мы будем жить. Я просто хочу быть уверен, что не ошибся с выбором. Да, не Париж, определенно не Франция – мы должны внимательно поискать в Германии или в Англии.
Так перепробовал он жизнь во всех городах. Он приценился к квартирам в Берлине и нашел удобный дом в Гамбурге. Он объехал Лондон и сделался проклятьем агентов по продаже жилья, заставляя их отыскивать квартиры, а затем отказываясь от них. Он отправлялся смотреть эти квартиры вместе с Юлией Мерцаловой, прикидывал, где поставит письменный стол, где кровать, в какой комнате сможет работать. И после длительных осмотров, когда агенты по продажам уже уставали улыбаться и нахваливать дом, Павел неизменно говорил, что хочет еще подумать и перезвонит позже. Он никогда не перезванивал. И для чего стану я жить в Лондоне или Париже, говорил себе Павел, если мыслями все время возвращаюсь к Москве, к ее дворам, к красной кирпичной кладке домов, к кривым водостокам. Но приезжая в Москву, он сызнова принимался мечтать о времени, когда он уедет из этого грязного русского города, населенного ворами и проститутками, уедет в светлый город Европы. «Нет, – говорил он Юлии Мерцаловой, – что это за город без собора? Не игрушечная пряничная церковь, не бетонный барак с бронзовым литьем, должен быть древний готический собор – только в таком городе можно жить». И так происходило много раз: он прощался с Москвой, упаковывал любимые книги, приезжал за границу, шел в музей, где открывали его выставку, – и немедленно отправлялся смотреть квартиры. Он говорил, что теперь-то он решился окончательно. И, уже найдя прекрасное место, где сможет поселиться с Юлией Мерцаловой, он вдруг испытывал желание вернуться в Москву, в свою тесную мастерскую с окнами на пустырь.
И опять он глядел из московского окна на пустырь с бродячими собаками, вереницей бредущими по синему снегу. Что же хорошего в этом городе, в этой комнате, в этом окне, выходящем на пустырь? – думал Павел. Чем этот город держит меня? Мне нельзя оставаться здесь. Они меня не отпустят живым.
Кто эти «они», Павел не говорил, но предполагалось, что это обобщенное окружение – русская действительность, холод, несчастная судьба Лизы, за которую надо испытывать стыд, беспомощная старость его деда, за которым надо приглядывать, русские культурные люди, оппоненты в спорах, которые словно ждут от него свершений, нечестная власть, которая не простит ему картин. Они все правы, каждый из них имеет право на мою жизнь, на мою преданность, и они забирают мою жизнь с удовольствием, законно, забирают мою жизнь бестрепетной рукой – как официант в ресторане забирает у клиента чаевые.
Я обязан сохранить силы для главной работы, думал он. Мазок к мазку, линия к линии – я постепенно создаю то, что спасет этот мир. Я не должен себе позволить пропасть – раньше, чем завершу работу. Если для этого надо уехать – уеду. Коль скоро я противопоставил себя всем, думал Павел, коль скоро я живу ни на кого не похожей жизнью, так не все ли равно, в какой стране жить? И он не знал, куда ему ехать и хочет ли он куда-либо уезжать.
– В Лондон, – говорила Юлия Мерцалова, – послушайся моего совета, нам надо ехать в Лондон, это самое правильное место.
Ей чрезвычайно нравились магазины на Слоан-стрит, и если Павлу удавалось заработать в Лондоне деньги, то они тут же тратились на платья Юлии Мерцаловой. Они заходили в уютные магазины, и Павел, гордясь, наблюдал за спутницей – она, склонив голову, с тихой улыбкой объясняла продавщице, как надо сделать правильно, и всем казалось, что именно Юлия и знает, как правильно, а работающая много лет в магазине барышня – не знает. И удивительного в том не было – Юлия Мерцалова рождена была быть модной красавицей. А кому же нарядные платья, как не ей – статной и стремительной женщине? Юлия Мерцалова прожила бедно первую половину своей жизни, зато теперь, когда в газете ей стали платить большое жалованье, когда Павел сделался известен и стал продавать картины, она имела моральное право на покупки. Она покупала себе то, на что заглядывалась в витринах магазинов еще подростком, те туалеты, про какие думала, что этого ей не купить никогда. Она всегда знала, что она красивее всех. Знала это и тогда, когда носила мешковатые свитера, жила в подвальчике с диссидентом Маркиным, считала мятые рубли на покупку муки и капусты. Вероятно, некрасивые женщины страдают от отсутствия модных вещей не так, как те, у кого фигура, лицо, грация созданы для того, чтобы оттенить их дорогой одеждой.
– Ты не можешь решиться на отъезд, – говорила Юлия, – ну что ж. Мы сумеем и здесь, у нас есть работа, – и, склонив голову на плечо, улыбалась немного печальной улыбкой. – Я люблю свою работу.
Не могу решиться, думал Павел. Вот красивая женщина ждет, что я окончательно свяжу судьбу с ней, а я не могу. Вот красивый город ждет меня, а я не могу в него уехать. Чего же я жду? Я никогда уже не встречу женщины красивее, чем Юлия, и города красивее, чем Лондон. Чего я жду?
Все, что ни делала Мерцалова, она делала необычайно красиво. Павел сравнивал ее пластику с пластикой фехтовальщика или живописца: так умение и практика убирают из движений лишнее, создают точность, которой можно любоваться. Она так поворачивала голову к собеседнику – медленно, значительно, не шевеля при этом плечами, что собеседник был осчастливлен уже одним поворотом ее головы. Она так складывала руки на столе во время разговора, что собеседник мог даже не слушать ее, но лишь смотреть на тонкие руки и наслаждаться их созерцанием, находить в этом смысл общения. Усаживаясь в кресло, она разученным грациозным движением соединяла ноги, колено к колену, и, разворачиваясь, отодвигала ноги от себя, словно отставляла эти совершенные предметы в сторону. Именно так вот и сидели в креслах великие актрисы и знатные дамы просвещенного мира – на фотографиях в глянцевых журналах. Дамы из журналов садились на стул так, словно совершали этим поступок: они принимали сложные позы на стуле и замирали в этих непростых позах; если подобное попробует изобразить неподготовленная женщина, у нее ничего не выйдет. Дамы на картинках занимали такие позы легко – и Юлия Мерцалова тоже принимала их легко. Просто взять и сесть на стул, то есть разместить свой зад на сиденье, – именно так и садились все остальные женщины, но никак не Юлия, для которой искусство проявлялось во всем. Она будто бы говорила остальным женщинам: и вы, вероятно, могли бы так, если бы не были ленивы, глупы, некрасивы. Вы не хотите истратить время и научиться красиво двигаться и одеваться, и ваша лень тому виной, что на вас неприятно смотреть мужьям. Посмотрите и поучитесь, каждое движение мной разучено и теперь стало естественным для меня; красота – это ежедневная работа. Она словно несла бремя красоты и несколько была утомлена этим бременем; ну да, говорила любая ее поза, я красива и должна поступать сообразно своей красоте. Сейчас я изберу вот эту позу, можете проследить, как я легко приму эту непростую позу, – для моей красоты именно такая поза теперь самая естественная. И другие женщины в присутствии Юлии Мерцаловой делались вульгарными, их движения были суетливы и нелепы, их платья уродливы, и их мужья наблюдали за женами с раздражением. Юлия Мерцалова, разумеется, замечала это и взглядом давала понять, что совсем не желает уж настолько унизить прочих женщин. Она тихой улыбкой отдавала дань их попыткам выглядеть пристойно: еще немного усилий, говорил ее поощрительный взгляд, и у вас, возможно, тоже получится. И она тихой улыбкой подбадривала мужей: потерпите, может быть, и ваша колченогая подруга исправится.
Помимо пластики тела, Юлия Мерцалова владела также особенной манерой смотреть. Ее взгляд был внимателен, глубок и несуетлив; она не передвигала глаза с предмета на предмет, ее нельзя было заподозрить в любопытстве. Напротив, она смотрела так, словно в принципе уже давно изучила тот объект, на который смотрит, и, глядя сейчас, только проверяет свое знание. Ее взгляд говорил: да, именно так я представляла себе, так и должно было быть устроено, вот я посмотрела, проверила и вижу – так и есть. Она смотрела так, как будто могла бы сказать многое, но такт и ирония удерживают ее от высказывания, она склоняла голову на плечо и глядела на собеседника с улыбкой, и собеседник думал: если она заговорит, то непременно скажет нечто умное.
И сказанные ею слова подтверждали такое предположение. Когда Юлия Мерцалова говорила нечто, то говорила она негромко, четко выговаривая слова и правильно строя фразу. Эмоции, которые обычно сбивают с мысли людей, делают их слова невнятными, никогда не коверкали ее речи. Она тихой улыбкой останавливала собеседника, если он чрезмерно волновался, и своим точным словом возвращала его к сути разговора. Все, что она говорила, было всегда уместно, правильно и разумно. У нее было три или четыре разученных высказывания, таких же отшлифованных, как движения ног и рук, и она их всегда пускала в ход, и всегда безошибочно. Постепенно за ней закрепилась слава не только чрезвычайно красивой, но и весьма умной женщины, сумевшей добиться особенного сочетания красоты и ума.
Точно так же, как она обращалась со своим телом, проводя в ванной комнате долгие часы и отшлифовывая каждый сантиметр кожи, так она поступала и в отношении слов. О чем бы ни заходила речь, Юлия Мерцалова, с тихой улыбкой склонив голову, давала понять, что внимательно изучила этот вопрос. Иногда она тактично восклицала: о, что вы, я совсем не разбираюсь в подобных вещах! – и восклицание это лишь обнаруживало ее скромность, поскольку улыбка и наклон головы свидетельствовали о знании. Таким талантом обладают иные телеведущие, коим приходится брать интервью у людей разных специальностей; с кем бы ни говорил такой ведущий, он сохраняет спокойствие знатока, рассуждая о космонавтике, алгебре или музыкальной гармонии. У Юлии этот талант был, и выражение ее лица не казалось искусственным. Если ей приходилось вступать в разговор по поводу искусства, или истории, или литературы, она говорила уместные и точные слова, которые отбирались тщательно. Предложения выходили из ее рта круглые и законченные, и собеседник всегда оставался в уверенности, что и эту проблему она обдумала давно и глубоко. Подобно тому, как внимательно она выщипывала волоски в носу, выбривала ноги, шлифовала ногти, так же и суждения ее были тщательно отобраны.
Глядя на картины Возрождения в музеях, она обыкновенно произносила следующее: «Впрочем, все это сектантство». И спутник ее (теперь таким спутником был Павел) догадывался, что она имеет в виду. По всей видимости, думал Павел, она понимает дело так: существует общая концепция церковного христианства, и любая частная трактовка этой концепции есть сектантство. Как это верно, думал Павел, по сути, художник, берясь за евангельский сюжет, выступает как протестант, переписывающий Писание. Имела Юлия в виду буквально это или нет, доподлинно неизвестно, но она часто повторяла эту фразу, и оттого казалось, что она много думает о данном вопросе и только утверждается в данной мысли раз от раза.
И всякий предмет, какой обсуждался меж нею и Павлом, в результате обсуждений сводился к очень точной формулировке, и ей лишь надо было употребить одну точную фразу, чтобы показать суть вопроса. Это была всякий раз одна и та же фраза, но будто бы заново обдуманная и глубже пережитая. Касательно ее прошлых отношений с мужчинами использовалась следующая фраза: «Ничего, по сути дела, не было». Что буквально значит эта фраза, Павел сказать бы не смог, но фраза эта, казалось, объясняла все исчерпывающе. С течением времени Юлия добилась того, что ее былые отношения с Голенищевым уже представлялись Павлу нереальными. Но ведь была жизнь, дочь родилась, существует прошлое. Сказанными вовремя репликами, пожиманием плеч и удивленным поднятием бровей Юлия сделала так, что прошлого этого словно бы и не существовало никогда. Она равнодушно встречалась с Голенищевым, пожимала ему руку, глядела мимо него. Разве некогда было меж ними что-то? Да и не было ничего у Юлии Мерцаловой с Голенищевым никогда. Она поднимала круглые черные брови, если речь заходила об этом, и смотрела на Павла растерянно и с упреком. «Я ничего не помню, – говорила обычно она, – да фактически и не было ничего». Она раскрывала аккуратный рот с ровной белой линией зубов и произносила: «Ничего, по сути дела, не было». И Павел умудрился поверить в это.
Ненужное истреблялось из жизни так же внимательно, как устранялись волоски из носа или с ног. Как сказала однажды сама Юлия, объясняя, зачем проводит в ванной комнате часы: если позволить природе взять верх над собой, ничего от тебя уже и не останется. И Павел поверил, что так может говорить лишь сильный человек, который однажды решил быть красивым, цельным и смелым. Подобно тому как мужчины, любующиеся красотой Юлии Мерцаловой, и заподозрить не могли, что на ее гладкой отполированной коже некогда росли волосы, так не могли заподозрить они, что было нечто вздорное или скверное в ее биографии. Юлия Мерцалова смотрела на них с тихой улыбкой – и мужчины убеждались: нет никого чище и умнее.
Постепенно Павел услышал уже все реплики Юлии Мерцаловой и узнал, что других реплик у нее нет и рассчитывать на то, что она сможет сказать больше уже сказанного, нельзя, как нельзя рассчитывать на то, что умный телеведущий сможет долго рассуждать о космонавтике или алгебре. Он пришел к выводу, что Юлия Мерцалова не знает многого, во всяком случае, она знает много меньше, нежели считают ее собеседники, те, кто случался у них в гостях, те, с кем разговаривала она на вернисажах. Однако дело ведь не в формальных знаниях, думал он. Юлия наделена природной цельностью характера, той особой красотой, которая сама по себе есть род ума.
Очевидно, что его жена Лиза, например, такого рода умом не обладала – Лиза была проста, безыскусна, и никакой тайны в ней не содержалось. И характером она была не сильна, но, напротив, слаба и силы воли не имела. Лиза волновалась, когда говорила, сбивалась с мысли, путалась в словах, одевалась кое-как, а если садилась на стул, то при этом не выказывала в позе никакого искусства и так далее. И голос Лизы, особенно когда та собиралась сказать что-либо приятное, раздражал Павла. «Это ты? – кричала Лиза взволнованным, немного испуганным голосом, когда слышала шаги Павла в коридоре, – ты пришел? Ты останешься на ужин?» И стуча туфлями, тяжело ставя ноги всей стопой, она выбегала встречать. И голос Лизы звучал неестественно громко: «Ты останешься, да?» Когда же говорила Юлия, ее голос был тих, певуч, он завораживал – так, верно, говорили сирены. «Здравствуй, – тихо выговаривала она, встречая Павла, – вот и ты». И неслышно двигаясь, она приближалась к Павлу, склоняла голову ему на плечо, тихо улыбалась и прикрывала глаза.
Удивительно было слышать в голосе этой стальной женщины, этой стремительной красавицы нежнейшие ноты, когда она, склонив голову набок и прикрыв глаза тяжелыми ресницами, шептала Павлу нежные слова. Слова эти выходили словно из самой глубины ее естества, они произносились ею с той единственной нежностью, которая исключает существование других людей вообще. Нет, никогда не слышал ни Леонид Голенищев, ни Виктор Маркин, ни Алексей Мерцалов подобных слов. А иные, те, кто лишь смотрел на неприступную Юлию издалека, могли ли они вообразить, какая бывает Юлия в минуты страсти? Она, работник газеты, деловая и безупречно четкая, как умеет она таять в объятьях. Знали бы мужчины (те, с которыми у нее ничего не было, и другие, с которыми, как она считает, у нее ничего не было), как умеет Юлия нежнейшим голосом выговорить признание.
Для прочих людей имелся обыденный голос, ровный твердый тон, и для одного Павла появился у строгой Юлии специальный голос – волшебный и певучий. И Павел гордился тем, что никто не подозревает о существовании этого секретного голоса: говорить таким голосом все равно что раздеться. Тем неожиданнее было узнать, что иногда с чужими людьми Юлия пускает в ход свой волшебный голос.
– С кем ты говорила? – спрашивал Павел, подслушав знакомые ноты.
– Когда? Вот сейчас? – Юлия поднимала гладкие черные брови. – Я говорила с коллегами.
Юлия говорила по телефону, и к неведомому собеседнику обращался ее специальный интимный тон.
– Да кто же это? – спрашивал Павел и с удивлением узнавал, что слушателем задушевного голоса Юлии были или владелец газеты «Бизнесмен» Василий Баринов, или дизайнер одноименной газеты Валентин Курицын, или же бизнесмен Балабос, верный рекламодатель газеты.
– Так нежно? – удивлялся Павел. – С этими проходимцами?
– Ты не должен осуждать слабых. Виноват ли Курицын в том, что он всего-навсего Курицын? Я даю ему возможность почувствовать, что он не жалок. Как иначе ободрить его?
– Да, это понятно, – отвечал Павел. Он действительно понимал; Юлия могла сделать человека счастливым уже тем, что выделила его в толпе; так полководец может обратить внимание на солдата. Не нужно особых усилий: великий художник выделяет в картине персонаж одним мазком, цветовым акцентом. Собеседника осчастливит малость: интимная вибрация голоса. Величественная Юлия, его Юлия, говорит с ними, убогими, нежным голосом – и они счастливы. Но прилично ли так говорить с прохвостами?
– Если бы мы уехали, – говорила она своим необыкновенным голосом, – не было бы нужды беседовать с рекламодателем или дизайнером. Сегодня приходится жить так, как я сама научилась.
– Слишком они противные, – говорил Павел.
– Ревнуешь меня? – удивлялась Юлия. – Если я сделала ошибки в прошлой жизни, поверь, я застрахована от них впредь. Разве я не совершенно твоя? Я про тебя знаю гораздо меньше – а все-таки нисколько не ревную. Хочешь пойти к своей Лизе, потому что она плачет и ей одиноко? Иди, если так тебе спокойнее. Иди – утешь. И не беспокойся: ты найдешь меня там, где оставил.
Понять, что правильно и что неправильно, думал Павел, можно лишь по эффекту, произведенному действием, а сами поступки бывают невыразительны. Иные праведники (и он думал в этот момент о Лизе) не способны ни на что, кроме страдания. Называются они праведниками оттого, что не делают буквального зла. А настоящая польза от праведности есть? На что годна праведность помимо того, чтобы вселять в окружающих чувство вины?
XI
Вполне проявилась сила Юлии тогда, когда потребовалось отыскать больницу для Соломона Рихтера. Люди, как известно, делятся на тех, на кого можно положиться в трудный момент, – и на тех, кто не в силах оказать помощь. Существует еще и третья категория – те, кто всегда ждет помощи и оскорбляется, ее не получив; эта категория самая распространенная.
Рихтер в очередной раз собрался помирать и лежал, глядя скорбными глазами в потолок, а около его ложа суетились родственники. Татьяна Ивановна, разумеется, пригласила врача из районной поликлиники, и Рихтер слабо улыбнулся ее наивности: ну что же сможет сделать районный врач с его недугом? Если Татьяне Ивановне так непременно хочется, он готов выдержать и это – пустую болтовню неквалифицированного врача. Что делать, он потерпит. Лиза, добрая и беспомощная Лиза, принималась звонить подруге, у которой тетка, кажется, знала кого-то в городской больнице, про которую рассказывали, что больница, мол, неплохая. Лиза звонила по телефону, дозвониться до подруги не могла, губы у Лизы дрожали. Она заваривала чай, подносила дрожащую чашку к скорбным губам Соломона Моисеевича, и тот снисходительно отпивал глоточек.
– Горячо, – тихо говорил Соломон Моисеевич.
– Я подую, я остужу, – поспешно говорила Лиза и принималась дуть на чашку с чаем, а Рихтер терпеливо ждал; что ж, вот и чай оказался горячим, и доктор не идет, и дозвониться до подруги не сумели – разве мог он рассчитывать на иное? Остынет ли чай? Придет ли врач? Кто знает?
Инночка сидела подле постели с тарелкой паровых тефтелек – любимым блюдом больного. Сегодня, впрочем, тефтели остались не востребованы: Соломон не мог оторвать головы от подушки. Инночка понапрасну тянула к нему вилку с нежнейшим кусочком; Соломон не глядел на тефтели. В глазах Инночки стояли слезы. Антон, брат Лизы, дважды успел сбегать в аптеку за бесполезными, судя по всему, лекарствами – лучше больному не делалось. Даже скептическая Елена Михайловна приехала, подошла к постели Рихтера, пощупала пульс.
– Я скоро умру, – прошептал Соломон Моисеевич, и родственники испугались, лишь Татарников, навестивший больного, не поверил ему. Рихтер умирал уже много раз, и всякий раз – неудачно.
– Все там будем, – заметил историк и отхлебнул из стакана. Он всегда прихлебывал водку. Зоя Тарасовна считала, что он выпивает две бутылки в день, но она несколько преувеличивала.
– Теперь я совершенно в этом уверен, Сергей.
– Неужели когда-то сомневались? Неужели думали, обойдется?
– Твердого знания не было, – печально сказал Рихтер, – хотя я часто испытывал недомогание. У меня слабое здоровье, как вам известно.
– Ах, Соломон, у кого теперь есть здоровье.
– Мне хотелось бы с вами проститься, – еле слышно сказал Рихтер, и у Павла застучало в висках.
– Ну зачем торопиться, Соломон, – заметил Татарников, наливая себе еще стаканчик, – успеем еще попрощаться. Вы лучше покушайте.
Однако было очевидно, что Соломон Моисеевич настроен пессимистически: он закатывал глаза, проявлял равнодушие к паровым тефтелям, не смог осилить чашку с чаем. В отчаянии Павел попросил помощи у Юлии Мерцаловой: он не сомневался, что сильная и стремительная Юлия поможет. Юлия решила вопрос быстро. Вот приехала карета скорой помощи, особая высокооплачиваемая бригада, вот взлетели медбратья в лифте в квартиру Рихтеров, вот погрузили они Соломона Моисеевича на носилки – и все это в считаные мгновения. Соломон Моисеевич оказался в особой клинике, принадлежащей бизнесмену Балабосу, куда доступ был открыт немногим.
Кто мог бы сделать это, кроме нее? – думал Павел. Что проку от суетливой Лизы, нервной Инночки? Грубая бабка его, Татьяна Ивановна, разве от нее дождешься помощи? Сам больной, то есть Соломон Моисеевич, преисполнился благожелательности к деловитой красавице: Юлия Мерцалова присылала ему в больницу цветы и газеты. Соломон Моисеевич провел месяц в отдельной палате, оказывая знаки внимания женскому персоналу больницы; вскоре недуг отступил.
После его выздоровления Юлия Мерцалова предприняла попытку сблизиться с семьей Рихтеров. Расспросив Павла о том, что любят старики, и узнав, что Татьяна Ивановна ест мало, но несколько раз в день пьет чай, Юлия купила для нее сластей; то были дорогие конфеты, из тех, что пенсионеры купить не могут. Юлия съездила в специальный магазин бельгийского фабриканта, который недавно открылся в Москве и где чашка кофе с печеньем стоила столько, сколько пенсионер тратит в месяц. Там с присущим ей вкусом она выбрала дорогой шоколад и дорогие конфеты, протянула красивый пакет Павлу.
– Отдай бабушке, ей будет приятно. Я понимаю, как жизнь к ней несправедлива. Она всю жизнь работает, а вы – разве вы о ней заботитесь? Разве она такую жизнь заслужила? Скажи, что я очень уважаю ее. Я понимаю, твоя бабушка настроена против меня. И как может быть иначе – она человек принципов. Жаль, что сложилось так, что именно во мне она видит врага. Однажды она поймет, как мы с ней похожи. Я тоже всю жизнь работаю. Если мы познакомимся, она будет меня уважать.
Павел отвез сласти Татьяне Ивановне.
– Юлия прислала, тут все, как ты любишь.
Татьяна Ивановна не протянула руки, чтобы взять пакет, и Павлу пришлось поставить пакет на стол.
– Это бельгийский шоколад, – сказал он, – очень вкусный.
– Мне не нужно. Забери. Отошли это обратно своей, – Татьяна Ивановна сначала не сказала, кому именно отослать, потому что не хотела сказать грубость, но потом все же сказала, поскольку привыкла, что нужно говорить все, что должно быть сказано, – отошли своей бляди.
Она сказала это ровным голосом, слово «бляди» выговорила отчетливо, звук за звуком.
– Как можно, Таня, – ахнул Соломон Моисеевич, – Какие ужасные слова ты произносишь. Тебе подарок дают от чистого сердца. Как не стыдно. Наверное, это очень вкусно. Это что, шоколадки?
– Нам не нужно, – и Татьяна Ивановна сжала сухие тонкие губы, – мы такого не едим.
– Почему же не едим? – поспорил с женой Соломон Моисеевич. – Спасибо Юленьке. И ты, Танечка, за чаем с удовольствием это съешь. И я непременно попробую.
– Мы такого не едим, – повторила Татьяна Ивановна, – а ты, Соломон, все, что сладкое, готов схватить.
– Тебе стыдно, – кричал Павел бабке, – тебе стыдно оскорблять человека, который искренне хочет добра!
– Мне не нужно чужого добра, – сказала Татьяна Ивановна, – пусть свое добро при себе оставит.
– Возьми, дедушка, – сказал Павел, – съешь, пожалуйста.
– В конце концов, – заметил Соломон Моисеевич укоризненным тоном, – эти сладости посылает та женщина, которая спасла меня от смерти. Да, кхе-кхм, от неминуемой смерти. Тебе, Таня, должно быть небезразлично то, что именно Юлия вернула меня к жизни. Полагаю, мы обязаны принять этот дар.
– От какой еще смерти? – презрительно сказала Татьяна Ивановна, – все ты врешь. Я раньше тебя помру.
Соломон Моисеевич посмотрел на жену с укором.
– Читала я твой диагноз, – сказала Татьяна Ивановна с тем особым оттенком брезгливости, с каким деревенские люди разговаривают с городскими неженками, – чушь одна. Подумаешь, болит. Болит – терпи. Лежи да терпи, вот и все леченье.
– Твои правила, Таня, – произнес Соломон Моисеевич печально, – жестоки. Я был на грани смерти. Людей убивает не только болезнь. Убивает равнодушие. Черствость. Убивает жестокая мораль.
– Глупости, – сказала Татьяна Ивановна.
– Хотя бы для того возьму, – рассудительно сказал Соломон Моисеевич, протягивая руку в направлении шоколадок, – чтобы сгладить впечатление от неприятного разговора. Съем из уважения к Юлии и к ее подарку.
– Не трогай! – резко сказала Татьяна Ивановна. – Не смей прикасаться!
Глядя в бешеные глаза своей бабки, Павел думал: отчего мы приговорены быть рабами праведников? Отчего она полагает себя вправе кричать и судить? Оттого ли, что ее собственная жизнь показательно несчастлива? Отчего обязательно требуется разделить судьбу многих неудачливо рожденных – и умереть в некрасивой России? Оттого ли, что она, эта бессердечная страна, только того и ждет? Вот мой дед, великий философ, и мой отец, автор философии искусства, и я, художник, рожденный, чтобы отстаивать идеалы Возрождения, – все мы жертвы дурной ненасытной праведности. Нам некуда деться от них, алчных бессребреников, которые делают нас виноватыми за то, что сами ничего из себя не представляют. Но что же делать, если иной добродетели не существует, а эта – безжалостна? Остается принять то, что есть.
Он пошел в мастерскую, по пути выбросил пакет с шоколадом. И странное дело – выбросив пакет с шоколадом, он испытал облегчение. Его ждал холст, палитра, и стоило дотронуться до гладкого, выскобленного дерева палитры, вдохнуть запах краски, как дневная суета ушла прочь. Были конкретные важные обязанности – надо было переписать фигуру в картине «Одинокая толпа». Сбившиеся в кучу люди, затерянные на равнине, они кричат, они в панике, их влекут вперед беспокойство и растерянность. Один из них – тот, что глядит на зрителя, скривив злые губы, – должен был стать главным героем. Павел взял кисть, представил себе то лицо, которое хотел написать, – это было лицо Александра Кузнецова. Вчера не получилось написать, значит, должно получиться сегодня. Он постепенно приучил себя работать в любом душевном состоянии, и душевная работа, которая постоянно происходила в нем, делала холсты лучше.
28
Великая картина нуждается в зрителях, но неизвестно в каких. Это не икона и в церкви висеть не может. Если картина находится в церкви, то конкретного зрителя нет, и воздействие картины на прихожан предопределено характером помещения. Когда картина живет автономно – спрос с нее другой.
Пока картина ведет себя прилично, не превышает допустимый уровень воздействия на зрителя, ее можно пускать в дом, но что делать, если она слишком о себе понимает? Есть картины невоспитанные (такие писали Гойя, Брейгель, Ван Гог), в них больше страсти, чем допустимо для социального комфорта. Есть картины истовые (такие писали Мантенья, Козимо Тура, Беллини), которые содержат больше требований к морали, чем позволительно предъявить в светской беседе. Поскольку картина является собеседником владельца, требования к ней соответственные.
Для вопиющих картин придуманы музеи, где их воздействие дозировано. Они будут отныне содержаться под надзором, общение с ними будет кратким. К ним можно ходить на свидание, поскольку жить с ними рядом нельзя.
Оттого и полюбили люди, ценящие комфорт, так называемую интерьерную живопись: изображения отдыхающих, фрагменты природы и декоративные абстракции в доме поместить можно, но зачем в гостиной вешать «Блудного сына» или «Триумф смерти»? Для кого конкретно написано «Ночное кафе»? Для кого создан «Расстрел 3-го мая»? Чем определеннее содержание картины – тем менее ясно, что с ней делать: ведь она написана для хороших людей, а не все зрители хорошие. У нее есть нравственная программа, а не всякому хочется таковой следовать. Более того, многим не особенно хорошим людям свойственно считать свою моральность вполне удовлетворительной.
Иначе можно сказать так. Основной социальной функцией картины является воспитание. Художник закладывает в картину представление о хорошем и справедливом, возвышенном и добром, каким он обладает. Природа искусства такова, что эту энергию картина хранит долго и отдает ее постепенно, как дом, будучи однажды протоплен, хранит тепло и постепенно его отдает. Общение с такими картинами призвано образовывать нравственную сущность зрителя, иногда говорят, что картина живая и она беседует с тем, кто на нее смотрит. Подле таких картин невозможно совершить низкий поступок – это и является основной проверкой их подлинности.
Однако живопись не препятствует преступлениям, более того, часто их обрамляет. Великие картины были свидетелями таких мерзостей, которых устыдились бы художники, писавшие эти картины. Богатые люди приобретают великие картины в декоративных целях, а далеко не все князья мира отличаются моральными свойствами. В их роскошных интерьерах картины чахнут. То, что картины не в состоянии выполнять своей прямой функции, – их губит. По всей видимости, процесс, происходящий с живописью, имеет как поступательную, так и возвратную силу. Картина обладает способностью воспитывать мир и его улучшать, однако и мир обладает способностью ухудшать картину и перевоспитывать ее на свой лад.
Если признать за картиной свойство внутренней жизни, то надо согласиться с простым утверждением: когда картину любит подлец, картине стыдно. Неизвестно, как долго она способна испытывать стыд без того, чтобы изменить своей природе, однако рано или поздно такое случится. Ведь и протопленный дом, если открыть в нем двери, впуская ветер, станет холодным – и будет отдавать не тепло, но холод. Картина должна обладать запасом гордости и стойкости, чтобы выдержать свое обитание. Деление на великие и невеликие картины объясняется просто: было время, когда все картины были равновеликими. Но некоторые не выдержали истории – и мир выхолостил их, выстудил их нутро. Можно сказать, что виноваты не буквально собственники, но социальные условия заказа, что порча случилась еще до создания картины. Какая разница?
Картины, которые дошли до нас истинно великими, обладали силой сопротивления. Надо писать так, чтобы остаться неуязвимым для бесчестного соседства.