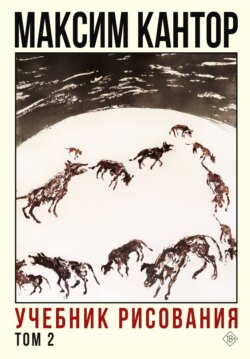Читать книгу Учебник рисования. Том 2 - Максим Кантор - Страница 4
Часть третья
Глава 24
Управляемая демократия
ОглавлениеI
Управлять страной – значит управлять людьми; мысль эта настолько банальна, что ее не принято развивать. Между тем ее стоит продолжить и сказать, что управлять людьми – значит управлять их образом жизни. Ergo: управлять страной – значит управлять образом жизни людей, населяющих эту страну, т. е. регулировать их пристрастия, вкусы, идеалы, а это совсем не просто.
Например, это непросто осуществить в стране, где все воруют и воровские обычаи сделались нормой; так же непросто регулировать пристрастия людей в обществе, где все врут и ложь стала привычкой; непросто управлять образом жизни в такой стране, где члены общества пребывают в колебании, что сделать завтра: отремонтировать квартиру – или эмигрировать. О каком образе жизни следует говорить среди воров? О каких пристрастиях говорить среди лжецов? Управлять субъектами какого общества прикажете – теми ли, что на всякий случай держат в столе билеты на самолет? Ложь, кража и бегство, сколь бы привычны они ни были, понятия расплывчатые, твердых очертаний не имеющие. Образу же присуща совершенная определенность форм. И правителю – что уж совершенно необходимо для управления образом жизни – требуется представить себе вышеупомянутый образ. В отсутствие же внятного образа – и управлять образом затруднительно.
Часто случается так, что способ управления соотносится с реальной жизнью, как старый костюм, утративший владельца и напяленный на чужое тело: пиджак трещит по швам, брюки надуваются пузырем. И становится крайне жалко прекрасное произведение портняжного искусства, использованное столь небрежно и неуважительно. Возникает законный вопрос: а так ли необходимо наполнение для отлично сшитого костюма? Ведь висят же костюмы в магазинах, и внутри у них пусто, и ничего – смотрятся неплохо. Так нужны ли вообще люди для того, чтобы система управления ими работала? Неблагодарный человеческий материал только портит отличную систему управления – и недоумевает портной: все скроено и сшито безупречно, а вот торчат из обшлагов какие-то дурацкие потные ладони, высовываются из штанин отвратительного вида ноги. Чей труд прикажете ценить выше – кропотливый ли труд дизайнера, создающего одежду по изысканным и разумным лекалам, или беззаботный труд природы, что наудачу сляпала человека? Политические магазины готового платья предлагают правителям соблазнительные образцы кройки и шитья, и часто, выбирая фасон, правитель приходит в отчаяние: да где же ему взять народ, заполняющий столь совершенный продукт? Как бы научить нелепое население равномерно заполнять своей бессмысленной массой рукава и штанины, как распределить бессмысленную протоплазму, чтобы жилет не надувался, а пиджак не топорщился? Не годится субъект для данного костюма, ну абсолютно не подходит; так, стало быть, работать с ним надо – и, пожалуй, проще изменить гражданина, носящего платье, нежели платье перешивать.
Проблема эта решалась двадцатым веком брутально – субъект подгонялся под готовое платье, и столь усердно подгонялся, что казалось: платье пришлось впору. Однако неуспех этого метода (т. е. обильные жертвы среди населения и – что иным показалось хуже – среди правящих классов) привел к концу столетия к парадоксальной ситуации. С одной стороны, от насильственной практики муштры и примерок пришлось отказаться и отнестись к народу снисходительно, а именно: посмотреть – а какой, собственно говоря, образ жизни ему соответствует, чем конкретно надлежит управлять и какой закон шить. С другой же стороны, народ уже приведен долгими примерками в такое состояние, что естественной и органичной работы с ним не получится: он, шельмец, пребывает в растерянном, подавленном состоянии. Спрашиваешь его: а есть ли у тебя, любезный, какой-никакой образ жизни? А он молчит и в носу ковыряет. И хочется сделать как лучше – но вот что именно сделать, не вполне ясно. Бурнопьющий российский президент выразил общее недоумение (свойственное всем правителям вообще) тем, что созвал однажды прогрессивную интеллигенцию на судьбоносный разговор, этакое ристалище умов, и возопил гласом велиим: а подайте мне в двадцать четыре часа, понимаешш, русскую национальную идею! А скажите мне, отцы, в чем состоит наша всемирно-историческая роль и задача? А ну-ка, обобщите-ка мне исторический опыт! А явите-ка мне образ нашего великого народа – а я узрю его и стану им управлять. И засуетились мамки с няньками, забурлило открытое общество, и тот с идеей пришел, и этот – тоже с идеей. Да вот незадача: не подходит ни одна в качестве общей (парадигмальной, как сказала бы Роза Кранц) цели. Православие, самодержавие, народность? Так ведь это когда было! Быльем поросло, прогрессом потоптано, цивилизацией в муку перемолото. Прогресс и цивилизация? Так ведь тоже всем не годится: у одних, которые управляют нефтяными концернами, эта цель, может, вопросов и не вызывает, а у тех, кто в Сибири валенки валяет, – у тех вызывает, да еще какие.
Соблазнительно было бы списать трудности российского президента на национальные русские особенности: страна слишком большая и бестолковая. Однако со схожей проблемой столкнулись решительно все правители просвещенного мира после устранения тоталитарных режимов. Очевидно было одно: некое неуловимое понятие (для простоты именуемое свободой) для граждан предпочтительнее, нежели фашизм и коммунизм; гражданам не вполне хочется революции и тирании; граждане желают, чтобы их оставили в покое – пребывать в привычном им состоянии. Непонятно только, в каком именно.
Двадцатый век ввел многих людей в соблазн, внушил многим людям несбыточные надежды и необоримый энтузиазм к достижению недостижимого, поссорил сословия и классы, создал иллюзии массового характера, причем совершенно противоречивые, – одним словом, сделал все для того, чтобы привычный образ жизни перестал существовать – и тем самым двадцатый век расформировал систему управления. Та благословенная либеральная система ценностей, что формировала законы и правила девятнадцатого века, однажды была взорвана и уничтожена, ее более не существовало. И, однако, именно к ней, несуществующей, апеллировали прекраснодушные умы в поисках гармонии. Умы же не столь прекраснодушные, но практические указывали первым на то, что именно либеральная система ценностей и привела к удручающей картине всеобщей бойни. Представляется довольно трудной задача управлять людьми, часть которых понимает свое благо одним образом, а иная – прямо противоположным. Многоукладность экономики – вещь для государства обременительная, но куда более обременительная вещь – многоукладность сознания. Одно не вытекает с необходимостью из другого: и крестьянин, и банкир могут понимать основы своего бытия – то есть то состояние, которое рассматривается ими как идеал, – одинаково. Например, они могут принимать семью, государство, законы как необходимый регулятор жизни, ведущий к счастью. Возможна, однако, ситуация, когда все заинтересованные стороны считают по-разному, и государству будет крайне непросто внедрить общую систему управления. И не насилием, отнюдь не насилием собирались регулировать идеалы современные правители. Уродливые формы диктатур минувшего века и возникали именно как следствие неуправляемости общества, несообразности человеческого материала с идеально сшитым костюмом. Диктатуры ушедшего века были пугающими, но недолговечными: можно подавлять пристрастия, но это не означает управления пристрастиями. Конечно, можно и оттяпать гражданину конечность, чтобы костюмчик ладно сидел, – так ведь он, подлец, того и гляди – помрет. Нет, нынче требовался иной подход: конечности не кромсать, а где надо – руку согнуть, ногу поджать, живот втянуть; а может быть, где-то и подол укоротить – но подогнать одно под другое.
II
Не успел еще век двадцать первый наступить, как всем стало ясно: грядет век практический. Основной задачей нового века, пришедшего на смену веку утопическому, является налаживание системы управления – рациональной и энергичной. Требуется предать забвению распри и выработать общее представление о благе и свободе. И перед властителями мира стоит труднейший вопрос: как согласовать интересы тех, кто тратит на бутылку вина за обедом больше, чем обычные люди расходуют в месяц на пропитание, с интересами этих обычных людей? Как заставить их поверить, что они суть единое целое? Как заставить Ефрема Балабоса и Александра Кузнецова понять наконец, что они – родственники? А если взять пример супруги г-на Балабоса – небезызвестной Лаванды Балабос, то как поместить ее опыт и взгляды рядом с опытами и взглядами Зои Тарасовны Татарниковой? То-то и оно, что непросто.
Сама Зоя Тарасовна, женщина наблюдательная, выразила эти противоречия следующим образом.
– Я, – говорила к случаю Зоя Тарасовна, ни к кому особо не обращаясь, но и не делая из своих слов секрета: пусть все слышат, я, когда была замужем за Тофиком, денег его понапрасну не транжирила. Конечно, и заработки тогда были поменьше, – в этом месте своей речи Зоя Тарасовна делала паузу и поджимала тонкие губы, – но, разумеется, кое-что позволить себе я могла. Работал он всегда как каторжный, не чета некоторым. Однако зачем же пускать на ветер трудовые деньги – что за поведение такое? Прежде всего, я считаю, детей надо устроить. А бриллианты ни к чему. Ну, поездить, мир посмотреть – это я понимаю. Это – да. Одеться пристойно женщине необходимо. Ну, одно кольцо, два – это не помешает. Но и меру надо знать. Полюбуйтесь на его нынешнюю супругу, на эту Беллу. Или на ее подругу посмотрите, на Лаванду Балабос. Верх неприличия, стыдно просто! У них бриллианты с яблоко величиной! А Тофик – он доверчивый. Говорила же я ему: вот уйду я, Тофик, и окрутит тебя такая шалава, что ахнешь! Вспомнишь меня, да поздно будет!
– И как, вспоминает? – интересовались слушатели.
– Ну, а как вы думаете? Ребенок общий, он в дочке души не чает. Каждый месяц подарки. Здесь-то, – жест в сторону безмолвного Татарникова, – разве чего дождешься? Ну и меня, – шевельнула щеками Зоя Тарасовна, – забыть непросто. Такие девочки, как Белла, хороши на день-другой. А настоящие чувства – о, это настоящие чувства! Знаете, как бывает: вот все у него хорошо, а остается один – и к телефону: где там моя Зоя?
– Звонит? – спрашивали любопытные.
– Звонит, – вздыхала Зоя Тарасовна, – но: трубку вешает. Голос послушает и трубку кладет.
– Думаете – он?
– А кто же еще? Кто?
И слушатели, подумав, соглашались, что, разумеется, это Тофик Левкоев звонит, и больше попросту некому быть.
– Но что же я сделать могу? – разводила руками Зоя Тарасовна. – Время не повернешь вспять. У нас совершенно разный образ жизни. И когда я вижу по телевизору эту расфуфыренную Беллу Левкоеву или Лаванду Балабос – знаете, я радуюсь, что я не на их месте!
– Неужели радуетесь?
– Да, представьте! Разве это выносимо? Пошлые приемы, неприятные чужие люди, безвкусные туалеты – как с этим жить?
– Некоторым нравится.
– И пусть! Нравятся бриллианты с яблоко величиной – пожалуйста! По-моему, это вульгарно, но если кому-то нравится – ради бога! Я свой вкус никому не навязываю, просто говорю – это не мое. Мне это чуждо. Разные мы люди, вот что я вам скажу!
Дело даже не в том, что сокровищ Зое Тарасовне никто не предлагал и что бриллианты с яблоко величиной действительно были не ее, но в том, что расстояние между классами (и, соответственно, уклады и образы жизни в обществе) менялось стремительно. И касалось это не только России – страны, где не так давно все были равно бедны, – но всего мира, где соотношение богатого с бедным претерпело за последние двадцать пять лет существенные изменения. Выражаясь коротко, разница между богатым и бедным, разница почти незаметная в шестидесятые годы (или весьма искусно декорированная), сделалась в конце двадцатого века существенной, в двадцать первом же – вопиющей.
III
Благословенное время Европы – а именно те тридцать лет, что впоследствии будут вспоминать как недолгий золотой век, случившийся внутри века уродств и бедствий, – завершилось в семидесятых. Вписанное меж двух катастроф (тотальной войны и тотальных режимов – и деколонизации и разрушения социализма соответственно), это время наследовало у диктатур идею равенства и одновременно пользовалось привилегиями колониализма. То было уникальное время, когда равенство и свобода как бы нехотя соседствовали с прогрессом и колониальной политикой. И казалось вполне естественным, что антидиктаторские настроения разогреваются явайским ромом, а свободолюбивые прения проходят в дыму кубинских сигар. Вы видите, кричало это время, мы отвергли диктатуры, но не отвергли равенства! Мы за прогресс, а то, что в связи с его развитием придется пожертвовать общим равенством, нас не касается. А то, что равенству в определенной мере присуща диктатура, – этого мы и знать не желаем! Мы за то, чтобы развитие капитализма стимулировало либеральные ценности. А сигары из колониальных провинций – ну, это так случайно случилось: завозят какие-то цветные, и ладно, нехай завозят. Ненормальность и эфемерность этого положения дел явилась следствием того странного союза, что был заключен во имя победы над фашизмом. Недолгий союз коммунистического идеала (в наиболее действенном своем воплощении, т. е. в армейском) с капиталистической практикой (в наиболее привлекательном варианте – либерально-консервативном) оказался возможен в весьма определенном действии – войне, но формулировал этот союз свое существо крайне неопределенно – словом «антифашизм». Поскольку никто не был в состоянии внятно сформулировать, что такое фашизм и противником чего конкретно данный союз выступает, то и порожденный союзом эффект был туманен. Победители рассорились и поделили мир, и та часть мира, что явилась на короткий срок воплощением равенства и процветания одновременно, приняла это странное состояние за свою историческую миссию. Европе вдруг померещилось, что она и впрямь воевала не за свою жизнь, дома, колонии, доходы, но за абстрактную свободу и от имени этой невнятной и несформулированной идеи свободы и обладает правом говорить. И – что еще более удивительно – всему остальному миру это померещилось также. Европа жирела и богатела, наливалась соками и кровью всего прочего мира, но делала это ради высоких идеалов, во имя правды и блага других. Словно бы провидением специально была назначена миссия такая западному человеку – пользоваться продуктами прочих народов, пить и есть всласть и являть собой пример нравственного ориентира. Мир принял это ненормальное, фальшивое состояние за расцвет либерализма, и когда дети рантье, зажравшаяся парижская номенклатурная шпана, кричали в шестьдесят восьмом: «Мы – немецкие евреи!» – мир видел в этом не безобразие сытых подонков, не надругательство над памятью сожженных, но движение либеральной мысли. И никто не сказал крикливой сытой сволочи, потерявшей голову от своего безнаказанного состояния: стыдитесь, юноша, вам по-прежнему мерещится, что вы на баррикадах, а вы – в торговом ряду. Напротив, мир благосклонно усмотрел в хулиганстве зерна свободы. И действительно, зерна уже проклевывались, надо было лишь подождать всходов, чтобы определить – что именно за продукт пророс. Приняв (как наследие разрушенных режимов) идеалистическую идеологию и сохранив (как наследство колониального развития) капитал, западная цивилизация на недолгий срок представила модель развития, поразительную для рассудка восточного наблюдателя: то было равномерное преумножение богатств для людей свободных и равных, цветение всех садов и открытие всех горизонтов. Данная модель (при всей своей безусловной порочности и бессовестности) была принята восточными наблюдателями – прежде всего восточной интеллигенцией – как идеал человеческого развития. Впоследствии, то есть через весьма краткий промежуток времени, когда условия для безнаказанного кривлянья сделались затруднительны, мир по-прежнему считал то балованное, расслабленное и порочное состояние идеалом, и – можно не сомневаться – так и останется в памяти веков.
Силою вещей, то есть простым ходом дней и событий, это благословенное время пришло к концу; обнаружилось, что вне западного мира есть иной мир и с ним требуется тоже как-то обходиться. Там тоже живут люди, конечно, не столь интересные и далеко не так внимательно отобранные мировым селекционером, но все-таки люди. Про них на некоторое время забыли, а это было неверно: вне разумного управления колонии расшалились, экспорт-импорт расшатался, иммиграция туземного населения испортила пейзажи метрополии, количество беженцев, пересекающих планету справа налево, сравнялось в цифрах с миграциями Средних веков – словом, что-то разладилось в мире, который уже было вздохнул в облегчении. Наличие другого субъекта всегда неудобно, особенно же неприятно наличие множества других, когда надо распределять такой лимитированный продукт, как свобода. Добро бы, западные политики собирались тиранить туземцев – но нет, нынче нужно их одаривать свободой, а это затруднительно. За эту самую свободу Марианна на баррикадах кричала и Ла-Манш бойцы штурмовали в день D, а теперь что же – у алжирца, или афганца, или конголезца ее будет столько же? И получается, достанется она им за меньшую плату? Поскольку века унизительной жизни конголезца в расчет не берутся (обсуждаться может лишь осознанное стремление к демократии), то и выходит, что свободу конголезец обретет без усилий. Не в том дело даже, что жалко свободы для других, но подойдет ли всем один и тот же покрой законов, власти и управления? Поскольку очевидно, что все в один костюм просто не поместятся – резиновый он, что ли? – требуется готовить для других нечто особенное. И, надо сказать, дизайнеры сегодня изобретают удивительные модели – налезут на любой горб, так спрямят, хоть на конкурс красоты посылай. Разумеется, материал для туземного костюма берут подешевле, практичный и немаркий – ребятам все-таки надо работать. Стали рядить туземцев в новое платье – и всполошились: как-то само устроилось, что для малых сих закон сшит на особый лад, и это ведет к отмене идеи равенства, общих идеалов, прогресса, сочетающегося с либерализмом.
Однако работать надо – и взялись за работу; и стали кроить на чилийцев и аргентинцев, шить на Восточную Европу, пришлось отложить игрушки блаженной поры шестьдесят восьмого, засучить рукава: либерализм, оно, конечно, недурно, но есть такая вещь, как Бремя белых. Нести это бремя непросто, работа грязная, но необходимая. Понадеялись было западный мир и демократия отдохнуть от трудов праведных (и то сказать, сколько жертв унавозило почву для цветения либерализма), так нет же – опять надо вводить экспедиционные корпуса, опять лететь незнамо куда с точечными бомбардировками. Думалось и мечталось, что достаточно попросту явить миру пример свободной и благой жизни, и даже волю вот дали отдельным колониям – смотрите, олухи, учитесь. Так нет же, не удастся отдохнуть: им, чертям полосатым, волю дашь, они себе же во вред напортачат. И то не беда – пусть бы и напортачили себе во вред, но не удается кормить и одевать остров цивилизации в нецивилизованном мире, если общие представления о свободе и благе (то есть представления о благе в Африке и на Западе) разнятся. Нормальным положением дел является такое, при котором африканцы полагают, что благо Запада – это и их благо тоже, но так ведь этому еще учить и учить. И непросто научить, если существует противоречие в действиях гувернера: и свободу воспитаннику дать, и заставить воспитанника поступать в соответствии с требованиями не своей собственной свободы – а гувернерской. Вот ведь проблема.
В построении новой империи – а в том, что строить ее снова необходимо, соглашались лучшие умы – требовалось вернуться к истокам, к тому, с чем сталкивались все великие строители последних лет: Наполеон, Гитлер и Сталин. И преемнику их – хочешь не хочешь – требовалось найти метод, внушающий общие представления о благе, чтобы этим благом управлять.
IV
Наполеон, находясь на острове Св. Елены, с гениальной простотой обозначил свою былую цель: привести человечество к такому состоянию, чтобы везде был один язык, один закон, единый образ жизни. Империи часто рушились именно оттого, что разные уклады и разные образы жизни не сочетались меж собой – и расшатывали конструкцию. Наполеон простодушно обозначил цели своей кампании – и под этими целями сегодня легко поставил бы подпись любой радетель цивилизации.
«Русская война, – писал император, – должна была быть самой популярной в новейшие времена: это была война здравого смысла и настоящих выгод; война спокойствия и безопасности всех; война миролюбивая и консервативная».
(Но разве не во имя здравого смысла и настоящих выгод осуществлялись последние преобразования в просвещенном мире? Разве не во имя здравого смысла были предприняты акции, свергающие тоталитарные режимы? Разве не ради подлинных – а не утопических – выгод менялся экономический уклад завоеванных цивилизацией стран? И разве не во имя спокойствия и безопасности всех должны были быть уничтожены некоторые отдельные очаги волнений? Разве не миролюбием вызваны точечные бомбардировки? Разве о чем-то ином, кроме как о консервативном либерализме, пеклись в Сербии и Руанде, в Латинской Америке и Азии?)
«Это было для великой цели, для конца случайностей и для начала спокойствия. Новый горизонт, новые труды открывались бы, полные благосостояния и благоденствия всех. Система европейская была бы основана, вопрос заключался бы только в ее учреждениях».
(Положить конец историческим случайностям и прожектерству – разве не эту цель ставили перед собой политики сегодня? Разве не западную демократию – в терминологии Наполеона: европейскую систему – требовалось внедрить повсеместно, чтобы добиться благоденствия? И разве не благосостояние являлось заветной мечтой?)
«Удовлетворенный в этих вопросах и спокойный, я бы тоже учредил свой Конгресс и свой Священный союз. В этом собрании великих государей мы обсуждали бы наши интересы семейно и считались бы с народами, как исполнитель поручений с хозяином».
(Новый правитель будет не тираном, но рачительным администратором. Разве не именно эту цель – т. е. создание наднационального административного совета – ставили, утверждая Лигу Наций, ООН, «Большую Семерку» или другой надмирный начальственный орган? Транснациональные корпорации – по добыче нефти, например, – не явились разве примером для демократии? Требуется власть, которая была бы управляемой и наемной, вроде генерального директора корпорации. Руководящие указания он получит от людей компетентных, и никакие исторические фантазии не придут ему в голову.)
«Европа действительно скоро составила бы таким образом один и тот же народ, и всякий, путешествуя где бы то ни было, находился бы всегда в общей родине».
(Есть ли цель важнее? Унизительно сознавать, что свободы западные заканчиваются где-то на границах цивилизации, обрываются среди степей. Само предположение оскорбительно, что живут где-то дикари, удовлетворенные дикарством, и знать не хотят про Ива Кляйна, Ле Жикизду и Энди Ворхола.)
«Все реки были бы судоходны для всех, море было бы общим, постоянные большие армии уменьшены до гвардий государей. Всякую будущую войну я провозгласил бы защитительной, всякое новое распространение – антинациональным».
(Когда внутри цивилизации мир установлен, разве нужны внутренние армии? На рубежах империи, ограждая достижения прогресса, – вот где они должны стоять. И разве не является происходящее сегодня – то есть превентивная война цивилизации против варварства – войной сугубо защитительной?)
Здесь надо отвлечься от политического рассуждения и обратиться к жизни частной. Необходимо это для того, чтобы частным примером проиллюстрировать простое социальное положение: привлекательным образом жизни является чаще всего образ жизни недостойный. Подобно тому как ненормальное существование западного мира в послевоенные годы, существование паразитическое и распущенное, показалось остальному миру идеальным и свободным, так и жизнь некоторых светских персонажей – и жизнь подчас скверная – неожиданно кажется окружающим манящей и представляется достойной подражания.
V
Павел, замученный своим двусмысленным положением, уставший от вранья, неожиданно увидел, как его уродливый образ жизни привлекает к нему общественное внимание. И внимание это, что поразительно, было отнюдь не негативного свойства. То, что он, женатый человек, живет с любовницей, замужней женщиной, то, что делает он это открыто, у всех на виду, – оказалось привлекательно для общества настолько, что общество решило закрыть глаза на прочие проступки Павла: то есть на его консервативные взгляды, любовь к давно не актуальному искусству живописи, неприязнь к моде, etc. Никто не пенял ему, никто не упрекал его в разврате. Напротив – посторонние и вовсе неизвестные Павлу граждане выражали восхищение его свободным поведением, и оно (это ненормальное и постыдное поведение) служило им примером. Людям творческим – так негласно решило общественное мнение – позволено многое: разве они не исключительные личности, наделенные бурным темпераментом и фантазией? Так случается порой, что творческие люди нарочно высказывают эпатирующие общественный вкус убеждения – чтобы привлечь к себе общественное внимание. Так поступали Байрон, Рембо, Маяковский, Сыч. И общество, привлеченное поначалу зрелищем порока, впоследствии находит в пороке много привлекательного и, главное, объясняющего поведение творца. Если что-то и может оправдать в глазах сонного обывателя морализаторство Маяковского, то это беспорядочная половая жизнь пролетарского поэта, его вопиющий ménage à trois с Бриками. И если что-то и извиняет презрение Байрона к светскому обществу, то это его пренебрежение людьми вообще. Заинтересовалось бы общество Анатолием Сычом, выстави он напоказ свою любовь к сестре-горбунье? Нисколько, но общество склонно посмотреть на чувства к сестре сквозь пальцы, если принять во внимание адюльтер с хорьком. Казалось, нет ничего привлекательного в допотопных убеждениях Павла (что может быть скучнее сегодня, чем любовь к живописи?), и, однако, мнение Павла стали замечать в обществе. Неожиданно он стал модным персонажем. Его еще не приглашали на открытия мебельных бутиков и презентации молодого Божоле, но уже звали на карнавал в Венецию, в палаццо Клавдии Тулузской, где резвилась столичная публика. Ему говорили так: отчего же вы не прилетаете к нам в Дорсодуро? Все лучшие люди там, знаете Ле Жикизду? Его стали звать на столичные вернисажи, и модные люди подходили к нему и Юлии Мерцаловой – и раскланивались. Сам Аркадий Владленович Ситный улыбнулся ему полными своими губами и сказал: приятно познакомиться с вашей спутницей. И Павел гордился своей спутницей, ее красотой и странностью их отношений. Приезжайте со своей красавицей, вашей, хм, подругой, то есть, я хотел сказать, женой, говорили ему люди, доселе ему незнакомые, и подмигивали. В известном смысле показной разврат своею смелостью компенсировал скучные убеждения Павла. И то, что сам Павел свою жизнь развратной никак не считал, но, напротив, считал, что то, как он живет, и есть правильно и честно, делало его еще более интересным в глазах общества. Павел, разумеется, томился от двусмысленности и вранья, но полагал, что это небольшая плата за свободу и страсть.
И окружающие восхищались свободой Павла. Его новый образ жизни как бы внушал окружающим, что рутинные убеждения в искусстве (которые Павел отстаивал) не совсем уж и рутинны, что-то такое пикантное в них, пожалуй, есть. Вот этак взять да и вывернуть общие представления – а что? Совсем недурно может получиться. Есть изюминка в том, чтобы любить живопись в то время, когда все уже давно делают инсталляции! Если поглядеть на самого Павла и на то, как он живет, то сделается понятно, что такой модный человек попросту не станет искать немодных увлечений. Вот, кстати, поговаривают, что живопись опять возвращается, и даже, кажется, где-то в Штатах появился один модный живописец: изображает кое-что красками.
Как-то само собой устроилось так, что социальная активность Павла (выраженная в программных картинах и сожительстве с красивой женщиной) дала свои плоды. Его звали на выставки, Павел стал продавать картины за границей, летал, как и прочие модные художники, в Европу, стоял на вернисажах с шампанским в руке, менее удачливые люди ему завидовали. Сам Павел утвердился в мысли, что при условии упорной работы возможно настоять на своем и вернуть живопись в мир. Встречаясь с коллегами (а теперь он сталкивался с ними в аэропортах и на вокзалах, а вовсе не в мастерских, как бывало раньше), он думал про себя: мы совершенно разные – они стараются подделаться под этот мир, но я пытаюсь его изменить. Да, они впустили меня в свое общество по ошибке, не подумав. Я противник их искусства, я делаю иное, думал он. И тот факт, что произведения их покупали одни и те же люди, его не тревожил.
И краденая жизнь, за которую надо бы испытывать стыд, сделалась привычной для Павла – и он испытывал гордость за то, что живет не так, как все, и полагал, что его образ жизни, то есть образ жизни свободного и гордого человека, есть единственно правильный.
В отстаивании краденого и постыдного (будь то речь о Павле Рихтере, о западном мире шестидесятых или о доходах российской промышленной и политической элиты конца века) непременно наступает момент, когда краденое и стыдное надо привести в соответствие с внешними нормами закона. Не то чтобы Ефрем Балабос вдруг застеснялся своего персикового леса и семиэтажного особняка и восхотел жить сообразно общему образу жизни своих соплеменников; не то чтобы парижские рантье захотели покинуть кафе и устричные бары и поселиться в Африке; не то чтобы Павел Рихтер захотел (или мог, что в его случае равнозначно) расстаться с Юлией Мерцаловой – совсем нет. Но наступает момент, когда рантье, Балабосу и Павлу Рихтеру уже недостаточно, что мир их не осуждает и не считает их действия постыдными. Недостаточно и того, что мир считает их действия превосходными и правильными. Требуется сделать так, чтобы мир считал все прочее (включая самого себя) неправильным – а единственно правильным считал аномалию. Для этого необходимо переписать общий закон, так его переиначить, чтобы дурной образ жизни стал образцом.
Процесс перешивания костюма – причем перешивать приходится прямо на клиенте – процесс трудоемкий; для исполнения этой работы (если речь идет об историческом моменте) общество выбирает такого правителя, который бы не гнушался брутальными мерами и не опускал рук, заслышав жалобы.
VI
В России, когда пришла пора подобного шага, кандидата нашли легко.
Подчиняясь закону русской истории, который требовал сменить правителя с шевелюрой на лысого, а также потому, что президент с мясистой головой и бурными эмоциями пришел в негодность и употреблять его сделалось для мирового сообщества и отечественных воротил затруднительно; потому также, что этап первоначального накопления был завершен и новой задачей сделалось накопленное удержать, люди ответственные стали смотреть по сторонам: а кому бы передать управление этой бессмысленной землей? В пору наследуемой монархии такого вопроса бы не возникло; не возникло бы такого вопроса и в пору коммунистического режима – тогда правителем делался верный наследник идей. Но в отсутствие идей и в отсутствие прямого родства – кому передать бразды? Поговаривали – в пивных и на вокзалах, – что-де выращивает наш бурнопьющий президент себе достойного преемника; мол, держит он на закрытой даче некоего тайного воспитанника, вливает в него по каплям науку управления, ограждает от соблазнов мира, пестует юный ум, чтобы в свое время явить народам светлый лик непорочного правителя. Дескать, вот выпьет президент свою норму, развалит страну до нужного состояния, а потом заботливой рукой отомкнет потайную дверь – и выпорхнет наследный принц, обученный прекрасным и цивилизованным началам. По достоверности предположений это напоминало рассуждения о наследниках российских бандитов, получающих воспитание в закрытых колледжах западных государств. Мнилось, что живодеры и кромешники так обучат своих малолетних чад, что привьют им начатки человеколюбия и смирения. Иные домохозяйки и их обремененные заботами мужья лелеяли надежду, что дети тех, кто сегодня забирает у них деньги, будут им эти деньги возвращать. Вот погодите, говорили люди положительные и оптимистические, глядя вслед лимузину, что обдал их грязью, вот погодите только – его дети в Гарварде обучатся, приедут образованные и уже не станут на нас грязью брызгать. И в расчет не хотели брать доверчивые домохозяйки того, что за время обучения наследников в Гарварде лимузины станут только больше, а лужи глубже и грязнее.
Как бы то ни было, а проблема с переменой владетеля земли русской стала весьма существенной, и мамки с няньками стали поглядывать по сторонам: кому бы доверить стеречь награбленное, кто подойдет, кто не подведет? Ведь натырено-то немало – значит, и ответственности от нового хранителя краденого требовали строжайшей. Свой человек должен быть, проверенный. Казалось бы, зачем далеко ходить и искать, коли у порога Кремля дежурит Владислав Григорьевич Тушинский со товарищи; только мигни ему, он и бросится в цари и запирует в Грановитой палате с лихими своими компаньонами. А вот еще Дима Кротов произрастает – либеральнейших настроений юноша, чем этот-то плох? Его и на Западе привечают, и костюмы от Бриони он носить обучен, неужто не подходит? Напрасно, на приемах он смотрелся бы весьма недурно. Но проблема была в том, что упомянутые лица хоть и удовлетворительно смотрелись в политическом ландшафте и декларировали готовность взять власть немедленно и распорядиться ею либерально, но на самом деле получить эту самую власть нимало не желали. Той небольшой и неопределенной власти, что уже была у них в руках, им было совершенно достаточно; более того, это состояние неопределенной власти и соответствовало более всего их неопределенному представлению о свободе – и определенному представлению о безопасности и материальном благополучии.
«Ведь в чем беда с ними, – говорил министр топлива и энергетики Михаил Дупель своему коллеге по расхищению природных ресурсов и налаживанию демократической власти в стране Ефрему Балабосу, – в чем беда с ними: они уже получили все, что хотят, им больше и не нужно». – «Демократия в России им не нужна? – ярился Балабос. – Обратно в советскую власть захотели? Ведь рвался же, гаденыш, изменить страну в пятьсот дней – а теперь в кусты?» – «Ну зачем Владику Тушинскому президентство», – цинично улыбался Дупель, – а его домик в Брайтоне как же? А лекции в Кембридже? А как же пожертвования прогрессивных фондов – расстаться с ними?» – «Так ведь больше бы взял, – вздыхал Балабос, – если с умом бы подошел, конечно». – «Не нужно ему больше, – говорил Дупель с тоской, – ему хватает, нахапал уже. И все они так: как брать – первые, а ответственности – никакой. Нахапал – и бежать». – «Меня реформы, – говорил Балабос, – реформы меня тревожат. Кому их доверить? Ведь упустим, упустим страну!» И смотрели по сторонам Дупель с Балабосом, искали пытливым взглядом кандидата на престол.
«Мы не президента (какие теперь президенты – ха-ха! – еще чего не хватало!), мы управляющего нашим добром назначаем, – говорили друг другу Дупель и Балабос, Щукин и Левкоев, – вот поставим молодца, и пусть сундуки охраняет. Не нужны нам перепуганные интеллигенты вроде Владьки Тушинского, которые боятся к власти подступиться; нам нормальный менеджер нужен». Однако в поисках менеджера мамки с няньками да Балабос с Дупелем столкнулись с той же проблемой, что и рядовые бандиты в воспитании наследников, – проблема эта генетическая. Отрадно бы, конечно, вырастить в Гарварде лауреата всех наук, даром что он происходит от живодеров. А вот дадим ему знаний! Нехай просветится пацан! Но как-то так получается, что учится мальчик маркетингу да менеджменту, а, приезжая, берется за финку и обрез. Учили его, что ли, плохо? Из кого делать управляющего? Из интеллигентов – не получается, трусливы больно; из партийцев пробовали – не годится, спиваются; из бандитов – и хорошо бы, да больно ненадежный материал. Где его и откопать, принца-администратора, как не в своих же канцеляриях? Вот кто нам нужен – рядовой клерк, без амбиций, в нарукавниках и скромненький. А какая канцелярия у нас лучшая, ну-ка глянем! Известно какая – знаменитые органы, другие-то канцелярии все развалились. А каких там, в органах, администраторов выращивают? Известно каких.
Таким образом, переживая за сохранность уворованного, мамки с няньками назначили себе в управляющие чекиста, офицера госбезопасности, лысеющего блондина с волчьим взглядом. Его и искать долго не пришлось – всегда под рукой был: еще в самом начале реформ призвали люди прогрессивные к себе в помощь офицеров госбезопасности; кто же лучше гэбэшников владеет конкретной информацией – где что лежит. Уж если ты собрался, в целях прогрессивных и возвышенных, что-либо из народной казны спереть – так лучше проконсультироваться с людьми компетентными. И всякий приличный либеральный буржуй обзавелся для сбора информации своим карманным полковником госбезопасности – и держали полковников при себе, и показывали друзьям; так же точно богатые люди в ту пору заводили у себя в офисах большие аквариумы с пираньями и хвастались гостям – глядите, какие зубастые. И стравливали порой своих карманных полковников: а ну-ка, милок, собери на моего конкурента досье; у него там, правда, тоже свой полковник, такая бестия, но ты его обхитри – ну, вы же это дело умеете. И подглядывали в скважины, и жучки в ванной комнате ставили, и камеры наблюдения в сортире привинчивали, и голых девок в постель подкладывали – работали. И держали в столе полностью подготовленный к использованию компромат на конкурента: если что, если прикажут обстоятельства бизнеса, так сдать мерзавца в прокуратуру на расправу – нехай отвечает по всей строгости! Иные скажут: нехорошо! Но, во-первых, мера эта применялась крайне редко, уж если конкурент вовсе зарвался, а предосторожности ради подстраховаться надо. И потом: не надо забывать, что практика доносительства, подслушивания, подглядывания и разведывания была столь же присуща обществу, как употребление алкоголя. Ведь не отучишь же русского человека пить водку? И доносы строчить тоже не отучишь. Так ежели искать доносчика и разведчика, то из кого выбирать: из любителей посплетничать на лавочке во дворе или все же обратиться к профессионалам? И обратились – благо профессионалов много. Подобно безработным самураям – ронинам, – скитались потерявшие востребованность офицеры госбезопасности по стране; рыцари плаща и кинжала предлагали свои знания и умения буржуям – торговцам кальсонами и презервативами, магнатам, учреждающим банки, воротилам, захватывающим газ и нефть. И звали, звали верных самураев: послужи, разведай, разнюхай. Как же мы без госбезопасности! Постепенно эта рачительная предосторожность привела к тому, что деятельность офицеров госбезопасности, оставшихся было не у дел во время бурнокипящего либерального процесса, сызнова оказалась востребована и более того – в масштабах, превосходящих брежневские времена. Разница была лишь в том, что у богачей и коммерсантов возникло (согласно их общей демократической установке) стойкое убеждение, что госбезопасность они приватизировали и теперь бравые полковники представляют не государственную, а их личную безопасность – безопасность капиталистов. И когда мамки с няньками обозрели свои кадры и прикинули возможности, кого бы поставить сторожем страны – то и колебаться не стали: вот этого, нашего приватизированного, карманного полковника и назначим. Парень он зубастый, да свой, на привязи ходит. Приватизированный.
Назначение это некоторых людей удивило. Назначили именно такого, какой в прежние времена своим поручителям с удовольствием загонял бы иголки под ногти. Именно такого отыскали и управлять собою поставили – рехнулись, что ли? А ничего, говорили мамки с няньками, это мы нарочно такого нашли! Мы так нарочно удумали, чтобы офицера госбезопасности поставить во главе демократического государства! А? Каково? Парадоксально, а? Так ведь это, ахали скептики, противоречие какое получается. А никакого противоречия, говорили мамки с няньками, именно гэбэшник и есть в современном мире воплощение демократии. Поглядите на Пиночета и Франко! И скребли в затылке скептики, и смотрели, как молодцевато чеканит шаг по кремлевским коридорам лысеющий блондин.
«О, этот парень у меня на крючке! – говорил Дупель Балабосу, глядя вслед лысеющему блондину». – «Еще бы! – говорил Балабос Дупелю, – я его крепко держу! Столько лет у меня на зарплате сидел, и на мелкие шалости я глаза закрывал – пусть растет парнишка». – «А то, что он гэбэшников себе в помощники тянет, думаешь, ничего?» – «Отлично даже! Наши кадры, проверенные!» И умиленно смотрели они, как кремлевские коридоры заполняются сотрудниками госбезопасности. Вот и министром обороны стал офицер госбезопасности, вот и министром внутренних дел стал офицер госбезопасности, вот и оскандалившегося премьер-министра сместили, чтобы посадить нового премьера – гэбэшника. Тот, конечно, тоже не бессребреник, но человек с погонами, приличный. «Ну не странно ли получается, – говорили иные граждане, – мы демократическое общество строим, а управляют им гэбэшники. А нас учили, они против демократии. Чудно как-то». – «А ничего, – отвечали им стратеги и прозорливцы, – крепче запрут – покойнее спать будем: никто не покусится на краденое. С такими-то управляющими наша свобода как за каменной стеной». И улыбались друг другу мамки с няньками, пока офицеры госбезопасности занимали один кабинет за другим. И смотрели, как змеится по кремлевским коридорам череда офицеров – последнего, демократического призыва. Самураи либеральной идеологии, наемники демократии, они множились день ото дня, а купцы и мамки с няньками только жмурились от удовольствия. «Никуда офицеры эти от нас не денутся – это ведь мы их назначили! И разве генерал Пиночет не воплощение прогресса? Обыкновенный управляющий – назначили его, когда потребовалось, он и вывел Чили к свободе». – «Так он же генерал, – ахали скептики, – разве генерал к свободе выведет?» – «То-то и оно, что генерал он приватизированный, – разъясняли им. – Поймите, в то время, когда все ценности приватизируются – а что и есть демократия, как не приватизация общественно-государственных институтов: морали, идеологии, веры, – мы и армию, и генералов давно приватизировали. И наш блондин даром что на волка смахивает, он же наш, карманный. Ведь и Владик Тушинский, и Дима Кротов, да и сам Борис Кузин – главные идеологи реформ – кандидатуру одобрили: им, что ли, культурологам и мыслителям, бюджетом да налогами заниматься? Еще чего не хватало! Остался пустяк – убедить население, чтобы они за нашего офицера проголосовали, ну да ничего, подработаем этот вопрос. Народ должен понять: мы им не диктатора сватаем – администратора!»
«К тому же, – говорили мамки с няньками, – теперь во всем мире так: люди умные назначают стране управляющего – строгого, но послушного. Противоречие есть, но вся современная жизнь соткана из противоречий. На искусство поглядите: там такие парадоксы – ахнешь! Именно это противоречие выражает черный квадрат авангардиста Малевича. Декларация свободы от стереотипов, которая является демонстрацией регламента, – вот что должен увидеть в этом холсте врач-психиатр, и только. Можно использовать этот опус для психиатрического теста: пациенту показывают жестко ограниченную фигуру – воплощает она свободу? Воплощает, и не надо спорить!»
VII
Однако же людям свойственно спорить именно по пустякам. Как ни странно, столичные интеллектуалы спорили именно по поводу черного квадрата украинского авангардиста, а не по поводу назначения офицера госбезопасности главой демократического государства. Люди мыслящие оказывались по разные стороны интеллектуальных баррикад – будто не было в обществе иных поводов выяснить отношения, будто различия между банкирами и нищими, беженцами и рантье, мертвыми и торговцами оружием – будто бы разница эта была не столь существенна, как полемика вокруг черного квадрата. И каждый – каждый! – имел свое мнение. Это погасшее солнце, говорил один. Нет, это флаг свободы, говорил другой. Это закрытие искусства! Нет, это его открытие! Не обошел стороной этот спор и Рихтера с Татарниковым. Таковы были характеры у Соломона Моисеевича и Сергея Ильича, что какую простую пустяковину ни спроси у них, ну, допустим, в чем смысл черного квадрата, нарисованного украинским прогрессистом польского происхождения, – и вы получите противоположные ответы. Соломон Рихтер возбудился и сказал, что черный квадрат – это нимб Иуды. А Сергей Татарников ответил так: «А почему я должен, извините, гадать, что хотел сказать тот или иной недоумок? Мой сосед по Севастопольскому бульвару как напьется, так непременно в лифте испражняется. Прикажете его действия анализировать? Вольно вам копаться в таком, простите, дерьме. А мне психология дегенерата неинтересна».
И одновременно столь много общего было в характере знаний двух профессоров, что стоило спросить их о вещах более существенных, ну, скажем, о структуре римской администрации, как оба они принялись бы рассказывать примерно одно и то же. И тогда слушатель поразился бы согласованности их речей и сходному движению мыслей. Именно такой разговор и завязался между ними под влиянием опубликованных предвыборных воззваний. «Поглядите-ка, Сергей, – заметил Соломон Моисеевич, листая газету «Дверь в Европу», – партия Тушинского, партия Кротова, даже некий Петр Труффальдино организовал партию!» – «Партию масок, полагаю? – вставил ехидный Сергей Ильич, – или кукол?» – «Удивительно, сколько партий! – продолжал Рихтер. – Неужели Россию ждут свободные демократические выборы, такие же точно, как и на Западе? Поверить невозможно». – «А с чего это вы взяли, что понятие “демократичный” непременно обозначает “свободный”? – отвечал Сергей Ильич. – Со времен Каракаллы это уже не означает ничего внятного: удобная форма управления, и только. Отличается от тирании методом оболванивания населения и более ничем». – «Верно, Сережа, но разве эдикт Каракаллы изменил природу демократии? Ловкий трюк, не более, но идея свободы здесь ни при чем». Впрочем, Рихтер и Татарников сошлись на том, что эдикт Каракаллы от 212 года представлял определенный рубеж в западном администрировании. Формально уравнивая права всех граждан империи (и римлян, и тех, кто населял варварские провинции), он не создавал опасности для процесса преемственности власти, поскольку императорский Рим уже не зависел от народного мнения: пусть хоть варвары, хоть даже и рабы получили бы право голоса – никак власть от этих голосов уже не зависела. Передавалась власть практически по наследству, а свободные выборы шли своим чередом, и одно другому не мешало. Согласились ученые и в том, что эдикт симулирует общественное управление, создает иллюзию прав там, где права не играют роли. «А цель у эдикта была иная, – заметил Татарников, не упускавший случая покопаться в низменной природе человека, – заставить варваров платить те же налоги, что платят свободные граждане. Почитайте Диона Касия – там все точно изложено. Такие же ворюги, как и сегодня, обычное дело». – «Вы полагаете, – говорил Рихтер в тревоге, – что они задумали очередное зло? Но наличие десятка свободных партий говорит об успехе демократии, не так ли?» – «Взрослый же человек, – огрызался Татарников, – сами историю знаете. Для чего создают много партий? Чтобы ни одна не работала – а зачем еще? Для работы России всегда и одной партии хватало.
– Много партий! – раздраженно продолжал Сергей Ильич. – Это что! А много политических систем – не хотите ли? И все как на подбор демократические! Ну, додумались, что демократия – венец развития, и славно: давайте строить! А вот какую? Социалистическую или капиталистическую? С частной собственностью – или без нее? А ведь обе – демократии. Еще рабовладельческая была – и тоже демократия. А еще федеральная демократия имеется, и корпоративное государство Муссолини пробовали, да и Гитлер народным голосованием избран. А Сталин что, не демократ?»
«Позвольте», – Соломон Моисеевич поднимал брови.
«Послушайте, Иван Грозный лагерей не построил не потому, что гуманист был, – просто действовал в одиночку, а Сталин – демократ и опирался на массы. Мы с вами, Соломон, если разобраться, в своей жизни ничего, кроме демократии, и не видели: весь двадцатый век – одна сплошная демократия. Только никак не договорятся, какой способ для оболванивания населения самый действенный».
Соломон Рихтер возражал другу:
«Демократия, – говорил он, – сама из себя благо не производит. Только глупцы стремятся к демократии как к благу. Демократия способна законодательно поддержать мораль – если мораль в обществе существует. Да, – возвышал голос философ, – если утвердить цель истории, тогда демократия приведет общество к цели! Но если мораль отменили, а думают, что демократия есть мораль сама по себе, тогда плохо дело. Именно это имеет в виду Платон, говоря, что демократия движется к тирании».
«Соломон, – и горлышко бутылки звякало о стакан в руках Татарникова, – спорим мы о пустяках. Ну где сыскать такое правительство, чтобы было моральным? Философы, что ли, править будут?»
«Полагаю, – высокомерно отвечал Соломон Рихтер, – другого способа нет».
«Ах, – Татарников прихлебывал из стакана, – поговорим лучше о вещах существенных».
Однако ученые в экономические дебаты не вдавались. Подогревая эмоции друг друга, они, как обычно, сплетничали о политике, ругали культуру, так протекали их беседы – в спорах по пустякам, но в полном согласии по поводу вещей существенных.
Иное дело, следует ли относить к разряду вещей существенных такие понятия, как выбор правительства и т. п. Возможно, и прав был Сергей Ильич Татарников, равнодушно относившийся к собственной судьбе и к государственному строительству. С равнодушием и цинизмом говорил он, что развиваться демократия не может, поскольку демос к развитию не способен, а развитие демократии – сплошное жульничество. На всякое демократическое новшество смотрел он презрительно, голосовать не ходил и вел себя наплевательски. «Выбрали они уже нам царя, – говорил Татарников и прихлебывал водку, – не сомневаюсь, выбрали. Так зачем ходить, голосовать? Уже, наверное, и назначили, и не удивлюсь, если такую мерзость назначили, что и на фотографию смотреть будет тошно». – «Так ведь партий сколько, – волновался Рихтер, – давайте мы с вами, Сережа, за Владислава Григорьевича Тушинского пойдем голосовать – он, мне кажется, человек ответственный». – «А Дмитрий Кротов? – интересовался Татарников, – этот вам чем не угодил? Давайте за него проголосуем. Или хоть за этого, за Труффальдино. Вот оно, развитие принципов Каракаллы – теперь не только все варвары могут голосовать, но и выбирать можно каждого, да что толку?»
Действительно, возможностей было много, может быть, излишне много. Уже и волновались некоторые свободомыслящие граждане: как бы нам не распылить свои голоса между всеми либеральными партиями – ведь отдадим пять процентов Тушинскому, десять – Кротову, три – Труффальдино, а в итоге ни один не наберет нужного количества голосов. И раздавались призывы консолидировать лидеров доброй воли под одним флагом. Но – а как же свобода? А личное мнение-то как же? И терялись либеральные граждане, чему отдать предпочтение: плюрализму ли взглядов – или консолидации таковых? Что есть демократия? Граждане же нелиберальные, обычные, заурядные обыватели смотрели на все равнодушно. Упреки Рихтера в бездеятельности Татарников принимал спокойно, уподобляясь большей части российского населения. Людям в целом было безразлично – и что с ними сделают, и какая власть в стране, и сколько зарегистрировано партий, и куда в целом движется держава. А какая разница, говорили эти равнодушные, кого президентом поставят? Все одно: что они с нами захотят сделать, то и сделают. Что толку суетиться? Только галоши потеряешь. Нет, как же можно! – убеждали их иные сознательные граждане, а пуще прочих мамки с няньками, – как же можно так халатно? Ведь у нас демократия! Власть-то теперь наша, общественная! Кого хотим, того и назначим! Голосуй – и все тут! За кого? Да за кого хотите, за того и голосуйте, хоть за Тофика Левкоева! Не хотите за Левкоева, тогда за этого вот голосуйте, ну, как его, ну такой симпатичный, из бандитов. Да он и не бандит вовсе, ну какой он бандит, скажете тоже. Так, пару-тройку олухов кирпичом тюкнул, так это когда было! Он же все-таки не диктатор какой, не Чаушеску, не Милошевич! Мы вам не приказываем, вот чего нет, того нет. Просто вот любого на улице выберите – и за него голосуйте! Свобода! Демократия! Однако люди скептические смотрели на эти широкие возможности с сомнением: мол, где-то здесь подвох. А мамки с няньками их агитировали, убеждали: ну зачем вас, сирых, обманывать? Какой нам с вас прок? На колбасу вас не пустишь, какая из вас колбаса, а что еще с вами путное делать? Решительно нечего. Живите, голубчики, своей частной, приватной жизнью – мы разрешаем. Мы вас бережем, не то что недемократические сатрапы.
Тут содержалось, правда, известное лукавство. Мирное население и впрямь не представляло интереса для власть имущих в эпоху тоталитарных диктатур. То есть, разумеется, за его счет и на его костях строили города и пирамиды, устраивали оргии и проводили парады, но само оно, мирное население, мишенью тиранов не было. Ему ущерб наносить никакого резона нет, разве так, по оказии. То, что египетский фараон гробил своих подданных, или то, что Петр Первый уполовинил население земли русской, не являлось само по себе сознательной диверсией – просто так уж получилось, и все тут. Не нарочно же, в самом деле, фараон уничтожал египетских землепашцев? Некогда Гамлет, провожая глазами войска Фортинбраса, задавался вопросом, правомерно ли его бездействие ввиду очевидной активности солдатских масс, идущих умирать без причины. Однако ему бы и в голову не пришло обвинить норвежского коллегу в нарочитой жестокости к своему народу. Население использовалось как материал для наполнения костюма власти, и спрашивать население о том, хочет оно лезть в костюм или нет, никто не собирался.
VIII
Поскольку народонаселению обидно сознавать, что с ним не считаются, и народ волнуется и бурлит, люди ответственные ввели иную форму управления, не ущемляющую прав насилуемого. Эта новая для Европы форма управления не была по сути своей новой, но воспринималась массами как достижение прогресса. После панегирика демократии, произнесенного Черчиллем, принято считать именно этот общественный строй наигуманнейшим. У демократии много недостатков, значительно произнес потомок герцогов Мальборо, однако лучше этого строя не существует. Многомудрую сентенцию без устали принялись цитировать, воспринимая ее как конечное доказательство вопроса. Никто не отметил, что по бессмыслице эта сентенция в точности воспроизводит сентенцию ленинскую: «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно». Бездоказательное ленинское заявление давно принято высмеивать, однако то, что Черчилль сказал ровно такую же чушь, только не про марксизм, а про демократию, – отчего-то заметить не пожелали. Напротив, в высказывании пожелали увидеть честертоновский парадокс и наблюдение противоречивых политических реалий; его стали приводить как конечный аргумент в споре. Да, мол, воруют, убивают, режут (у демократии много недостатков, это еще Черчилль сказал), однако лучше-то строя все равно не существует (как сам же Черчилль и признал). Между тем сказанное английским премьером – полная неправда; демократия не есть наилучшая форма управления, не есть наигуманнейший строй и не есть достижение человечества. Если бы было так, человечество, единожды освоив эту форму управления, от нее бы не отказалось. В демократическом строе интересно совсем иное. Если во времена монархии на обреченное повиновению население внимания обращалось мало и уничтожалось оно скорее стихийно, нежели планомерно, то в демократические времена уничтожение населения стало одним из главных занятий властного регулирования.
Со времен воцарения самого прогрессивного общественного строя – то есть демократии – насилие над инертным мирным населением сделалось необходимым инструментом политической жизни. Если при династической монархии перерезать половину народонаселения, процесс передачи власти от этого не изменится. Поскольку те, кого режут, участия в передаче власти не принимают, то и резать их бессмысленно; разве что руку потешить. Однако если настроение мирных граждан влияет на то, кому достанется власть в государстве, – тогда имеет смысл вплотную заняться населением. Если бы народ, упоенный сознанием того, что ему доверили власть, задумался над вопросом, а что же бывает с теми, у кого власть имеется – то есть с наследными принцами, претендентами, герцогами и побочными детьми, – то у народа могли бы возникнуть неприятные предположения о собственной судьбе. Действительно, ровно на тех же основаниях, на каких Александр убил Павла, а Ричард душил детишек в Тауэре, стали расправляться с народом – а именно в интересах престолонаследия. Надо сделать так, чтобы население, выразив свободную волю, сделало своим повелителем того, кто им должен быть исходя из тех интересов, кои рядовому избирателю и не понять. Рядовой избиратель фактически должен своим собственным умом додуматься до того же самого, что уже решено людьми компетентными, выбрать ту же кандидатуру. Это нелегкая задача, но в соответствующих институтах привыкли с ней управляться. Надо добиться добровольного признания, стихийного волеизъявления? Запросто.
Первым из опробованных способов явились предвыборные агитации. Иные депутаты до сих пор стараются привлечь народ обещаниями. Неудобство данного метода состоит даже не в том, что обещания надо выполнять: само собой, никто этого делать не собирается. Неудобство состоит в том, что противник на следующих выборах может упрекнуть тебя в неисполнении предвыборных обещаний. Этот политический трюк стали применять повсеместно: каждый претендент на власть корил предшественника и пенял ему невыполненными посулами. Понятно, что и сам он в свою очередь давал обещания, которые также не собирался выполнять, и в скором времени сам делался жертвой этой логики: ему вменяли в вину клятвопреступление. Подобная политиканская практика извратила понятие политической метафоры. В самом деле, наивно предполагать, что, обещав покончить с преступностью, политик забросит прочие нужды и примется отлавливать мошенников. Он обещает искоренить преступность в некоем идеологически-генеральном виде, это такой троп речи, выдавать его за буквальное обещание есть политическая демагогия. Так и Ленина разбранили за то, что землю крестьянам он, несмотря на обещания, так и не дал. Так и Хрущеву пеняли на то, что коммунизм, против его обещаний, в стране за двадцать лет не построили. Так и Маргарет Тэтчер корили за то, что не всякий английский парень обзавелся собственным домом и машиной, как она то посулила. И еще того хуже: всякий сосед, любое иностранное государство стало заглядывать за соседнюю границу и подмечать соринки в чужом глазу. Капитализм принялся язвить социализм, напоминая о нереализованных планах, и наоборот: социализм стал клеймить капитализм за фальшивые обещания. Они посулили хлеб голодным? Ха-ха! И где тот хлеб? Мир народам обещали? Ха-ха-ха! И где был тот мир? С годами практика обещаний толпе, в надежде толпой управлять, оказалась уязвленной соседством критики невыполненных посулов. Дополнительное неудобство состояло в том, что количество и качество обещаний весьма ограниченно. Что можно пообещать человеку такого, чего не пообещает конкурент? И придумывают, работают ночами комиссии и штабы, но сколько ни придумывают, не могут ни на пункт обогнать соперника, у которого такие же штабы и комиссии, и тоже ночью не спят, глотают кофе, вострят карандаши, морщат лбы. Ну, чего бы еще такое им, сволочам, посулить? Начальные школы бесплатные? Обещали уже. Отмену налога на третий коттедж? Так ведь тоже обещали. Преступность снизить? Обещали. Давайте напишем так: преступность мы искореним. И писали, полагая, что вышли из положения, но такая же ослепительная мысль приходила в ту же ночь в голову конкурентам. Эта разъедающая общество пресыщенность обещаниями приводила к забавнейшим политическим казусам. Так, в ходе избирательной борьбы между правящим канцлером Гельмутом Колем и претендентом Герхардом Шредером тексты их предвыборных речей на радиостанции перепутали. Программу Шредера приписали Колю, а программу Коля – Шредеру. Никто этого не заметил, даже сами кандидаты, хотя впоследствии, когда директор немецкой радиостанции покаялся в грехах, его немедленно лишили работы за политическую халатность. Со сходной проблемой столкнулись избирательные штабы Дмитрия Кротова и Владислава Тушинского: выступив с программными речами, лидеры обнаружили, что сказали одно и то же, и их советники обязаны были внести ясность.
К сказанному следует добавить, что у жителя стран с развитой демократией действительно уже было многое из того, что кандидат был в состоянии пообещать. Это жителю Костромы или Конго можно посулить поездку в Париж, но трудно жителю Парижа посулить поездку в Кострому. Конечно, некоторых подобная перспектива и привлечет, но ведь не всех. В обещаниях следовало исходить из пожеланий граждан. А граждане желали одного: сделайте так, чтобы хуже не стало. Но политики продолжали обещать, другие – ловить их на лжи, и работа с общественностью заходила в тупик.
Тогда стратегию обещаний сменила стратегия просьбы. Можно воздействовать на гражданина, уверяя, что он будет жить лучше, но можно воздействовать, уверяя, что он живет настолько хорошо, что пора и другим помочь. Ничто не убеждает избирателя в его благополучии более действенно, нежели призыв поделиться благополучием. Лучший способ убедить, будто твое правительство – лучшее, это попросить о помощи для тех, кто не столь удачлив с властями. Так поступали в Западной Германии, призывая заботиться о Германии Восточной, то есть голосовать за канцлера Коля. Так поступали в России, призывая помочь Анголе, то есть не роптать на Брежнева. Так поступали в Америке, агитируя за помощь Южному Вьетнаму. Идея бремени белых не только согревала англосаксов, но давала результаты и в России, чье население особенно белокожим не назовешь, и даже среди обитателей Латинской Америки, уж и вовсе разноцветных. Чтобы избиратель проникся идеей сплочения вокруг лидера нации в целях помощи дикарям, надо избирателя слегка припугнуть. Надо объяснить: не сплотимся и не поможем, так завтра случится беда. Данный метод можно назвать шантажом. Однако так же, как и в уголовной практике, в практике демократических выборов наступил момент, когда шантажируемый привык к шантажу. Вы меня пугаете, сказал гражданин однажды, а ничего не происходит. Осточертела эта Ангола, на кой нам Вьетнам, знать не хочу Восточной Германии! Да задавись они со своими проблемами! Не до них.
Тогда на смену методу обещаний и шантажа пришел новый метод, более действенный. Он вытекал из двух предыдущих. Если условия существования общества таковы, что обещаний оно не воспринимает, надо изменить условия, чтобы потребность в обещаниях возникла вновь. Если общество не испытывает страха перед грядущим хаосом, надо страх разбудить. Эта посылка изменила стиль работы с демократической общественностью, заставила взглянуть на народ не как на субъект, который надо убедить, но как на полуфабрикат, из которого этого субъекта лишь предстоит сделать. Позволить инертности и самодовольству приватной жизни определять движение власти – что может быть губительнее. Времена диктатуры прошли, стало быть, требуется найти такую форму дидактического управления, чтобы она и гражданских свобод не нарушала, и результаты давала. Легко им было там, в греческих полисах, когда каждый знал каждого, а рабы в расчет не принимались. То есть, конечно, тоже непросто управлять, но далеко не так непросто, как в стране, конца и края которой не видно, население которой не считано, и притом каждый убогий алкоголик имеет право голоса не меньшее, чем Герман Федорович Басманов. А в Китае? А в Индии что прикажете делать? Проводить голосование в эдакой стране – это вам не афинский форум собрать. И в Афинах, как известно, случались накладки, а поди попробуй провести голосование среди тех, кого в жизни своей не видал, никогда не увидишь, да и видеть-то их, по правде говоря, не мечтаешь. И регулировать эту самую демократию, то есть создать у людей уверенность, что это именно они принимают решение, но в то же время исключить нежелательные решения – вот это и есть насущная задача демократического общества. Если общество более не желает проявлять сознательность – его следует поставить перед необходимостью это делать. Мягко, но подтолкнуть. Лучшим средством для этого, разумеется, является война.
Именно соучастие в убийстве себе подобных является искомым методом управления свободными гражданами. Этот метод по простоте и действенности ничем не отличается от методов управления бандитской группировкой. Каждый член общества должен подтвердить целесообразность умерщвления людей из другого общества – и покой внутри организации обеспечен. Для бесперебойного функционирования свободного общества перманентные убийства должны происходить на окраинах империи, лучше – в землях, удаленных от очагов цивилизации, в варварских краях. Варвары (в принципе, никчемные существа, интересные лишь для этнографа) находят свое предназначение в современном мире в том, что способствуют росту самосознания цивилизованных граждан. Их существование следует поддерживать, не истреблять их до конца, но лелеять эту популяцию: разводим же мы свиней и кроликов, не вырезаем поголовно. Не само убийство варвара интересно, но тот воспитательно-возбуждающий эффект, который убийство приносит. Разве для чего-нибудь еще нужно убивать дикарей? Не на мясо же их режут? Жемчуг они и так отдадут, никуда не денутся. И с нефтью тоже расстанутся, если попросить хорошенько. И соблазнительной мишени для пушек их тощие тела не представляют; подлинной целью войны является собственное государство, а не далекие дикарские поселения, где с горячей водой перебои, спутниковое телевидение отсутствует и прогрессивная печать не в чести. Прогрессивный министр и либеральный депутат разводят руками и вопрошают избирателей: неужели вы думаете, что нам нужно бомбить эти далекие пустые земли? Ну, помилуйте, для чего же тратить такие полезные бомбы? Одна бомбочка миллион стоит, и деньги, между прочим, так просто не даются. На кой ляд нам бомбить коряги и саксаулы, разбазаривать финансы, говорят они – и говорят сущую правду. Век бы этих пустырей не видать. Но ведь иначе вас, сонных потребителей, не возбудить, хотят добавить с трибуны министр и депутат – но не добавляют из деликатности. Война есть самое надежное средство для зажигательной избирательной кампании. Как еще сообщить инертной массе избирателей необходимое для прогресса ускорение? Сидят они, полусонные обыватели, у телевизоров – и ничего-то им не нужно, и в избирательный участок они не идут, и свободную волю не выражают. Так хоть в телепрограмме показать им справедливую бомбежку далеких городов, хоть такими методами – но разогнать ленивую кровь! Пусть ценят свой уютный уголок, пусть видят, что мир в опасности, пусть – для стимуляции ленивого кровообращения – любуются, как чужая кровь литрами выливается в песок. Что, мало, не подействовало? Ну, посмотри еще, переключи канал, там тоже режут. Вот как разворотили живот, оторвали ноги, вот погляди, хлещет и пузырится красная струя – это не вишневый сок, а самая натуральная кровь. Конечно, иной телезритель нет-нет да и всплеснет руками и воскликнет: ах, не надо бомбить этих смешных человечков! Может быть, лучше построить в их землях школы и обучить их основам цивилизации? Прекраснодушное возражение это недальновидно. Неразумно устранение феномена варварства, для чего превращать варваров в цивилизованных людей? Чем будет питаться тогда дихотомия (варварство-цивилизация), любезная сердцу просвещенного мыслителя? Другое дело, что границы цивилизации неуклонно раздвигаются, тесня варваров (здесь не последнюю роль играет политика риелторов: где прикажете летние резиденции строить?), – но все же запас противников следует регулировать не менее тщательно, чем запас бордо в погребе.
Использовать войну в воспитательных целях следует дозированно: не солдата, в конце концов, растит открытое общество, но гражданина. Однако использовать войну для укрепления сознания необходимо – сильное средство, но полезное. Так некогда начинали просвещенные люди войну во Вьетнаме, так сделал некогда президент России, когда мамки с няньками убедили его начать войну в Чечне. «А шта? – сказал он, качая мясистой своей головой, – дело, панимаешш, нужное, верное решение». И преемник его, столкнувшись с той же самой поднадоевшей проблемой – как объяснить народу его же собственное благо? – не мог отвернуться от древнего метода. И американский президент, уж на что мирный и обаятельный человек, можно сказать, джентльмен, покачал головой и сказал: надо бомбить. Ну, если надо – что уж тут рассуждать.
Искомым способом управления демократией является война, однако это средство, к сожалению, имеет недостатки. Известным недостатком является возможность потерь среди командного состава. Собственно говоря, в современной войне с варварами эта проблема практически сведена к нулю, однако есть иная опасность, серьезнее. При очевидной нехватке противника может случиться так, что варварские земли станут необходимы сразу двум или трем демократическим государствам – в качестве катализаторов гражданского общества. И если интересы сразу двух открытых обществ окажутся связаны с одной и той же варварской землей, система управления гражданским обществом может дать сбой. В таком случае в ход будут пущены те самые предвыборные технологии, что так усложнили процедуру простых выборов. Подобно двум кандидатам, что соревнуются на трибуне, давая обещания, два демократических государства станут соревноваться на варварской земле. И подобно тому как иной кандидат уличает соперника в неисполнении обещаний, так и иное демократическое государство станет возмущаться своим демократическим коллегой: с чего же это он варваров режет, не люди они, что ли? Зачем живых людей убивать? – возопит иной правитель. Разумеется, и завоевателю варварских земель, и его оппоненту совершенно понятно, что варвары не люди и существуют именно затем, чтобы на их примере вразумлять просвещенные народы. Однако демагогические приемы в споре весьма действенны. Подобный крен в гуманизм безмерно осложняет политическую жизнь, особливо же вредит предвыборным кампаниям. Иными словами, современная предвыборная борьба допускает двоякое использование варварских земель: как объекта бомбометания, так и объекта защиты. Этот низкий трюк, справедливо поименованный некоторыми журналистами как двойной стандарт, совершенно спутал карты. Еще вчера Палестину защищали от нападок Америки, а завтра от нее отказываются, поскольку именно Америка с ней и дружит. Сегодня воюем на стороне Афганистана против России, а уже завтра воюем против Афганистана. Сегодня Ирак нам первый друг в борьбе с Ираном, а завтра – прямо наоборот. Латиноамериканские режимы осуждаем, потом поддерживаем, потом опять осуждаем. Албанских сепаратистов поддерживаем, а колумбийских осуждаем – тут у некоторых недальновидных политиков голова кругом пойдет. Поскольку основным оружием цивилизации (наряду с крылатыми ракетами и напалмом) является мораль, либеральные политики столкнулись с особенностями этого оружия. Мораль, подобно ракетам, увы, может использоваться обеими сторонами – и равно поражает и левых, и правых. Собственно говоря, наряду с запретом на нервно-паралитические газы и отравляющие вещества следовало бы ввести запрет и на моральную аргументацию – или, во всяком случае, ограничить допуск к таковой. Однако, коль скоро запрета пока еще нет – положение непростое.
Опасность заключается, конечно же, не в головокружении недальновидных политиков и даже не в уколах совести, но в том, что война на окраинах цивилизации рано или поздно сталкивает друг с другом и цивилизованные народы, как это, собственно, и происходило всегда. Война внутри цивилизации неизбежна, это произойдет, когда варварские земли будут съедены окончательно, однако хорошо бы этот эпизод отодвинуть как можно дальше в будущее. Иными словами, война как способ управления свободным миром необходима, польза от нее очевидна, однако недобросовестное использование моральной аргументации мешает проводить этот метод планомерно. Все в войне хорошо, плохо одно: война порождает моральные аргументы, создает правых и виноватых, причем в неконтролируемых количествах. Войну нельзя в полной мере подчинить, как подчиняешь производственный процесс на приватизированном предприятии. Но управлять обществом все же нужно. Что делать прикажете?
Как более мягкую форму войны, латентную форму, так сказать, – просвещенное общество избрало террор. И едва эта прогрессивная мысль посетила державные головы, сделалось ясно: выход найден.
Подобно приватизированному генералу армии и приватизированному офицеру госбезопасности, террор отражает высшую стадию демократического развития – приватизированную войну. В обществе, которое приватизировало веру и убеждения, приватизировало экономику и эстетику, – в таком обществе приватизация войны оказалась закономерной. Для этого были прямые основания: умело организованный террор обладает всеми положительными качествами войны, однако не ввергает общество в столь сокрушительные расходы и не ссорит с соседями. Как и война, террор выполняет все три важные для демократии задачи: провоцирует волеизъявление, катализирует этический ресурс, омолаживает организм общества, но делает это не беспорядочно, а только там, где необходимо. Умело внедренный в общество, террор распределяет необходимую дозу страха столь аккуратно, что мнение избирателей формируется практически само собой. Здесь важно не переборщить с жертвами, но и недобрать нужный процент жертв тоже весьма опасно. Террор употребляется властью аккуратно, чтобы не слишком задеть право граждан на досуг и частную жизнь.
Демократическая форма власти по определению своей сущности должна иметь дело с разными и противоречивыми укладами и образами жизни, которыми надо управлять. Поскольку основной демократической ценностью провозглашена приватная жизнь, не подлежащая подавлению, то лучшим решением для качественного управления такой приватной свободой явилась приватная власть. Не узурпированная власть, но именно частная, приватизированная власть, которая имеет такое же право на досуг и возделывание своего сада, что и каждый из ее подданных. Мы не трогаем вас, говорит власть своим гражданам, а вы уж не трогайте нас. Возделывание своего сада, личная вера, собственные идеалы и убеждения – это мы вам разрешаем, не так ли? А у нас тоже есть свои личные дела, привязанности и игрушки. Нефть или там какие-нибудь ценные бумаги.
Частная жизнь правительства и частная жизнь свободных граждан иногда пересекаются – например, во время больших войн. Гражданин ждет от государства простой вежливости: если его, гражданина, собираются убивать, призывать в армию, лишать колбасы, его должны поставить об этом в известность. Однако частная приватизированная война изобретена для того, чтобы решать те же проблемы, что и война большая, но в партикулярном порядке, в узком кругу заинтересованных лиц. Если войны, организованные тираниями, носят тотально-губительный характер, то демократические приватизированные войны проводятся с хирургической чистотой. Если смертоубийство, учиненное тиранами (репрессии Сталина, лагеря Гитлера), не знало меры и границ, то сдержанный демократический террор в целях улучшения генотипа нации (как это делалось в Латинской Америке или в Штатах во времена маккартизма) всегда дозировал действия и палку не перегибал. Общество приводится в состояние искомого для удобства управления возбуждения, общество пробуждается от спячки, но зачем же всех подряд калечить?
Следующая задача террора – это решение частных, внутрисемейных конфликтов, которое никого не должно беспокоить. Когда в правительстве Миттерана один за другим погибают министры и стреляется премьер, разве это касается частных лиц, возделывающих сад в Нормандии? Когда в процессе дележа партийных денег пара-тройка русских генералов да пяток партийных бонз кончают с собой и падают из окон, разве это должно волновать обывателя из Челябинска? В конце концов, делят не его деньги, а партийные, а если пожилым людям приспичило из окон скакать – это их частное дело. Ну, избрали нового демократического президента на Украине, а некий министр взял и покончил с собой: пальнул в себя сразу из трех пистолетов. И что, есть нам до этого дело? Никакого совершенно. Население занято своими делами, а власть – своими; войны ведь нет.
И наконец, наивысшая форма демократического управления – это террор, являющийся частной инициативой граждан: его население ведет против самого себя. В этом случае организуется агрессивное меньшинство, которое наудачу уничтожает прочих представителей гражданского населения, выполняя те же функции чистки, что и правительство, но обладая свободным правом отбора. Хотя данный метод чреват случайностями и ориентирован на убийства не избранных, но любых, во многом этот метод более практичен. Развитые демократии, перепробовав разные способы, остановили выбор на нем как наиболее плодотворном.
Отличие от практики знаменитых сталинских чисток или гитлеровских зондеркоманд, уничтоживших интеллектуальный цвет нации (т. е. врачей, полководцев, писателей, ученых), состоит в том, что сегодня нация бережет себя, попусту талантами не разбрасывается. В жертву приносятся люди, в сущности, малозначительные. Если выражение «пушечное мясо» имеет в виду некий обобщенный социальный продукт, непригодный правителям ни на что другое, кроме как использование на войне, то этот же обобщенный социальный продукт в наши дни стал употребим в ходе нужд избирательных кампаний, формирования общественного мнения и пр. Этот продукт условно можно поименовать «мясо избирательных урн». Стимулирование общественного организма требует жертв. Некий процент общества необходимо уничтожить методом частного террора, для того чтобы прочие разумно сориентировались в выборе правителя. Для общества должно было в известном смысле быть утешительным, что жертвами становятся люди, так сказать, простые – населяющие блочные дома на окраине, толкающиеся в подземке в восемь утра – словом, люди незначительные, и жертвы эти не наносят ущерба интеллектуальному потенциалу государства. Небось не Тухачевского с Бухариным взрывают, не врачей-вредителей. Кого, если уж называть вещи своими именами, убьет взрыв в метро в восемь часов утра? Ну не поедет же в восемь утра в метро отец Николай Павлинов. Ни за что не поедет, даже не просите. Да и Леонид Голенищев тоже не поедет на работу в толчее в этакую рань. Маловероятно, знаете ли. Может быть, взрыв этот настигнет Аркадия Владленовича Ситного? Очень сомнительно. Взрываются блочные дома на окраинах, а кто в них живет? Да так себе, дрянь народец. Люди, представляющие ценность для нации, ни в Жулебино, ни в Коровино-Фуняково не обитают, делать им там нечего. Уж если поселился человек в Жулебино, то один черт – взрывать его или ждать, пока сам подохнет. Существует биологический закон, согласно которому волк загрызает не самого крупного, быстрого оленя, но, напротив – больного и никчемного, такого, какой и убежать не сможет. Волк выступает как объективная сила, выбраковывающая худших, он, по известному выражению, санитар леса. Как это ни цинично звучит, террористы в известном смысле выполняют роль санитаров городов. На эту роль террориста определило демократическое общество: общество нуждается в нем, как в предвыборном агитаторе и дворнике.
Ну какую ценность для общества представляет житель блочного микрорайона, влекомый на работу поездом метро в восемь часов утра? Если призадуматься, так ровно никакой. И может быть, самый яркий момент в его никому не интересной биографии и состоит в том, что он отдал свою жизнь за демократию, за победу экономического прогресса, на посрамление тоталитарных идеологий. Не за кровавую собаку Чаушеску сложил он свою молодую голову, не за коммунистического спрута Милошевича, но за свободу вероисповеданий и совести – вот за что! Он, вероятно, и не мечтал о том, что его жизнь приобретет хоть какой-то смысл для истории. А вот, гляди-ка ты – приобрела! Ему еще и памятник, того гляди, поставят, и на мраморе имя его высекут. Вероятно, он игнорировал выборы, пренебрегал своими гражданскими правами, но, если договаривать до конца, то именно погибая в результате теракта, он и отдал свой голос в защиту демократии. Ему и не снилось проявить такую сознательность – но вот проявил же!
Подобное – аккуратное, но действенное – регулирование демократией стали применять в тот благословенный час Европы, когда был достигнут пик гражданских свобод – т. е. в золотые шестидесятые годы. Никакой диктатуре, никакому тирану не доверило бы общество управлять собой: оно возжелало само управлять своей частной жизнью и частной свободой. Никакой философии общих идеалов и правил не хотело свободное общество, оно призвало частных граждан – террористов именно на тех же основаниях, на каких призвало пылких юношей-интеллектуалов, чтобы те разрушали основы тотальной философии. Общество свободных демократов родило свою приватную философию, свою приватную эстетику, приватную экономику, приватные идеалы и приватную войну. Ни один из этих элементов не был случаен, ни от одного из них нельзя было отказаться.
И когда по окраинам столицы стали греметь взрывы, а несдержанные на язык журналисты (взять хоть неуемного Виктора Чирикова) принялись пророчить конец света, а взволнованный Соломон Моисеевич Рихтер схватился за сердце – люди циничные и рассудительные поняли: начинается предвыборная работа, и нечего сетовать – такая уж она, эта работа. Те граждане, что еще со сталинских времен привыкли видеть во всем руку власти, подозревали мамок и нянек в организации смертоубийства. «Ах, это все они! – восклицали эти нервные граждане, – это они так жестоко поступают, чтобы народ возжелал управления твердой рукой. Это нарочно для того сделано, чтобы мы голосовали за полковника с волчьим лицом». – «Да нет же, – отвечали им люди рассудительные, – это сама демократия так собой управляет». И поди разберись, кто прав.
IX
Был ли определенный ответ на этот вопрос? Пожалуй что и был – надо бы обратиться к Ивану Михайловичу Луговому, возглавившему предвыборный штаб нового кандидата в президенты. Может, он и ответил бы, но дел было слишком много у Ивана Михайловича в эти дни: он то ли вопрос не услышал, то ли отвечать не пожелал – отмахнулся своей единственной рукой, мол, не до вас. И действительно, страсти кипели. Тут вам и прокламации от Дмитрия Кротова, и громовая речь Владислава Тушинского, и Петр Труффальдино организовал концерты в глубинке – агитировать за свободную мысль. И уж вовсе к удивлению граждан появились в потрясенной столице плакаты с изображением хорька, поименованного кандидатом от блока звериных меньшинств. От какого такого блока, недоумевали тугодумы. Да вот как раз от этого – от блока униженных и оскорбленных. Так ведь это же, простите, животные. Ну и что же из этого? Не люди они, что ли? Ну, знаете ли. И терялись, и не находили что сказать, топтались перед плакатами. Но ведь и признать же надо: свобода – она только тогда свобода, когда без цензуры и лимитов. Да, можно запретить хорьку баллотироваться – но не является ли это первым шагом назад, в сталинские лагеря? К тому же художественное сообщество кандидатуру хорька поддержало – Яков Шайзенштейн съезд партии провел, Снустиков-Гарбо собрал подписи. И что важно – весело прошло собрание, заражались избиратели радостью.
Здесь важно отметить важную для демократического общества особенность: приватные институты (как то: искусство, экономика, бизнес и т. п.) занимаются своими собственными делами и не вырабатывают общей декларативной линии поведения. Искусству, этому бастиону свободы, как раз доверено противостоять любым проявлениям декларативности. Были времена – тоталитарные, скверные времена, – когда художник вмешивался решительно во все. Своим, часто некомпетентным, суждением он внедрялся в частную жизнь правительства и государства. Излишне говорить, что подобная шумиха свободному обществу ни к чему. Вносить смуту в непростую работу демократических институтов – зачем? Каждый пусть занимается своим делом. Некогда Сартр поднимал на стачки рабочих «Рено», а Хемингуэй агитировал помогать интербригадам в Испании. Много ли проку было в их суете? Да, скинулись на революцию профсоюзы – послали испанским рабочим половину того, что в неделю тратили на кино. И агитация Сартра даром не пропала: откликнулись рабочие заводов «Рено», провели забастовки протеста. Но не в защиту пролетариев всех стран выступили они. Забастовщики предложили на грязную работу определить паршивых инородцев, братьев по классу из недоразвитых стран, вот из тех самых «всех стран», с которыми им было предложено объединяться. Спрашивается: нужны были Сартр с Хемингуэем? И без них достигли бы тех же результатов, но вот суесловия было бы меньше. И разве в этом призвание художника – митинговать? И вот благословенное время, то самое время, когда и формировались новые демократические институты Европы, обратилось от митинга и призыва – к абстракции. Так создавалась новая, свободная эстетика двадцатого века.
А Хемингуэй с Сартром? Даже барон фон Майзель, мужчина солидный и не склонный к зубоскальству, и тот в разговоре с бароном де Портебалем посмеялся, едва речь зашла о Хемингуэе. «Признаться, барон, – сказал барон барону, – я поклонник Хемингуэя, но только в том, что касается рыбалки. А его взгляды на охоту меня оставляют равнодушным. Другое дело – ловля тунцов; здесь, признаю, он знаток». – «А литературные трофеи?» – «Какие же? Нобелевская премия?» – и бароны засмеялись. Действительно, роль человека, который тужится сказать нечто пророческое, – а это решительно никому не нужно – жалка. Прикажете именовать эту жалкую деятельность – искусством?
От искусства потребовалось иное, а именно: обратить процесс творчества в нескончаемую шутку, чтобы только не помешать государству заниматься серьезными вещами. Частная жизнь у нас – и частная жизнь у вас, но ведь надо же и понимать, что одна другой рознь. Есть люди, которым по должности положено заниматься серьезными вещами, они не нам чета, дело делают. Вот они-то всерьез и займутся нашей судьбой, так не отвлекайте их, пожалуйста. Вытворяйте на художественной сцене что душе угодно, веселитесь, пляшите, красьте волосы в оранжевый цвет, а попу в зеленый, но не мешайте тем, кто отвечает за вас и кому надо сосредоточиться, чтобы понять: сегодня вас использовать на растопку или завтра. И искусство восприняло этот отеческий совет. Сделавшись поголовно шутниками, все сколь-нибудь серьезное в этом мире художники и мыслители отдали на откуп чиновникам и генералам. А те с достоинством приняли и понесли эту ношу. В вашей семье – свои заботы, в нашей семье – свои, у каждого своя приватная роль. И скажите на милость, разве это не разумное распределение обязанностей? Каждому – свое, как гласит мудрая надпись на известных воротах. Правитель пусть правит, а художник пусть шутит – ну чем не республика Платона? И чем худо пошутить? Шутка украшает жизнь. Ведь, право, есть над чем посмеяться. Разве повода не было? Смеялись над диктаторскими режимами, над дидактикой. Надоели моралисты довоенного образца, осточертела риторика. Нынче можно договориться с начальством о повышении зарплаты, а не строить баррикады. Пришла пора победившему демократическому среднему классу пожать плоды победы. И пошло веселье: зря, что ли, расправлялись с диктаторами? И не будет больше диктаторов, не будет: посмотрите, чему учит демократическая философия: любое утверждение возьмем да и сведем на нет, деструктурируем приказ, и все тут. Постмодернизм внедряли как противозачаточные таблетки: чтобы дурачиться без последствий.
И веселились безоглядно, бесшабашно! Прыгал в танце по венецианской гостиной Гриша Гузкин с Клавдией Тулузской – он только что сходил в консульство и отдал свой голос за Диму Кротова. Будет, будет в России время, когда править ею станет интеллигентный и адекватный молодой человек; вот еще немного подождем, да через восемь лет наверняка Димочка у нас президентом станет. Наливай тосканское! Скакал по редакции «Двери в Европу» Петя Труффальдино с нарисованными жженой пробкой усами, а лидер правых сил Дима Кротов аккомпанировал его танцу, барабаня в кастрюльку: им только что сообщили, что набрали они аккуратно одинаковое число голосов, по три процента! Ах, да разве лишь это! А праздник в ресторане «Ностальжи»! Владислав Тушинский отмечал свои восемь с половиной процентов широко, бурно – здесь были и Борис Кузин, и Олег Дутов, да кого только не было: и мыслитель Бештау, и правозащитница Голда Стерн – лучшие собрались люди. Вот они, вглядитесь – те, кто решает будущее демократии! Среди прочих выделялся депутат парламента господин Середавкин – личность значительная. Низенький, с утиным личиком, вытянутым в сторону собеседника, Середавкин лишь поверхностному наблюдателю мог показаться фигурой незначительной. Те же, кто знал его, говорили в один голос: орел! Либерал-шестидесятник, из той славной когорты, что была сформирована легендарным периодом хрущевской оттепели, из тех ответственных людей, что не считали возможным уйти в подполье, но старались работать и приносить пользу обществу там, где могли, – депутат Середавкин успел сменить десяток должностей. В темные брежневские годы руководил либеральным изданием – пражским журналом «Проблемы мира и социализма», отдушиной свободной мысли. Именно он привлек тогда к сотрудничеству лучшие умы застойной поры – Савелия Бештау и прочих. В дальнейшем, по мере либерализации общества иные места работы находились для Середавкина: член наблюдательного совета «Росвооружения» (в непростой период конверсии и постановки военной промышленности на широкие рельсы рынка), затем посол в Германии, спецпредставитель президента в ООН, ныне – заместитель Тушинского в либерально-демократическом движении интеллигенции. Кто-то мог сказать, что Середавкин есть типичный представитель номенклатуры: меняет одно государственное назначение на другое. Но как быть, если положиться буквально не на кого, а этот человек верен и умен? Вот и сейчас поговаривали, что должность ответственного за права человека в нашей стране (омбудсмена, выражаясь на западный манер) свободна: недоволен президент шарлатанами, ее занимавшими, – болезненным диссидентом Козловым да нервным писателем Присказкиным. И самое время поставить на эту должность проверенного временем Середавкина – то-то права у нас расцветут! Объединит Середавкин усилия с господином Тушинским, и воспарит над просторами нашей Родины гордая птица демократии – развернет свои крылья и будет летать взад-вперед, всматриваясь в мерзлые поля и степи, выискивая добычу! Победа! А если уж кто хотел увидеть подлинный праздник в лучших традициях русской интеллигентной вольницы, он должен был хоть краем глаза заглянуть в «Актуальную мысль». Там Яков Шайзенштейн и Люся Свистоплясова праздновали победу хорька – обошел хорек и Труффальдино с Кротовым, да и Тушинского обошел – десять процентов! Каково? Или это не свобода? Так веселились, такие репризы отмачивали, что иным и ввек не додуматься! Обзавидуется иной долдон на такую вольность и на этакий карнавал. И наутро, с похмельной головой, глотая пиво, интересовались: а кого избрали-то все-таки? Ах, этого, полковника. Ну правильно, вероятно, это и есть самое разумное решение – сейчас, на этом переходном этапе.
Все знали, что выборы пройдут именно так. Знали это заранее и Герман Федорович Басманов, и Иван Михайлович Луговой, знали и Дупель с Балабосом. Люди серьезные, они сами шутить были не склонны, хотя на шутки свободолюбивой интеллигенции смотрели благосклонно. А впрочем, и сами порой отпускали остроту – и, положа руку на сердце, разве на действительность можно было смотреть без улыбки? Либералы избрали полковника. Никто их не заставлял – они сами так решили. Действительно, вот ведь потеха!
Принцип взаимной партикулярности в отношениях населения и власти (то есть такое положение дел, когда и управляемый, и управляющий выступают как сугубо частные лица и не напуганы иерархией) нуждался в иронии. В самом деле, отношения тирана и рабов на шутку не настраивают – до шуток ли? Монархия шутку любит, но лишь одностороннюю – шут не дождется от короля ответной шутки. Неравенство всегда серьезно. Когда же в диалог вступают два паритетных партнера, взаимная ирония уместна: ирония удостоверяет равноправие. В демократическом обществе власть выступает как частное лицо, как директор-менеджер. С менеджером надо познакомиться и, познакомившись, сказать: отчего же нам не улыбнуться друг другу? Вы у себя в ведомстве начальник, а я у себя на кухне командир. Вы своим подразделением командуете – нефть, финансы, налоги, армия; а у меня другие войска в подчинении – кастрюлька да поварешка. И мы равны, как равны меж собой генерал от инфантерии и маршал авиации. Я вас выбрал, чтобы вы электричеством занимались и водоснабжение организовывали. Вы надо мной подшутите (горячую воду отключите), а я на вас карикатурку изображу. Демократия впустила в общественную жизнь шутку – и газеты заполнились карикатурами, шаржами, фельетонами. И разве газеты только? Современное искусство затем и существует, чтобы частные люди – избиратели и власть, абсолютно автономные субъекты, – нашли общий язык и сумели улыбнуться. Современное искусство и есть этот общий язык. Следует сказать еще более определенно: современное искусство есть своего рода шутка, уместная в разговоре между властью и народом. Демократическое общество решило сделать общий язык как можно более условным и ироничным, дабы избежать директив и призывов. Какой язык существует при тирании? Сверху вниз идут приказы, а снизу вверх славословия или проклятья: язык этот прост и груб. А демократия нуждается совсем в другом языке, веселом и легком. Таких словес наплетем, что тоталитарному приказу через эту путаницу нипочем не продраться. Так громко будем смеяться, что и приказов-то никто не расслышит. Ну разве не остроумная оборона?
X
В качестве иллюстрации к данному положению уместно привести диалог популярного критика Труффальдино и популярного художника Дутова. Их диалог именно и представлял собой тот специфический метаязык, способствующий общению.
– Коль скоро в нашем обществе важнейшей компонентой социализации является коммуникация, – говорил Труффальдино, – то наиболее адекватными сегодня являются те художественные произведения, которые провоцируют дискурс, способствующий коммуникативности двух полярных сингулярностей.
Любой другой собеседник растерялся бы от таких слов, Олег же Дутов расцвел в улыбке, заслышав знакомую речь. Буквы и звуки складывались в слова, которые обозначали для него знакомый предмет. Если какое-то слово он и не вполне понимал, все вместе эти слова создавали пленительную мелодию. Он готов был слушать эти слова бесконечно – ведь не всякий любитель музыки способен уследить за особенностями тональных и атональных чередований в произведении, а уж ноты читать точно не обязан. Но разве оттого, что он не знает нот, музыка менее пленительна? Дутов живо включился в беседу.
– Безусловным конструктом для сообщения сингулярности нужной векторности, – заметил Дутов как бы между прочим, – я считаю создание такого симулякра сингулярности, который бы имплантировал дискурс нетождественной себе субстанции во внеположенный ему объект.
– Однако, – продолжил мысль Труффальдино, легким кивком дав понять, что учел реплику собеседника, – конструкт симулякра актуален лишь постольку, поскольку симулякр не вполне однозначно адекватен экстраполярности объективного бытия. Иными словами, если допустить, что объективная социальная данность компенсаторным путем заимствует образную данность симулякра, конструкт симулякра неизбежно утрачивает свое имманентное значение.
Что ответил Дутов на это утверждение, не столь уж и важно. Важнее другое: собеседники наслаждались беседой, улыбались друг другу и были счастливы.
Сторонний наблюдатель бы растерялся: а что же они, собственно, говорят? В шутку или всерьез? Возможно, этот непосвященный и спросил бы: зачем они говорят на таком непонятном языке, если можно сказать понятно? Или он спросил бы так: зачем выдумывать специальный язык для общения, если сама действительность дает темы и слова? Или он спросил бы так: если единственный язык, на котором все могут договориться, язык непонятный и нелепый, то, вероятно, вся наша жизнь нелепа? Если все поголовно шутят, значит ли это, что ничего серьезного вообще не существует? На что похожа конструкция общества, которое идеализировало принцип деструкции? Шутка длится долго – но бесконечно ли? Допустим, мы все пошутили, в шутку избрали полковника госбезопасности президентом – это смешно или нет? Может быть, не смешно?
XI
А впрочем, так ли надо знать ответ на подобные вопросы? Может быть, и права Татьяна Ивановна Рихтер, что в сердцах говорила своему супругу: зачем думать, кто там правит? Кого избрали, того и избрали – и пропади они все пропадом! Зачем голову ломать, что с миром будет? Ты у себя в доме порядок навести не можешь, теоретик! Или, может быть, права была Елена Михайловна, сказавшая своему сыну Павлу: я всю жизнь прожила в семье Рихтеров и ни разу не улыбнулась. Все у нас в семье было так серьезно, даже молоко прокисало от скуки. Счастье для человечества – и не меньше. Я все ждала, когда они посмотрят на себя со стороны – и посмеются. Так и не дождалась. Неужели не могу я теперь порадоваться и посмеяться, благо еще не старуха?
И весь мир рассуждал примерно так же. Оставим серьезность в прошлом, говорил себе просвещенный мир. Оставим серьезность в хрестоматиях по истории, к черту скучные утопии. Нынче не время парадов, но время веселых перформансов! Догматиков мы прогнали, наняли прогрессивных администраторов, чтобы не забивать себе голову циркулярами. Пусть зубастый английский премьер, вороватый итальянец, русский чекист – пусть они работают, на то их и держим. Пусть, пусть вкалывают! Нас теперь не соблазнишь так называемым общим делом – дудки! Пусть они в частном порядке, в своей правительственной семье занимаются бумажками. Ну, бюджет или, там, оборонная промышленность – что там у них за дела? Вот пусть себе и решают. А мы у себя в семье своим делом займемся, в шарады поиграем. И демократический мир смеялся. И веселье, забытое во времена чопорных диктатур, охватило либеральное человечество. Прогрессивные мыслители сочиняли презабавные эссе и давали интервью в порнографических журналах. Открывались рестораны, и мужчины, переодетые женщинами, лихо отплясывали на высоких каблуках. Зажигались огоньки ночных клубов, язвили остротами конферансье, забавляли репризами поп-звезды, художники рисовали комиксы и делали уморительные проекты – смеялись решительно все. Разумно устроил демократический мир свои дела, оградил частную жизнь свою от внешнего мира, выборы правителей прошли удачно и здесь, и там, повсеместно назначили порядочных, проверенных администраторов, людей управляемых и мелких, отчего же не посмеяться. И выбранные администраторы тоже хохотали – разве чужды они здоровой иронии? Разве повода нет для смеха? Им отдали все то, что с кровью выгрызали для себя их предшественники; то, за что иные платили жизнью, им подарили, как хлопушку на Новый год. Не забавно разве? Народ – т. е. демократическое открытое общество – смеялся над правительством, а правительство – над народом. Мы посмеемся над ними, над этими смешными, в сущности, менеджерами, которые что-то такое там подсчитывают, дебет с кредитом сводят, говорили люди свободолюбивые. Мы посмеемся над своими правителями, говорили просвещенные люди. А правители – если они, конечно, умеют – путь посмеются над нами. Дело-то частное. У них – своя семья, у нас – своя. И обе семьи смеялись. И порой непонятно было, кто смеется громче.
Миром правят свободолюбивые шутники, что же может быть лучше? А эффективно ли такое правление? Весьма эффективно: шутка с приказом сочетаются преотлично. Это только во времена кровавых диктатур министры представлялись чудовищами с недобрыми физиономиями, но те времена канули в Лету. Современный министр культуры Аркадий Владленович Ситный, например, ведет на телевидении юмористическую жовиальную программу, и желающие могут лицезреть полного министра, отплясывающего с красотками из варьете. Министр обороны участвует в конкурсе веселых и находчивых, а министр внутренних дел ведет конкурсы красоты – и так каламбурит, будьте любезны!
А президент? О, полковник любит посмеяться, и юмор его поизящнее будет, чем у мясистого предшественника. Тот, бывало, нальется водкой, побуреет и давай песни петь, вот и весь юмор, а новый хозяин улыбнется тонко и про жизнь пошутит. А уж как встретится он со своим коллегой, с премьером Британии или канцлером Германии, или, допустим, с американским президентом, ох они и шутят! А уж если состоится большая встреча лидеров стран, так и вообразить трудно, что за хохот стоит – ну просто клуб острословов! И приятно сознавать, что не только в России выбрали весельчака, но вот и американцы отыскали человека с чувством юмора, и француз рот разевает до ушей, а уж британский премьер хохочет во все сорок зубов. И глядя на их веселье, понимает зритель телевизионной программы: действительно наши менеджеры – это одна большая семья, и веселятся они ровно так же, как веселятся родственники, собравшись на семейный праздник. Съезжаются издалека и давай веселиться! Время-то какое веселое! И обнимают друг дружку за плечи, и подмигивают, и брызжут улыбками, и хихикают: ну как там, мол, твой народ? а твои-то там как? Да, нормально, живут еще, дергаются! Ну, вы там все, конечно, горой за свободу, ха-ха! Еще бы, куда же нам без нее! Ведь поставили меня за свободой присматривать! Ну, ты смотри, свободу не упусти! Не волнуйся, от меня не уйдет. Ох, уморил!
Новые западные лидеры, новые лейбористы, новые демократы и новые республиканцы начали шутить давно – еще в забытом шестьдесят восьмом, в Сорбонне, на студенческих баррикадах. Тот, позабытый теперь капустник сегодня кажется довольно наивным. Тогда, играя в жертв тоталитаризма, они в шутку предлагали считать себя немецкими евреями, это была остроумная для тех лет шутка. Унылые сорбоннские профессора, в которых кидали с баррикад тухлой капустой, не понимали юмора, не умели заглянуть в будущее и недоумевали: отчего же недоросль из состоятельной семьи объявил себя парией? А понять было просто: шутники тех лет хоронили отживший порядок, при котором подчиняться общественной морали – все равно что быть немецким евреем. Теперь они построили порядок новый, теперь хорошо известно, кто – они, и кто – немецкие евреи; и теперь они шутят по-другому. Они строить баррикады в Латинском квартале больше не будут; теперь сороказубый весельчак строит боевые порядки и формирует флотилии, а другой проказник вводит дивизии в разбомбленные города и кроит карту Востока. Однако замечательно то, что шутке это нисколько не вредит. А если кто-то и не смеется, так это он просто юмора не понимает – редко, но бывают такие сухари.
XII
Пример человека, глухого к юмору, являл Соломон Рихтер. Просматривая прессу, читая то одно сообщение, то другое, он – причем совершенно без улыбки – обращался к своему вечному собеседнику профессору Татарникову:
– И это называют демократией, Сергей? Где же тут демократия?
– А что, непохоже?
– Издеваетесь? Вот это – демократия?
– А с чего вы взяли, что строят демократию только? Где положено – да, внедряют демократию, ну, например, в Воронеже. А в других местах, какие получше, олигархию учреждают. А сверху этот пирог венчают монархией. Разве одной демократией обойдешься? Чтобы большую империю создать, надо несколько типов управления. Полибия помните? – и Сергей Ильич Татарников хохотал.
– Ах так, – свирепел Рихтер, – ну погодите!
– Вижу, вы прощать им не собираетесь, – умилялся Татарников.
– Я им покажу! – хрипел старый Рихтер, – я им задам! No pasaran! – и старик стучал палкой по полу.
Сергей Ильич Татарников глядел на своего старого друга, беспомощного и гневного, и смеялся беззубым ртом.
XIII
И не он один смеялся. Смеялись – или, в крайнем случае, улыбались – решительно все: прогрессивные художники, издатели глянцевых журналов, владельцы ресторанов и массажных кабинетов, продавцы презервативов и нефтепродуктов, и, конечно же, улыбались политики. И – что знаменательно – качество политической улыбки изменилось радикально! Если раньше, во времена холодной войны и великих иллюзий, улыбка политика часто бывала неискренней – как улыбка официанта, например, – то сегодня политики улыбались от души. Думаете, неискренне улыбается итальянский премьер – нечему порадоваться? Да нет же, совершенно от души улыбается. Есть в его жизни приятные моменты. И американский лидер улыбается искренне. А российский полковник? Его улыбка, полагаете, дежурная, не от сердца идет? Как бы не так! Просто время такое – веселое.
Появление улыбчивого субъекта нового образца, выращенного демократией на предмет управления собой, произошло одновременно во всех свободолюбивых христианских странах. И улыбка, следует отметить, не препятствовала делам: смех смехом, а работать надо. Британский премьер скалился во все свои сорок зубов, готовый ухватить за горло, американский президент с ухмылкой грозил с экранов телевизоров, а русский президент созвал однажды мамок и нянек и, растянув тонкие губы в улыбку, сказал так:
– Укреплять вертикаль власти! – сказал новый президент, лысеющий блондин, похожий на волка, – укреплять централизованную власть! Но одновременно и следить за развитием демократии! Вот задача сегодняшнего дня! Централизованная власть и развитая демократия одновременно! А кто не согласен – разорву! Что, Дупель, кажется, против? Смотри у меня, Дупель!
И недоуменно смотрел Дупель на человека, которого сам вчера президентом назначил – и не понимал: это что, шутка? А почему не смешно тогда? Как же так: он, Дупель, назначил его, никому не нужного офицеришку, президентом большой страны – и что же теперь? И поворачивался Дупель к мамкам и нянькам за сочувствием. Но мамки с няньками, изрядно присмиревшие за время правления нового президента, волка с холодными рыбьими глазами, восхищенно аплодировали новому курсу: до чего свежая мысль! Остроумно изволили сформулировать задачу: и власть централизованную насадить, и демократию развернуть! А что? Оригинально! И как своевременно! Нам, дуракам, и не додуматься! Мы-то все за свободу боролись – как бы стырить побольше. А вы разумно все расставили по местам: воровать, оно понятно, воруйте, но все-таки кое-что и назад кладите. И даже так: воровать-то воруйте, но уворованное кладите в мой карман, в государственный, в президентский то есть. Какой план отменный! Вот и выйдет, что поступаем мы согласно свободному волеизъявлению, но одновременно укрепляем вертикаль власти. Потому как – держава! Пусть цветут все цветы и закручиваются все гайки! Пусть будет совершенная свобода слова и самая строгая цензура! Пусть свободно скачут все кони – но по кругу! В пределах манежа!
И, наклоняясь доверительно к полковнику, мамки и няньки шептали: вы на Дупеля этого внимание-то обратите, вашество. Пора приструнить. Зарвался совсем парень. Вы зубками-то на него пощелкайте. Вы ножками-то на него потопайте. А то вы все шутить изволите, а он юмора не понимает. Вообще это поколение – Балабос, Дупель, Левкоев – неадекватно себя ведет. Вы взор свой благосклонный на других обратите: на малых сих, незаметных, но верных! Подрастают кадры: Фиксов, Зяблов, Слизкин! Без запросов мальчики, без фанаберии, служивые люди.
И, нахваливая президентское нововведение, мамки с няньками свободолюбиво расправляли плечи. Не то чтобы нас заставил кто хвалить его решения, храбрились мамки с няньками и подмигивали друг другу. Нас поди заставь! Ого-го, какие мы свободолюбивые! Мы, если захотим, нашего управляющего в момент снимем! Сами поставили – сами и уберем! Просто нам с ним удобнее. Просто это самое мудрое и ответственное решение, которое только и можно принять: нехай одной рукой будем давать свободы, а другой обратно забирать. Одной рукой станем хапать казенное добро, а другой возвращать в президентскую казну уворованное. Ничего, глядишь, что-нибудь к рукам да прилипнет. Привыкать нам, что ли?
Никто и не раскрыл рта сказать, что сочетание централизованной власти и развитой демократии есть не что иное, как современный вариант «демократического централизма», метода, каким регулировалась двадцать лет назад советская власть. Еще тогда люди, логически мыслящие, смеялись над этой бессмысленной формулой. Демократический централизм – надо же, какая чепуха, сапоги всмятку! Но прошло двадцать лет, и те же самые граждане проголосовали за централизованную демократию. Демократический централизм и централизованная демократия – двадцати лет хватило, чтобы забыть, как сочетаются эти понятия. Никто и не раскрыл рта сказать, что предложенная программа, т. е. одновременное укрепление централизованной власти и углубление демократических принципов, звучит несуразно. В социальном плане это бессмыслица, бред, contradictio in abjecto. Никто не сказал этого, во-первых, от привычного российского ужаса перед властью (а ну как кинется волк и загрызет), а во-вторых, оттого, что общественное сознание давным-давно привыкло к перформативным контрадикциям и не считает их за что-то особенное. Да, одно положение противоречит другому – и что с того?
В мире, где развитие экономики связано с устранением реального продукта и заменой его на символ; в мире, где финансовое могущество выражается в отсутствии денег и обороте долгов; в мире, где христианское искусство сделало все возможное для того, чтобы избавиться от конкретного образа и заменить его беспредметным знаком, – в таком мире любой противоречивый лозунг прозвучит убедительно. Собственно говоря, политика и не может, и не должна отличаться в логике своих деклараций от прочих институтов.
Зачем далеко ходить за примером? Спросите любого культуролога: существует ли табель о рангах в авангардизме (иными словами, есть ли в авангарде вертикаль власти), и вам тут же представят подробный отчет, и список первых ста влиятельных имен назовут, и поспорят о первых местах. В ход пойдут и «список Первачева», и рейтинг Центрального университета современного искусства и мирового авангарда (ЦУСИМА), и мнения кураторов. И никому даже в голову не придет, что, логически рассуждая, такой список невозможен.
Быть авторитетом в авангардизме так же логически невозможно, как быть специалистом в свободном падении; быть дисциплинированным в деконструктивизме так же логически нелепо, как быть искусным в параличе, – это contradictio in abjecto, перформативная контрадикция. Однако именно иерархию в авангардизме и установил мир искусства; именно строгой дисциплине деконструктивизма и обучают современные мыслители. Несовместимость этих качеств весьма остро почувствовали анархисты в России и Испании: они в толк взять не могли, как можно рушить стереотипы и одновременно организовывать общество по нормам армейской дисциплины, отменять правила и внедрять иерархию, мыслимую при королевском дворе. Перформативные контрадикции случаются тогда, когда общество строит новый порядок: отряды НСДП были отрядами авторитетных авангардистов и дисциплинированных деконструктивистов. Из поколения дисциплинированных деконструктивистов и формировалась новая власть, а вот теперь ее назвали управляемой демократией.
И страх закрался за воротник мамок и нянек, и страх сжал их сердце под накрахмаленной сорочкой. Ах, не вовремя, не подумав, не просчитав последствий назначили они волка с рыбьими глазами править собой. И забегали, заметались по кремлевским коридорам, зашушукались по отдельным кабинетам ресторанов: а если бы мы не того, а этого поставили? А? А если вот, например, того? Где прогадали? Где?
Однако просчета не было. Мамки с няньками, Балабос с Левкоевым, Дупель и остальные прогрессисты решили совершенно правильно, иначе и не могли решить. Виноваты не они, виноваты не политтехнологи, неверно посчитавшие вероятности, виновато искусство, то проклятое искусство, которое собирал Михаил Дупель, патронировал Балабос и скупал Тофик Левкоев. Каково искусство, такова и политика, не бывает так, что искусство выражает одни ценности, а политика – другие.
Мир имеет ту политику и таких политиков, которые в точности соответствуют идеалам искусства, которое мир признает за таковое. В конце концов, политика не более чем один из видов искусства, а Платон ставил ораторское мастерство даже еще ниже, называя его просто сноровкой. Искусство – и так было на протяжении всей истории человечества – формирует идеалы, которые политика делает реальными. Наивно думать, будто искусство следует за политикой, так происходит лишь с заказными портретами. Но самый убедительный заказной портрет создают политики – и выполняют его в точности по заветам интеллектуалов.
XIV
Данное положение можно проиллюстрировать диалогом, состоявшимся между Гришей Гузкиным и бароном фон Майзелем на открытии художественной ярмарки FIAC – знаменитого парижского салона. Гуляя об руку с бароном вдоль стендов, увешанных современным искусством, т. е. телевизорами, в которых нечто мелькало, холстами с кляксами и т. п., Гриша решился наконец на разговор, давно задуманный. Некогда, сидя с Пинкисевичем у Липпа, он положил себе довести до сведения барона разницу меж подлинным творчеством и поделками прощелыг.
– Какой упадок! – произнес он, дефилируя вдоль залов.
– Напротив, расцвет! Я не столь пессимистичен, как вы, Гриша, – благодушно ответил барон, – поглядите, как много новых идей, – барон указал на некоторые кляксы, на банки с фекалиями, на фотоколлажи, – сколько фантазии! Меня волнует современное искусство, я черпаю энергию для новых проектов.
– Какие же здесь идеи? – хотел было сказать Гузкин, но раздумал. В конце концов, если барон черпает энергию, стало быть, энергия здесь есть. А в том, что энергия есть у самого барона, сомневаться не приходилось. Стало быть, он ее взял откуда-то.
– Хм, – сказал вместо намеченной реплики Гриша, – на днях мы видели с Барбарой радикальные вещи Карла Андрэ – такие, знаете ли, чугунные квадратики. Резкие вещи, барон. Мне они напомнили Малевича.
– Да, – сказал барон, – Малевич. Понимаю.
– Вот кто дарил миру идеи, не так ли, барон? Впрочем, и Карл Андрэ своими квадратиками меня покорил.
– Ah, so, – сказал барон, – Карл Андрэ! Ja, ja! Чугунные квадратики! Я знавал людей, которые их собирали. Есть такое семейство Малатеста – не слыхали? Бруно Малатеста сделал состояние на морских перевозках. После войны, – загадочно сказал барон, – чего только не возили. Однажды он купил сто пятьдесят таких квадратиков. Собирался выложить пол в ванной комнате в Портофино, но жена пристыдила. Он был женат на одной еврейке, из Ротшильдов. Да, именно так. Сара Малатеста.
Гриша почувствовал, как пот течет у него между лопаток, стекает в штанину и струйка чертит свой путь по ноге.
– Карл Андрэ и Малевич работают в одном дискурсе, – сухими губами сказал Гриша.
– Да, – сказал барон, – пожалуй. Пожалуй, в одном. Никогда не думал об этом. Интересная мысль, Гриша. Вы наблюдательный человек.
– В их творчестве много общего.
– Там квадраты – и тут квадраты. Верно подметили, Гриша.
– Они только кажутся похожими, – сказал Гриша, – но присмотритесь!
– Все-таки сходство есть, – сказал барон, приглядываясь.
– В общих чертах похоже, – сказал Гриша, – но идет развитие темы.
– Видимо, это и называется следовать традиции?
– Это перекличка гениев во времени, – сказал Гриша. – Помните «Маяки» Бодлера, барон? Так движется дискурс: от Малевича – к Иву Кляйну, от Кляйна – к Карлу Андрэ, от Андрэ – к Пинкисевичу.
– Удивительная мысль, – сказал барон, – они все рисуют квадратики? А кто такой Пинкисеффитч?
– Пинкисевич – это московский художник. Серые квадратики и треугольники, – сказал Гриша и подумал: вот я сделал имя Эдику.
– Все рисуют квадратики – любопытный поворот мысли. Были и другие имена. Мондриан, не так ли? Думаю, можно сказать, что он работает в одном дискурсе с Ивом Кляйном и Малевичем.
– Вы уловили суть, барон.
– И с Карлом Андрэ тоже.
– Безусловно.
– Квадратики только кажутся одинаковыми, а вообще они все разные – не так ли?
– О да!
– У Мондриана – желтые и красные, а у Кляйна – голубые, я прав, не так ли?
– А у Пинкисевича – серые.
– А у Малевича – черные. Это о чем-нибудь говорит, полагаю.
– Несомненно.
– Скорее всего, – сказал барон, – о терпимости общества к разным квадратам.
– То есть к разным точкам зрения, к полярным убеждениям.
– Один квадрат непохож на другой, – задумчиво сказал барон.
– Это воплощение принципов плюрализма, – заметил Гриша.
– Каким цветом хочу, таким квадрат и закрашу, – обобщил барон.
– Поразительно, как много можно сказать одним квадратом! – сказал Гриша.
– Не правда ли? И деликатно, без деклараций.
– Можно написать тома.
– А мы еще не рассмотрели треугольников.
– Это отдельная тема!
– Ха-ха, – сказал барон, – забавно, что Гитлер считал кубизм изобретением большевиков. Что бы он сказал, глядя на Карла Андрэ?
– Объявил бы его представителем дегенеративного искусства? – придал Гриша остроту разговору. Он давно понял, что умеренное осуждение фашизма в Германии уместно, важно не перегибать палку. Сказал – и остановись. Не тебе судить о чужих порядках. Спросить – можно.
– Дегенеративным искусством? – барон поднял брови. – Вряд ли. Все-таки у Америки много ракет.
– Тогда Пинкисевича бы объявили дегенератом, это уж точно.
– Пинкиссеффитч? Надеюсь, я правильно произношу это русское имя. Возможно. Да, его, возможно, и объявили бы дегенератом. – Барон задумался.
– Те времена, слава богу, прошли, – сказал Гузкин.
– Да, – задумчиво сказал барон, – прошли. Любопытно, что делает сейчас Сара Малатеста?
Гриша расстался с Сарой час назад и мог ответить на этот вопрос, но он промолчал.
– Такое разнообразие квадратов, – сказал барон фон Майзель, – возможно только в свободном обществе.
– Безусловно, – сказал Гриша.
– Именно потому, что каждый может рисовать квадраты как хочет, мы являемся свободным миром, – и барон объяснил Грише, что вдохновляется разнообразием квадратиков, когда определяет сферы интересов компании. Гриша слушал его и кивал. Некая мысль не давала ему покоя, он никак не мог додумать ее до конца: если разнообразие квадратов – признак свободного общества, то самый главный квадрат, черный квадрат – является ли он символом демократии? Вероятно, он вбирает в себя всю последующую полифонию (или содержит эту полифонию в неразвернутом виде). Этот черный квадрат, думал Гузкин, есть прасимвол демократического плюрализма. Но если так, то почему он такой черный и несимпатичный? А чертежи будущих зданий, обязаны они быть красивыми? А планы сражений? Скорее всего, черный квадрат и не символ даже, но нечто большее (Гриша припомнил беседы с Кузиным) – а именно проект демократии. Гриша почти сформулировал про себя эту мысль, но вслух говорить не хотел: такого рода соображения надо беречь для публичных диспутов.
XV
Если Гриша Гузкин прав и черный квадрат является проектом демократии (точнее говоря, управляемой демократии, как высшей ее формы), то, вероятно, в таком порядке и следует рассматривать явления: сначала было яйцо (т. е. квадрат), а уже потом курица (все, что случилось). Отчего-то прогрессивная общественность взяла за обыкновение Дзержинского с Менжинским бранить, Сталина – ненавидеть, а Малевича – любить. Последовательно ли это? Сталин и Дзержинский лишь осуществили на деле проекты Малевича и конструктивистов. Вы хотели мир, расчерченный на квадраты? Извольте: вот мы, политики, сделали, как вы просили. Политика – реализованный проект искусства.
Искусство классицизма порождало политику классицизма, экономику классицизма и войны классицизма. Искусство романтическое порождало романтических политиков, романтическую экономику и романтические войны. Искусство авангарда породило авангардных политиков, авангардную экономику и авангардные войны. Так неужели искусство демократического западного мира шестидесятых годов не должно было рано или поздно создать для себя соответствующие экономику, политику и войну? Именно это и случилось за последнюю четверть века, когда искусство наконец увенчалось соответствующей политикой.
Замечание профессора Татарникова об эдикте Каракаллы или расширении Цезарем сената, то есть о мерах, приводящих к упразднению значимости уникальной позиции ввиду огромного множества мнений, совершенно справедливо. Справедливо и то, что задолго до применения в политической практике данный метод был опробован в искусстве. Именно демократизм эстетических принципов, – т. е. низвержение кумиров и развенчание идеалов – и сделался необходимым фундаментом для создания новых общественных коммуникаций. Процесс демократизации эстетических принципов совершенно устранил былую иерархию ценностей и, напротив, ввел в оборот удобный, годный к быстрому употреблению безразмерный продукт. Продукт этот, т. е. демократическое приватное искусство, сделал былое искусство ненужным – или, как мягко выражались в столичных салонах, неактуальным. Права, тысячу раз права была галеристка Белла Левкоева, когда делилась с подругами взглядами на современную культуру и говорила примерно так: «Для чего стану я, Лавандочка, с этим старым дурнем Первачевым возиться, если у меня под рукой десяток молодых актуальных имен. Шиздяпина, Кайло, Педерман, Снустиков – я из любого за пять минут звезду сделаю! Старик тычет мне в нос свой «список Первачева» и воображает, что эта бумажка что-то значит. Я секретарю велю, он завтра десять таких списков нарисует – мало не покажется! Подумаешь, удивил!» И Лаванда Балабос согласно кивнула, и влияние Первачева испарилось – кому нужны полудохлые генералы, если бравых сержантов вокруг не счесть. И чего уж совсем не могла принять и простить Белла Левкоева (и Лаванда Балабос тоже была не склонна прощать), так это вопиющую манеру Первачева обращаться к собеседнику с декларациями и призывами. Допотопные лозунги «долой!» и «так будем же!» выводили прогрессивных дам из себя. Это куда ж он нас зовет, ехидно интересовалась Белла Левкоева, обратно в очередь за колбасой, я так понимаю? И девушки задорно смеялись. Осознанно или нет, но галеристки нового поколения выразили существенное правило нового искусства, которое формировало новую политику. Иерархия в авангарде есть, но это – гибкая иерархия. Демократическое искусство воплощает абстрактную тягу к свободе. Абстрактная тяга к свободе формирует пластичные убеждения, необходимые в современном обществе. Любое конкретное утверждение ослабит эту абстрактную тягу, тем самым лишит сознание гибкости. Не следует создавать картину, роман, философскую систему – как раз наоборот! Такое произведение было бы элементарной невежливостью по отношению к коллегам – мыслимо ли вообразить себе кандидата в депутаты, который еще до выборов построил больницы и школы? Такой поступок чрезвычайно некорректен – типичный популизм – и лишил бы предвыборные дебаты смысла. Гибкая иерархия ценностей и абстрактная тяга к свободе – для политики постмодерна этих простых правил оказалось достаточно. В мире, который оправдывал отсутствие утверждения, называя это позицией, появилась та политика, которая это противоречие довела до реального воплощения. Мы за мир, но убивать в интересах абстрактной свободы надо, говорит один президент. Мы укрепим централизованную власть, но будем внедрять свободу каждого, говорит другой правитель. Мы принесем им свободу, говорит третий правитель, отдавая приказ о бомбежке чужих городов. Разве это недостойно выставки в Музее современного искусства? Искусство, из которого было изъято сострадание как начало, не соответствующее идеалам деструкции, породило специальных политиков. Точно так же, как теоретики конструктивизма пролагали дорогу конструктивным формам насилия, так и теоретики деструкции сделали все от них зависящее, чтобы деструкция стала реальностью. Вы хотели деструкции – извольте! Теперь ее будет в избытке.
XVI
Сделавшись реальностью общества, деструкция не понравилась художникам. В частности, Пинкисевич, с которым Павел встретился во франкфуртском аэропорту, отозвался о современном состоянии мира скептически. Беседы интеллигентов былой Российской империи, когда судьба сталкивала их в западных аэропортах, напоминали разговоры солдат разбитой армии, что скитаются по проселкам чужих стран и, сталкиваясь, делятся информацией о ночлеге и фураже.
– Делать здесь нечего, – сказал Пинкисевич, – не тот уже рынок. Раньше – да, брали бойко. Нарисуешь квадрат – покупают. А теперь никакого внимания к человеку. Сдала Европа. У тебя почем берут?
Павел назвал цену картин. С некоторых пор упоминание цены стало обязательным в разговорах художников.
– В Ганновер не суйся, – сказал честный Пинкисевич, желая Павлу добра, – только время потеряешь: мы там с Дутовым все подмели. На ближайшие полгода делать в Ганновере нечего. Как приехали, я Дутову сказал: не ломайся, ставь цены пониже, ну вроде как осенняя распродажа. Фрицы и кинулись. Дутов все рисунки продал, стал деревянные чурбаки акварелью красить – где красным ляпнет, где синим. Метафизика. По тысяче отдавал, и ничего, нормально брали. Можно было полторы поставить.
Когда-то Павел стеснялся заговорить с опальным художником Пинкисевичем, подбирал значительные фразы, робел. Теперь немолодой, измученный странствиями мастер сам подсел к нему, предложил папиросу.
– В Мюнхен тоже не советую, – сказал Пинкисевич. – Там Ося Стремовский, ревнивый человек, участок застолбил, он соотечественников не любит. Я приехал, а мне говорят: ваше творчество не актуально. Я говорю: что не актуально? Метафизика плоскостей не актуальна? А это, говорят, мнение нашего эксперта Стремовского и его куратора Розы Кранц. Ну, думаю, дожили. Стремовский, говорю, ты что, забыл, гад, как мы последней коркой делились? – Патетическая тирада была прервана официантом, который указал Пинкисевичу на плакат, запрещающий курить.
– Дожили, – сказал Пинкисевич, – уже в кафе курить запрещают. Скоро в борделях трахаться запретят. Вообще, не туда все пошло, куда надо, – Пинкисевич помрачнел. – И Гамбург уже не тот. Раньше на культуру фрицы денег не жалели, а теперь пфенниги считают. Ну, Гузкин, тот, конечно, устроился – так у него тесть банкир, чего ты хочешь.
– Я в Берлин еду.
– Ну, в Берлин еще куда ни шло. Там русских дантистов полно – хоть жопой ешь. Кто-нибудь да купит. Хотя ты реалист, – сказал великодушный Пинкисевич, который сочувствовал коллегам по цеху, – а это немодно. Ну, ты метафизики подпусти, может, проскочишь. Хотя вряд ли. Время плохое – полный разброд. Даже абстракция идет туго. Абстракция! И вот поди ты – не берут!
Российские художники ощутили ту беду, которую их западные коллеги ждали давно: наступил кризис перепроизводства самовыражения. Когда бывшие социалистические (а ныне свободные капиталистические) мастера добавили свою продукцию к уже имевшейся на Западе, ее вышло избыточно много. Количество нарисованных совокупными силами квадратиков и закорючек превысило покупательные способности так называемого среднего класса. Дальновидный Марсель Дюшан некогда выражал желание ввести запрет на дальнейшее производство иронических инсталляций – во избежание девальвации уже имеющейся иронии. И тот шутит, и этот, а еще приехал эмигрант из тощей российской деревни и тоже, видите ли, шутит. Не смешно получается.
И уж вовсе деструкция и самовыражение оказались не нужны, когда политики стали самовыражаться активнее художников.
Галеристы и художники жаловались на кризис на рынке искусств, представители среднего класса жаловались на нехватку рабочих мест, бизнесмены жаловались на демпинг, хотя разумнее было сетовать на кризис на рынке свободы: когда ее произведено избыточно много, товар падает в цене. Уже и разваливать-то нечего – все давно развалено, и опровергать уже ничего не требуется – все опровергли, а поток самовыражения не остановить: и мы тоже так можем, чем наши кляксы хуже? И тщетно галереи клали препоны – рвались творцы поверх барьеров: тоже хотим ляпать кляксы, деструкция, она для всех! Отменить новые кляксы не значило ли поставить под вопрос ценность былых клякс? Ведь уже ясно провозгласили кляксу венцом творения! То был несомненный кризис культуры, и следовало найти выход из кризиса. Только с чего начинать? Отменить ли бомбардировки Ирака? Сократить ли количество безработных в Восточной Германии? Запретить ли всем подряд рисовать кляксы? Вернуть ли бесплатное образование?
Странно как устроилось: все свободолюбивые люди хотели демократии и поражения социалистической диктатуры – добились искомого. Во всем мире с очевидностью победила свободная мысль. Так почему же стало хуже? Кто виноват?
Так или примерно так сказал Павел своим новым знакомым – прогрессивным художникам: супругам Кайло и Лиле Шиздяпиной. Он пришел к ним в гости с Юлией Мерцаловой и – приняв, как обычно, дань восхищения своему свободному образу жизни – стал ругать современную политику и современное искусство. Супруги Кайло и Лиля Шиздяпина смотрели на Павла испуганно; была бы здесь Роза Кранц, она нашла бы что сказать, а молодые художники аргументацией не владели – в целом они были за прогресс, и все.
– Ах, вас не покупают! Ах, вам не нравятся бомбежки! – сказал Павел насмешливо. – Не стоит сетовать на бомбежки – посмотрите на картины у себя в гостиной. Вы ведь никогда не хотели, чтобы картины теребили совесть, не правда ли? Посмотрите на дома моды и галереи современного искусства. Разве там есть нечто, удерживающее от бомбардировок? Не стоит переживать сегодня из-за войны: вы разбомбили Ирак еще вчера. Вам не нравится ваш новый правитель? Страшно, да? А раньше, раньше где вы были? Полоски рисовали? Вам сейчас таких полосок нарисуют!
Лиля Шиздяпина и супруги Кайло смотрели на Павла недоуменно. Им и в голову не приходило, что они виновны в бомбардировках Ирака. В сущности, они не имели к этому никакого отношения. Что это с ним? Недаром говорят, что человек он невыносимый. На себя бы посмотрел, он-то сам что вытворяет. Жена, говорят, плачет, чуть ли с собой не покончила. Однако на себя Павел смотреть не умел.
XVII
И то, что жизнь самого Павла является проекцией политической ситуации в целом, Павел видеть не хотел. Бывает так (вообще-то говоря, только так и бывает), что частным, не особенно значительным действием или словом высвечивается вся история – в том числе история общественная, состоящая из людей, не имеющих к данному частному поступку отношения. Некоторые события (как, например, связь Павла с Юлией Мерцаловой) не сразу становятся опознанными в качестве таких сигналов. Другие же (и часто это выпадает на долю искусства) немедленно становятся определяющими.
Высказывание либерального эмигранта Бродского «ворюга мне милей, чем кровопийца», высказывание абсолютно частного характера, было воспринято его современниками как рецепт социального блага. Пожалуй, бард и не мог мечтать о таком влиянии на социальные процессы, когда слагал дерзкие свои строки. Он-то просто хотел уязвить толстого сатрапа Брежнева, плохо владеющего нижней челюстью, и противопоставить казарменной социалистической России нечто гуманно организованное. Понимал поэт и то, что идеальных обществ не бывает. Ну что ж, говорит он в своих стихах, значит, из двух зол выберем меньшее – наполовину зло, оно хотя бы ближе к добру. Пусть это меньшее зло не мешает мне возделывать мой сад, говорит поэт, и то уже будет мне мило. В конце концов, существует моя партикулярная жизнь, и в нее попрошу власть не вмешиваться – а я в ответ тоже не буду вас сильно порицать, если вы что-то там украдете – нефтяную вышку или еще чего. Многое видел он из города Вашингтона и мог в поэтическом азарте суммировать свой опыт, но ожидать, что его наблюдения распространятся решительно на весь христианский мир, он, пожалуй, не мог. Действительно, устами его говорила история: именно в это время прогрессивные общества, по взаимной договоренности и руководствуясь соображениями безопасности, решили временно отказаться от услуг кровопийц в качестве управляющих государствами и повсеместно определили на эту должность ворюг. Такое прямое и быстрое воплощение гуманистических идеалов в действительность, как и всякая поспешная реализация проекта, конечно, привело к некоторым нежелательным (во всяком случае, не прогнозируемым бардом) эффектам. Так, например, поэт не учел тот – увы, закономерный – факт, что ворюга почти непременно становится кровопийцей, хотя бы для того, чтобы защитить уворованное. Не учел поэт и особенностей организации воровского мира, рассматривающего мир внешний (т. е. тот, в котором живут прочие люди) как питательную среду, специально созданную к их удовольствию. Трудно было предположить гуманистически ориентированному поэту и то, что ворюги, живущие по воровским законам и общающиеся меж собой, исходя из правил и норм воровской жизни, рассматривают себя как единственно правильных людей, остальных же двуногих за людей считать не склонны. Выдавая индульгенцию физически безопасной форме насилия, либерал не подозревал, что именно наличие большего зла (т. е. более тяжких статей Уголовного кодекса) и делает положение вора столь привлекательным. Вор – не убийца, он не ходит с топором; однако это совсем не значит, что он не украдет последнюю корку, и не лишит крыши над головой, и не убьет иным способом; это совсем не значит, что он пощадит беззащитного. Он попросту ходит под другой, более легкой статьей. И наличие этой гуманной статьи – т. е. признание иерархии в понятиях зла и бесчеловечности – делает его неуязвимым. Применительно к правителям это правило работает так. Например, широко известно, что итальянский премьер-министр нечист на руку; однако он не осуществляет массовых репрессий. Его управление имеет целью личное обогащение и тем самым ввергает в инфляцию, бедность и болезни большое количество людей. В перспективе такое управление ведет к войне, поскольку больше привести ни к чему не может. Тем самым данный человек – убийца. Однако он не тиран, не кровопийца, и единственное вмененное ему обвинение (разумеется, недоказанное) есть обвинение в воровстве. Поскольку мы считаем, что существует иерархия зла, то мы называем этого человека скорее добрым, чем злым.
Как широко известно, именно воры (а вовсе не убийцы) являются структурообразующим элементом преступного мира. Пока цивилизацией признано, что в зле существует иерархия и бомбардировка в Сербии принципиально лучше, чем концентрационный лагерь в Вуковаре, вор чувствует себя спокойно: он под охраной цивилизации, он – в законе. Этот закон куда древнее закона воровского, руководствуясь именно этим законом, формируется мораль привилегированного барака – цивилизованного демократического общества. Этот закон оставляет преступника не просто безнаказанным, но почитаемым и любимым. И тварь, которая обдуманно пользуется этими правами и привилегиями, – опаснее кровопийцы. Эта тварь непременно сделается кровопийцей, но на разумных, законных основаниях. Собственно, это есть прямое следствие того феномена сознания, который воплощен в термине «ворюга». Если тиран-кровопийца опознан миром в качестве такового – хотя бы по той ужасной, но внятной причине, что кровь заметна, – то прелесть существования наместника-ворюги состоит в том, что он миром принят в качестве частного человека, и если и душит кого-то в подвале загородного особняка, то это его частное, партикулярное дело – не надо делать из этого трагедию: в конце концов, приватная жизнь – понятие для демократического государства священное. В сущности, ворюга не совершает ничего такого, что противоречило бы основным принципам демократии – он ведь просто возделывает свой сад.
Форма общественного управления, получившая в просвещенных странах название демократии, утвердила основной ценностью приватную жизнь; индульгенцию на эту приватную жизнь государство выдало своим гражданам, а те, в свою очередь, – выдали ее государству. Я – свободная личность, рассуждал обыватель, но и правитель мой – тоже свободная личность. И дороже взаимоуважения этих свобод ничего нет – это цель демократии. И приватная жизнь государства сделалась такой же естественно-правомерной, как приватная жизнь рантье, – это роднило избирателя и выбранного: их схожий образ жизни; в сущности, за этот, приватный образ жизни обыватели и голосовали. Так, шаг за шагом, день за днем формировался правящий класс современного просвещенного мира – продажный, циничный и безнаказанный. Вытесненная из политической жизни диктатура не была заменена ничем внятным (поскольку приватную жизнь трудно рассматривать как полновесную политическую декларацию), и, следовательно, с неумолимой логикой художественного произведения, не терпящего пустот, политическая жизнь заполнила это пустующее место сначала ворами, затем лжецами и в заключение – преступниками. И преступники жили своей отдельной, частной жизнью – интересной и полной: ими были освоены недра земли и морей, они простерли свой интерес далеко за пределы своих стран, они встречались и обговаривали сферы влияний. Они решали, в какой части света уже пора убивать людей, а в какой еще можно подождать. Они рассуждали – взвешенно и спокойно – о благах для экономики и социальной регулировки, которые принесет это массовое убийство, а если пользы от убийства было немного, они готовы были от него отказаться. Они шутили, смеялись, закусывали и между делом делили планету – точно так же, как это делали их предшественники – тираны и диктаторы, но только с той разницей, что теперь ни один из них не собирался взять на себя ответственность за весь мир сразу. Никто из них не хотел стать тираном и навлечь на себя гнев прочих. Проще жить, соблюдая корпоративный семейный интерес. Они ездили друг к другу в гости, их дети отдыхали на виллах друзей родителей – таких же правителей, как их папа и мама: дело-то частное, приватное. И детишки российского президента резвились на вилле его итальянского коллеги, интерьер которой поражал воображение: одно искусство чего стоит! Если и писали об этих умилительных встречах газеты, то вскользь – негоже лезть в чужие дела. И зачем же прочему миру знать, как и для чего встречаются его владыки: у мира своя жизнь, а у его правителей – своя. И так, шаг за шагом, день за днем просвещенный мир соглашался с тем, что им правит небольшая группа лиц, занятая устройством своих дел, подписанием нефтяных концессий и разработкой месторождений, и если этой группе лиц время от времени и надо кого-то убивать, то следует относиться к этому факту терпимо, поскольку убийство происходит в разумных масштабах, лимитированное экономической необходимостью. Просвещенный мир признавал разумность такого правления исходя из того, что правители занимались, в конце концов, своей личной жизнью, оставляя возможность своим подданным заниматься своей. Это торжество взаимной партикулярности шаг за шагом, день за днем приводило к тому, что дистанция между правящим классом и подданными увеличивалась и становилась все более труднопреодолимой.
Временами граждане выказывали недовольство своими правителями – в рамках допустимых демократических свобод, разумеется. Так, например, жители многоквартирного дома имеют полное право покритиковать своих соседей за слишком громкую музыку. И правительство прислушивалось к разумной критике, и даже иногда – в порядке соседского интереса – выносило тот или иной вопрос на общенародный референдум. И нисколько не смущало правящие классы, если их добрые соседи – гражданское население – начинали бурно протестовать против инфляции, войны или безработицы. Правящие классы смотрели на эти выступления (т. е. проявления узаконенных демократических свобод) благосклонно, прекрасно понимая, что ничего в принципе не изменится: у вас своя жизнь, а у нас своя; мы же вам не советуем, что в суп класть, – вот и вы в наши проблемы не суйтесь. А в рамках прав, предусмотренных конституцией, отчего же не протестовать? Например, известный эссеист Ханс-Питер Клауке, удрученный инфляцией и низкими гонорарами, довольно резко высказывался в адрес правительства Шредера. Мечта о домике на Майорке делалась все более несбыточной, и Клауке (хотя слыл уравновешенным человеком) однажды взорвался. На следующих выборах, заявил он домашним, я не отдам им своего голоса! Не дождутся! И стукнул ладонью по столу, и рассмеялся колючим смехом. Впрочем, справедливости ради надо отметить, домашние не поддержали порыва отца семейства. Были на то резоны: жене Клауке импонировала супруга канцлера. Превосходная у нее стрижка, заметила фрау Клауке, и с этим было трудно спорить. Так в пределах одной семьи проявлялся принцип конституционных прав и сталкивались свободные мнения.
XVIII
Те же граждане, что ходили на демонстрации, призывающие защитить Сербию (или Ирак) от бомбардировок, погуляв на воздухе, распрекрасно шли домой и садились пить чай с пирогами – и делили эти пироги с теми своими знакомыми, кто на подобные демонстрации не ходил. И разница во взглядах тоже была привилегией партикулярной жизни гражданского общества. Граждане высказывали свое свободное суждение и нисколько не возражали против свободного суждения соседей, правительства и т. д. А чай тут при чем? А что ж им теперь – чай с соседями не пить? Долг они свой отдали – и что еще с них можно потребовать, неизвестно. Ну, в самом же деле, три часа (иногда пять!) ходили по улице с плакатом. Ну все, теперь можно и домой, на улице, между прочим, не лето. А что Робертсы (Петерсоны, Стивенсоны) на демонстрацию не ходили и, более того, бомбардировку поддерживают, это ведь не повод с ними чай не пить. И седовласый профессор Оксфорда, придя к себе в заставленную книгами комнату в Холивел Мэнор, говорил жене так: во-первых, в демократическом обществе, слава богу, есть плюрализм мнений, и если Робертс полагает, что Белград (Кабул, Багдад) надо бомбить, стало быть, у Робертса есть на то основания – у него своя философия, у меня своя, и мы уважаем мнения друг друга; а во-вторых, все-таки Робертсы нам ближе, чем какие-то сербы, черт знает где что-то такое натворившие. Да, моя дорогая, я полагаю, что бомбить иноплеменные земли без нужды не следует, я высказываю свое мнение открыто и готов идти на определенные жертвы (между прочим, уже три часа дня, мы с одиннадцати на демонстрации, и абсолютно никакого ланча), но я признаю за Робертсом его священное право видеть проблему иначе. В конце концов, именно за свободу мнений мы и боремся. Кстати говоря, с чаем можно и поторопиться: я умираю с голоду. Звони Робертсам – и, между прочим, я все-таки надеюсь их убедить сходить с нами на следующую демонстрацию в Риджент-парк. Мы будем там в следующую среду, перед концертом.
XIX
И если так рассуждал западный интеллектуал (существо в известном смысле парниковое), то что уж говорить о российском интеллигенте, изведавшем тяготы тоталитарного режима? Требовать сострадания к безвестным арабам или сербам от человека, чуть было не попавшего в сталинские застенки, было мудрено. Уж кому как не российскому беглому интеллигенту – эксперту по гражданским правам – было знать, где и кому сочувствовать?
– Не понимаю, – возмущался Ефим Шухман в баре отеля «Лютеция», – как можно опуститься до того, чтобы осуждать применение силы против антидемократических государств?
– Да, – вздыхал Эжен Махно, – тем более что осуждай, не осуждай – а нас не спрашивают.
– Как это не спрашивают? Лично я, – говорил Шухман, – лично я принял участие в дискуссии. Полагаю, мой голос имел значение. И в своей колонке в «Русской мысли», и в репортажах для российских изданий – я высказался открыто. Меня, разумеется, всегда спрашивают о моем личном взгляде. И я считаю гражданским долгом помочь советом. Это и есть демократия – возможность участвовать в формировании политики.
– Плевать они хотели на наши советы, – сказал Эжен Махно.
– Что ты посоветовал? – спросил Кристиан Власов.
– Программа, – сказал Ефим Шухман, – проста. Полагаю, я затронул наиболее существенный аспект. Назначение нового российского президента своевременно. Между прочим, в личном плане он, как говорят, абсолютно адекватный человек. А что офицер КГБ – так что ж! Власть должна быть сильной. Однако не в ущерб демократии! Положить конец коррупции и бандитизму необходимо. Но! – Ефим Шухман предостерегающе поднял палец. – Как бы вместе с водой не выплеснуть и ребенка! Не растерять бы по пути завоевания свободы – вот в чем вопрос. Важно укрепить роль интеллигенции. Я сделал предложение российским властям. Полагаю, значение моего предложения поймут: оно существенно для становления гражданского общества.
– Какое же предложение?
– Российская государственность должна недвусмысленно сделать акцент на усилении роли интеллигенции в обществе, – сказал Ефим Шухман.
– Однако ты резко выступил. А они что?
– Как всегда: общие фразы!
– А ты?
– Тогда я внес предложение. И отказаться им будет трудновато.
– Говори!
– В России требуется учредить государственный праздник – День интеллигента.
– Так прямо им и сказал? Открытым текстом?
– Чего мне бояться? Я свободный человек.
– Думаешь, согласятся?
– Есть же День пограничника.
25
Как правило, художник пишет одновременно несколько картин. Иногда он думает, что пишет всего лишь один холст, а впоследствии оказывается, что написано много холстов. Так происходит не только потому, что нужно делать эскизы к большому произведению, но еще и потому, что диалектический способ рассуждения присущ рисованию. Всякое утверждение может быть оспорено – и всякая линия может быть проведена иначе. Домье осуществляет это внутри того же самого рисунка – он проводит пять вариантов линии. Пикассо случалось отставить один холст в сторону, чтобы на соседнем изобразить то же самое, но с иным чувством. Матисс менял холсты стремительно, чтобы во всяком следующем избавиться от подробностей. Известна серия рельефов Матисса, в которой он доводит упрощение формы до геометрического знака. Помимо контрастов и подобий, использованных внутри одной картины, художнику требуется другой холст, чтобы попробовать взглянуть на объект с противоположной точки зрения. Так возникают картины одного мастера, дополняющие друг друга по принципам контрастов: стога и соборы Моне, подсолнухи Ван Гога, групповые портреты регентов Франса Хальса.
Помимо прочего, художник полагает, что во всякой следующей работе оттачивает высказывание. Так, известно несколько вариантов «Едоков картофеля» Ван Гога, «Крика» Эдварда Мунка, бесчисленные версии горы Сен-Виктуар, написанные Сезанном, три схожих «Петра и Павла» работы Эль Греко, почти неотличимые друг от друга портреты Лютера кисти Кранаха.
Помещение картин на рынок привело к тому, что большинство художников пишут одну и ту же картину много раз подряд: не счесть схожих меж собой пейзажей Аверкампа или Ван дер Нера; никто и никогда не определит разницы между картинками Мондриана, на которых расчерчены квадратики, – холсты рознятся как денежные купюры разного достоинства. Рассказывают, что циничный пейзажист Айвазовский писал один морской пейзаж с единой линией горизонта, а потом резал холст на части. Энди Ворхол сделал серийность принципом художественной деятельности. Это имеет прямое отношение к коммерческой стороне вопроса.
Однако основная причина того, что художник пишет несколько холстов одновременно, иная. Картина по определению призвана представлять весь мир и до известной степени замещать его. Художник инстинктивно чувствует, что одно произведение этого сделать не может – просто потому, что холст маленький, а мир большой. Иконописцу было легче: икона висела в соборе. Мондриану мнится, что если он нарисует сто холстов с квадратиками, то высказывание станет намного полнее, мир, если можно так выразиться, наполнится квадратным смыслом, поверит в геометрию. Ворхол полагает, что десять изображений Мэрилин Монро жизнеспособнее, чем одно. Матисс считает, что пять холстов с красными рыбками выразят мир красных рыбок полновеснее, чем один холст. Это рассуждение сродни тому, по которому толпа представляет человечество в большей степени, нежели один человек. Требуется большая самоуверенность этого одного, чтобы полагать свое мнение более ценным, чем мнение многих. И не всякий художник (даже брутальный и дерзновенный в жестах) этой уверенностью обладает. Всегда проще написать десять вариантов, нежели один. Проще высказать десять суждений, чем одно. Известно, что Сезанн страдал от неуверенности, оттого что не знал, как закончить холст и сделать его единственным; последующие поколения возвели его неуверенность в принцип.
Художник должен помнить о работе Брейгеля, оставившего немного холстов, каждый из которых уникален. Плафон Сикстинской капеллы существует всего один. И это не оттого, что у Ватикана не нашлось соседней капеллы, которую можно было бы расписать, но оттого, что общий порядок вещей – один. Существует много вариантов поведения, есть много различных интонаций речи, в мире бесчисленное разнообразие образов, но основная идея мира, та, что позволяет различать добро и зло, – одна. И если художник этого не понимает – он не может рисовать.