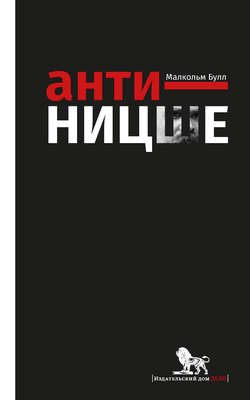Читать книгу Анти-Ницше - Малкольм Булл - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Филистерство
Одиссей или Сократ?
ОглавлениеНесмотря на предложенный Хабермасом анализ ницшевской линии в «Диалектике Просвещения»[76], влияние «Рождения трагедии» на обсуждение Диониса и сирен у Адорно и Хоркхаймера остается непроясненным. В первом разделе «Рождения трагедии» Ницше приводит образ из Шопенгауэра: «Как среди бушующего моря, с ревом вздымающего и опускающего в безбрежном своем просторе горы валов, сидит на челне пловец, доверяясь слабой ладье, – так среди мира мук спокойно пребывает отдельный человек, с доверием опираясь на principium individuationis»[77]. С точки зрения Адорно и Хоркхаймера, пловца или морехода воплощает в себе Одиссей, приключения которого подтвердили ему самому «единство его собственной жизни, идентичность его личности», тогда как сирены представляют одну из «сил распада», которые заманивают индивида обратно в «лоно» «архаического мира»[78]. Поскольку, по Ницше, «лишь исходя из духа музыки, мы понимаем радость уничтожения индивидуальности вообще»[79], в пении сирен легко распознать песнь Диониса, которая «не обращает внимания на отдельного человека, а, напротив, стремится уничтожить индивида и спасти его в мистическом ощущении единства»[80]. Приглашая субъекта подчинить свое «я» природе, сирены воспроизводят то, что Ницше называет дионисийским кличем природы: «Будьте подобны мне! В непрестанной смене явлений я – вечно творческая, вечно побуждающая к существованию, вечно находящая свое удовлетворение в этой смене явлений Праматерь!»[81].
Одиссей, в «страхе утратить самость»[82], затыкает уши своих моряков воском и заставляет их привязать его канатами к мачте своего корабля. И хотя его завораживает отравляющая сладость пения сирен, он не способен на нее ответить. Следовательно, по мысли Адорно и Хоркхаймера, пение сирен, их чары «нейтрализуются, превращаясь в предмет созерцания, в искусство»[83]. Когда удалось совладать с искушением реакции, состоящей в самоуничтожении и причастии, дионисийская музыка сирен превращается в аполлоновский предмет индивидуальной оценки, в безобидный концерт. Таким образом, по словам Адорно и Хоркхаймера, «Аполлонистический Гомер» создает связь между искусством и индивидуацией[84].
Если прочитать интерпретацию сирен у Адорно и Хоркхаймера как переделку «Рождения трагедии», станет ясно, что сопротивление Одиссея сиренам – это аналог отвержения Сократом дионисийского начала. Ницше сам проводит эту параллель в «Веселой науке», где говорится, что наличие «воска в ушах» стало условием философствования, поскольку после Платона «настоящий философ уже не слышал жизни, поскольку жизнь есть музыка», опасаясь того, что «всякая музыка есть музыка сиен»[85]. Философ ставится в положение гребцов, которые глухи не к красоте музыки сирен, а к музыке вообще. Тогда как Одиссей остается восприимчивым к красоте пения сирен, однако он может действовать лишь так, словно бы он ее не воспринимал. Он заставляет себя сопротивляться самому эстетическому; он буквально привязан к филистерской позиции[86].
По Адорно и Хоркхаймеру, Одиссей – это прообраз капиталиста, который отнимает у своих работников надежду на счастье, неизменно обещаемое эстетическим, но в то же время принуждает самого себя к безразличию, дабы поддержать эффективность своего предприятия. Однако канаты, которыми Одиссей привязан к мачте и благодаря которым он может господствовать над природой, также замыкают его в чисто механическом мировоззрении: согласно Адорно и Хоркхаймеру, «сегодня машинерия изувечивает людей, даже когда вскармливает их»[87]. Это всецело арнольдовская концепция филистерства. Так же, как Одиссей был привязан к мачте своего корабля, викторианские филистеры у Арнольда находились «в кабальной зависимости от машин»[88], будучи привязанными к убеждению, что порождение богатства – это самоцель; гуманисты могут «отвязать себя от машин», однако филистеры не способны уклониться от своей озабоченности «промышленной машинерией, властью и превосходством»[89].
Используя арнольдовский образ филистера, внешне ограниченного путами его собственного приготовления, Адорно и Хоркхаймер способны переписать ницшевский нарратив из «Рождения трагедии», выстроив его вокруг истории Одиссея. Но в результате они теряют одну из важных идей Ницше. По Ницше, внешнее ограничение – это следствие филистерства, а не его причина. В противоположность Одиссею, Сократ – это филистер, чья сила сопротивления приходит изнутри: «Если у всех продуктивных людей именно инстинкт и представляет творчески-утверждающую силу <…>, то у Сократа инстинкт становится критиком». Когда его даймоний говорит, он всегда разубеждает: «Инстинктивная мудрость проявляется в этой совершенно ненормальной натуре только для того, чтобы по временам оказывать противодействие сознательному познанию»[90]. Даже если его последователей со временем «пленяет сократическая радость познания»[91], сам Сократ не привязан к машинерии господства, он, напротив, тот, через кого дух отрицания говорит свободно и самопроизвольно, как через Силена. Ему ничто не мешает ответить на музыку Диониса, он просто освобожден от самого влечения к такому ответу.
Конечно, Ницше, не успев создать это чудовище, филистера, тут же стремится его приручить. Возможно, Сократ отвергает искусство, однако ненасытная страсть сократизма к знанию, «гонимая вперед своим могучим бредом, спешит неудержимо к собственным границам – здесь-то и терпит крушение ее скрытый в природе логики оптимизм»[92]. Мудрость Сократа неизменно ведет обратно к его двойнику, Силену. В таком случае искупление проглядывает в утопической фигуре Сократа, занимающегося музыкой, Одиссея, который может безбоязненно петь вместе с сиренами. Однако, несмотря на все свои заявления, будто филистерство вновь создаст потребность в искусстве, Ницше, в отличие от Адорно и Хоркхаймера, никогда не смешивает неудовлетворенное желание искусства с отсутствием такового желания. По Ницше, нехватка желания искусства – это разрушительная сила, которая со временем воспроизведет те самые условия, в которых первоначально искусство как раз и стало необходимым, и хотя он надеется на иное эстетическое искупление, это не значит, что разрушение искусства само по себе составляет такое искупление или даже взывает к нему. В Сократе филистерство принимает форму прямого и самопроизвольного отрицания; в отличие от Одиссея, он оказывается образцом того, кого Ницше однажды саркастически, но при этом, быть может, пророчески окрестил «филистером как основателем религии будущего»[93].
76
Habermas J. The Entwinement of Myth and Enlightenment: Rereading Dialectic of Enlightenment // New German Critique. 1982. Vol. 26. P. 13–30.
77
РТ. С. 27.
78
Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика Просвещения. М., СПб.: Медиум, Ювента, 1997. С. 49–50.
79
РТ. С. 99.
80
Там же. С. 28.
81
Там же. С. 99. См. также: Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика Просвещения. С. 49.
82
Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика Просвещения. С. 50.
83
Там же. С. 51.
84
Там же. С. 64 (Адорно цитирует Ницше).
85
ВН. С. 570.
86
См.: Jameson F. Late Marxism: Adorno, or, the Persistence of the Dialectic. L.: Verso, 1990. P. 151–154.
87
Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика Просвещения. С. 55.
88
Arnold M. Culture. P. 50.
89
Ibid. P. 71.
90
РТ. С. 83.
91
Там же. С. 105.
92
Там же. С. 93.
93
НР. С. 25.